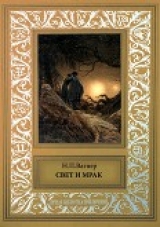
Текст книги "Свет и мрак
Сборник фантастических повестей и рассказов"
Автор книги: Николай Вагнер
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 21 страниц)
Знание ему служило только средством. Он не был педантом. Никакие знание не завлекли бы его, если бы он в них не искал разрешение вопросов, которые его неотступно мучили. Это была голова, которая постоянно работала. В то время, когда нас занимали самые обыденные впечатление, пошлые раздражение нервов, он уже думал, его занимала сущность вещей, их тонкие отношение друг к другу.
С ранних лет он был одинок. Оттолкнутый в семье, смешной, уродливый, он не знал никакой привязанности. Его натура должна была замкнуться в самой себе и, вместо ощущений, разгадывать их и объяснять, задумываться над их причинами. Он умел подавить в себе зависть и найти сострадание к людям. Он ясно видел, сознавал их недостатки, пороки, слабости; он видел, что весь этот балласт мешает людям идти вперед, миру развиваться, и признал законность и необходимость этого пути. Он понял, что люди не могут вдруг избавиться от этого груза и, сбросив его, устроить свою жизнь, хотя немного лучше. Он искренно и глубоко сожалел их, как маленьких детей, которые сами не понимают своего добра и плачут, когда им советуют не трогать огня. Дойдя до этой точки, он еще более почувствовал свое одиночество: он ясно понял, что он чужой для всех, что он перерос всех чуть не целой головой и видит впереди то, что другим заслоняют их собственные головы. Он вышел вон из века, из условий толпы, из требований даже передовых масс. Мало-помалу он привык к своему одиночеству; оно перестало пугать его. Тогда он весь погрузился в один вопрос, который поглотил его всецело: что будет с людьми в неопределенном, далеком будущем?
Разрешать такие вопросы для всякого другого было бы безумием, ребячеством; но Ольд-Дикс мог жить только этим разрешением. Он понял, что для него было необходимо знание, что только при свете фактов можно найти сколько-нибудь удовлетворительный ответ в этом темном вопросе и он с жадностью искал этого знание.
Разумеется, на первом месте здесь стояли естественные науки. Он понял, что только в естествознании, в исследовании тех законов, которые управляют миром, можно найти разгадку. Здесь он проштудировал и изучил все, что входит в кодекс знание и в этой области мог конкурировать со всяким Гумбольдтом. Правда, он обходил обыкновенно мелочные знание, но нередко ему приходилось останавливаться именно на них. Там, где дело касалось мелочных свойств материи, где в этих свойствах скрывались в отношение, из которых вытекали законы, там он погружался в щепетильные, мизерные факты, изучая, до каких геркулесовых столпов может доходить делимость материи. Он пришел к убеждению, что мир идет вперед, постоянно расщепляясь в своих атомах, и что цель этого расщепление – боле сносное соединение атомов, со всеми элементами мироздание.
Как ни темно было это объяснение, он принимал его на веру – притом его теория, по основному вопросу, который он разбирал, вовсе не шла так далеко. В этой теории он вывел закон, на основании которого строились все его предположение. В силу этого закона, в природе, а, следовательно, и в целом мироздании, не было ничего одиночного, отрывочного. Все развивалось одно из другого. Вследствие этого, по двум известным находилось неизвестное. Было дано statu quo материала, был дан путь его развития, выведенный из прошлого, надо было найти то, что выйдет в конце этого развития.
Многие нашли бы эту работу сумасбродною. Но Ольд-Дикс не испугался ее. Он сперва испробовал ее силу. Он постарался предсказать самые обыденные, ближайшие факты. Предсказание оправдалось, факты явились как бы в подтверждение его теории. С этих пор он шел в ней не стесняясь. Люди серьезные, идущие осторожно шаг за шагом в области знание, сочли бы такую работу мечтой утописта, но Ольд-Дикс и был именно мечтателем. Отказаться от своей мечты для него было равносильно смерти. Как сумасшедший с своей idee fixe, он не расставался с этой мечтой. Он жил только ею.
Его нельзя было назвать ученым. Он сам не добыл ни одного научного факта. Правда, рассматривая чужие работы, он сделал из них множество выводов, множество сближений, которые ведут к общим теориям. Но такие работы он считал чем-то в роде hors d’euvres. Он был слишком fashionable для того, чтобы возиться где-нибудь в вонючей лаборатории с кислотами и всякими ингредиентами или самому делать физиологические опыты над лягушками. Ко всей этой возне он чувствовал отвращение инстинктивное и неодолимое. Притом он понимал, что на этом пути он должен превратиться в мелочного работника, сделаться специалистом, добиваться открытий в каком-нибудь факте, что вовсе его не интересовало.
Во время нашей жизни в Импшайре, он занимался и тешился как ребенок научными предсказаниями. Почти каждое утро он являлся ко мне с новыми №№ ученых журналов. Он показывал мне какие-нибудь работы, толковал их и затем предсказывал дальнейшее развитие этих работ и их результаты. И действительно, следующие книги журналов почти всегда подтверждали его слова.
– Что ты ничего не печатаешь? – спрашивал я его.
– К чему?!.. Разве мало их, этих печатников. Неужели мои мечты, мои горячие мечты должны быть высказаны печатно? Разве они что-нибудь прибавят или убавят из существующих работ. Моя теория?! Да! Это кое-что!.. Но знаешь ли, эта теория мне самому иногда кажется не более как пустым увлеченьем. Она связана, срослась со всем моим существом. Когда мой организм здоров, бодр и деятелен и моя теория мне кажется неопровержимой аксиомой, когда же находит на меня нервное расстройство, сплин, тогда все шатается внутри меня. Дух сомнение не дает мне покой и тогда бледнеет, и шатается все, что стояло твердо и казалось таким незыблемым.
Впрочем, он напечатал целую книгу. Это была теория отдаленных доказательств. Книга носила на себе отпечаток оригинальности, как и все в Ольд-Диксе. Она представляла целый трактат, строго выдержанный и везде подвергнутый математическому анализу и доказательствам. Но книга не пошла. Одни сочли ее слишком темною, другие удивлялись, как можно браться за такие вопросы и ставить метафизику или логику на почву математических доказательств. Автору она не принесла никакой известности и была скоро забыта.
III
Я представил Ольд-Дикса, Джона Сюррисбюри, баронета, всей нашей компании. Он любезно поздоровался со всеми. Полюбовавшись на заходящее солнце, причем Антонио продекламировал стихи умирающей любви, – мы отправились по соседству на одну замечательную виллу.
Она была заброшена и южный климат вскоре превратил ее в целый лес. – Деревья и кусты разрослись. Дикий виноград и плющ оплели их. В Италии так редко можно встретить заброшенный, не культивированный угол, что эта вилла, предоставленная собственным силам природы, представляла особенный интерес. Ольд-Дикс тоже полюбопытствовал взглянуть на этот одичавший уголок, и мы отправились. По дороге наша компания составила довольно порядочный хор. Свежие и звучные итальянские голоса звонко раздавались в вечернем воздухе и оглашали окрестности ноктюрнами Спонтини.
Мы подошли к массивным воротам, построенным во вкусе Растрелли, с массивными кариатидами. Сад уже отсюда показывал свою дичь. Ветки кустов разрослись, оплели всю решетку и свешивались над воротами, которая были отворены настежь. Мы вступили в тенистую аллею, заросшую травой. Сквозь деревья угрюмо смотрел дворец, с мраморным перистилем. Запустение оставило повсюду свои мрачные следы. Человек здесь отдал недумающим силам природы свое жилище – и они заменили цивилизацию, придав этому жилищу суровый, романический характер. Как-то странно рисовались все эти деревья и кусты в светлых, еще несгустившихся сумерках вечера. Как исполинские образы, вставали они перед нами, неприбранные, раскиданные. Как будто тени прошлого, блестящего времени, окружали нас и сожалели о нем. Летучие мыши крестили воздух по всем направлениям.
– Пойдемте отсюда– вскричал Панчери, – я не люблю этой заброшенной природы, в особенности в сумерках. Она наводит уныние. Здесь как будто ближе подходишь к простым силам бытия, чуждым цивилизации и наслаждение. Здесь чувствуется покой грубой стихийной силы, гробовая тишина…
Проговорив это, он остановился на аллее. Мы тоже остановились, недоумевая: погружаться ли нам глубже в этот сырой сумрак заброшенного сада? В боковых аллеях стоял непроглядный мрак и среди ярко белели заброшенные, мраморные статуи: некоторые из них лежали уже на земле… И вдруг свершилось чудо! Дом весь осветился. Широкие полосы света полились из окон и далеко осветили сад. Мы переглянулись с недоумением.
– Разве здесь кто-нибудь живет? – спросил Хуарос.
Но нет, эта вилла уже двадцать лет, как заброшена, как будто владелец забыл о ней. При этом синьора Анунциата рассказала целую трагическую историю об этом заброшенном саде.
Недоумевая, мы смотрели на окна. Свет был обыкновенный, но нам казался он фосфорическим. Какие-то тени мелькали в окнах.
– Это верно духи, тени бывших владельцев виллы, – проговорил Антонио.
– Кто бы это ни был, – вскричал я, – мы это непременно узнаем!.. – И я храбро двинулся вперед. За мной пошли Ольд-Дикс и Антоний. За нами нехотя последовала остальная компания.
Мы вышли из тенистой аллеи на большую куртину, усаженную кустами розанов, которые все были в полном цвету и сильно благоухали. В средине клумбы снова была дичь: огромные кусты, нависшие, разбросанные, переплетенные, опутанные диким виноградом. Из-за этой клумбы дом представлялся во всем его блеске, сверкая множеством огней. Мы подошли к нему. На балконе отворилась дверь и на него вышла какая-то женская фигура, невысокая, но стройная, и оперлась на перила. Свет ярким пятном упал сзади и резко выделил ее черным силуэтом…
Я вздрогнул.
Эта фигура показалась мне близко знакомою. Неужели сегодня день бесконечных сюрпризов и я должен встречать милые, дорогая лица!.. Да! Это она…
– Джулия!.. – вскричал я, бросаясь к балкону. – Она быстро поднялась, затем еще быстрее вскочила на перила балкона и оттуда, прямо со второго этажа, с трехсаженной вышины, с криком: «Эдгард мой! Эдгард!» бросилась ко мне на шею…
Ольд-Дикс и Антоний поддержали нас.
Она целовала меня со слезами. Что ей было за дело, что мы не одни, что на нас смотрят. Ах, вы не знаете, что это была за женщина!
Представьте себе целое море страсти, бурное, бешеное, с его бездонной глубиной, неукротимое, изменчивое, капризное. Целая жизнь ее была одним непрерывным волнением – жаждой неги, наслаждений, очарований жизни. Она упивалась ими и ей все, все раздражение казались слишком бедными. Как будто всеми этими волнениями она хотела залить пламя, которое постоянно кипело и волновалось внутри ее. Когда она бросалась в омут наслаждений, невозможно было не идти вслед за ней, не поддаться ее влеченью. Это был какой-то стремительный поток, волнующийся, бешеный, все захватывающий и выбрасывающий целые каскады блестящих искр и всяких обломков. В Ницце она увлекла молодую девушку; она напоила ее всеми волнениями страсти, и несчастная истаяла среди вихря увлечений. В Милане она захватила чудного юношу, цветок миланской аристократии, и через три недели схоронила его без сожалении, играя и смертью точно также, как жизнью. Она устроила гомерически роскошные похороны, соорудила целую аллегорическую процессию. Почти весь Милан шел за гробом, участвуя в этой безумной, похоронной тризне.
К счастью или несчастью, судьба ей дала средства для такой жизни, ее богатство можно назвать баснословным и, во всяком случае, неистощимым. Единственная наследница богатого английского банкирского дома, она проматывала без контроля и сожаление все, что в течение нескольких веков накопили целые поколение, расчётливые, экономные, умевшие солидными оборотами наживать деньги.
Плод свободной любви – дочь сэра Стэндфорта, увлёкшегося и женившегося на итальянке, она была совершенно независима. С самого детства, чуть ли не с пеленок, она не признавала над собой никакой власти. Случай, каприз были единственными ее повелителями. Отец, тетка, потом опекун старались выработать из нее созданье, покорное условиям цивилизации, общественности. Все напрасно. Она рвала всякую узду, которую надевали на нее. С бешенством ломала и била она все преграды и неслась в ту сторону, куда звала ее кипучая, страстная натура. Наконец, она была свободна от всех уз. Отец ее рано умер от аневризма, тоскуя по ее матери. Тетка махнула на нее рукой, опекун отступился, и Джулия закружилась в водовороте бешеной жизни, нестесняемой никакими условиями. Только случай спас ее от преступлений, к которым всегда влекут ничем не сдержанные страсти. Впрочем, может быть они и лежат на ее совести. Я знал ее всего только три года.
Мы встретились с ней случайно в Висбадене. Раз, вечером, я вошел в залу одного частного игорного дома. Что-то необыкновенное совершалось в ней в этот вечер. Толпа молча, неподвижно стояла вокруг стола. Эта тишина была поразительна – мертвая тишина, там, где было столько лиц. Позади первых столпившихся рядов, зрители стояли на стульях, и все жадно следили за перипетиями игры. Ни шороха, ни звука. Я с трудом пробился вперед. Там, около самого стола, напротив понтера, стояла женщина, гордо опершись на кресло. Ни одной ставки не раздавалось. Очевидно, здесь шел бой на смерть между кассой игорного банка и этой женщиной.
При взгляде на нее, я был поражен и глубоко пожалел, что я не художник. До того необыкновенно картинно было ее лицо и вся ее поза. Это лицо было олицетворенная страстность. Чудные, черные волосы, разметанные по плечам целым каскадом волнующихся кудрей; низкий, но прямой лоб. Раздувшиеся ноздри правильного тонкого носа; губы, выдавшиеся вперед, толстые, алые, страстные и гордо улыбавшиеся; горящие щеки и глаза. Кажется, не передаваемы были эти глаза! Под черными, неподвижными бровями – они горели и светились нестерпимым блеском. В них было что-то странное, магнетическое… Я оглянулся кругом и с недоумением заметил, что все взгляды, все глаза устремлены на эти страстные, пылающие глаза.
– Кто это? – спросил я моего соседа, чопорного немца.
– Это! – сказал немец, вытаращив на меня рачьи глаза. – Это! – он нагнулся к моему уху, как будто шептал мне какую-то тайну – это мисс Джулия Стэндфорт! – и, проговорив это, он еще более вытаращил глаза и несколько раз значительно кивнул головой.
– Туз червей! – произнес банкомет.
– Gewonnen! – вскричала Джулия и какая-то сатанинская радость засияла на ее лице. Груд бурно заколыхалась.
По всей толпе пронёсся глухой вздох. Все зашевелилось, все заговорили. В одно мгновенье гул наполнил всю эту залу. Одни смотрели с недоумением на банкира, другие на эту женщину. В глазах третьих была очевидная зависть. Большая часть стояла как бы испуганная, ошеломленная этим неслыханным событием.
– Funf Hundert Tausend! Potz Tausend! – шептали степенные немцы, дивясь неслыханному скандалу.
Тотчас же началась уплата. Кассиры развязывали пачки банковых билетов или звенели, пересчитывая золото. Какой-то господин взялся при счете помогать, и Джулия кивнула ему головой в знак одобрение и благодарности. Груды золота и банковых билетов передвигались к ней. Наконец, последняя сотня была сочтена, последняя пачка выдана.
– Все! – сказали кассиры…
– Все, – повторила она. Глаза ее дико блуждали кругом, на губах играла презрительная усмешка. Все смотрели на нее, как будто ждали чего-то, какой-то развязки. Золото, очевидно, притягивало, как магнит. Все инстинктивно, невольно жаждали получить из этой громадной кучи червонцев и банковых билетов. Она запустила в нее обе пригоршни и тискала ими бумажки. Несколько секунд обводила она глазами всю стоявшую вокруг стола толпу, и вдруг, с криком: «для желающих!» начала разбрасывать золото и билеты кругом по залу. Все были сначала ошеломлены этим безрассудством. Затем многие кинулись подбирать падавшие червонцы, и все разразилось неистовыми рукоплесканиями и криками «браво!» Все были наэлектризованы ее поступком. Теперь подбирающих оказалось гораздо больше. Каждый хотел получить хоть частичку, хоть воспоминанье от этого золотого дождя. Шум и крик сделались общими. Назади неистово дрались уже из-за золота, между тем толпа продолжала рукоплескать и кричать «браво!» Многие кинулись к ней, подхватили ее на кресле и с оглушительными криками понесли вон. Она захватила в подол горсти золота и продолжала его разбрасывать направо и налево, как безумный ребенок, потешаясь этой игрой. Сделался общий гвалт, одни приняли участие в этой овации, другие неистово дрались. Третьи, схватив канделябры, шли впереди процессии. Это была чудная, странная картина и посреди нее она, как неистовая вакханка, высится в дикой радости над всей этой толпой, хохочет и разбрасывает золото.
Вдруг, вместе с золотом, вылетел из ее рук платок. Многие бросились за ним, но он полетел прямо ко мне, и я ловко подхватил его и, пробравшись сквозь идущую толпу, подал ей. К удивленно моему, она схватила его вместе с моей рукой и, крепко стиснув ее, смотрела на меня своими огненными глазами.
– Mon beau chevalier – atrappe! – шепнула она…
Я не мог оторвать от нее глаз, от этой безумной, вакхической, сверкающей красоты, и мы двигались вместе с шумевшей и волнующейся толпой, среди ее неистовых криков.
На другой день полиция вмешалась в это дело и обязала Джулию подпиской выехать из города. Вероятно, это было влияние кассы банка и обыгранная компания прибегла к этой понудительной, деспотической мере.
IV
Через два дня мы отправились с Джулией странствовать по Европе. Сколько неистовств, дурачеств, безумных оргий производили мы повсюду, где останавливались! Ей нравились восторг, удивление толпы. Она не могла жить, кажется, иначе, как в каком-то чаду, бреду постоянного опьянение, среди шума, блеска и безумных волнений.
Но вслед за этой горячкой страсти, за этим пароксизмом бешеных вакханалий, наступил упадок сил, полное изнеможение. Она лежала несколько дней, – недель, в каком-то оцепенении. Едва двигалась, с трудом говорила, едва понимала, что вокруг нее делалось. Никакие медицинские средства, никакая помощь не действовали. Затем это изнеможение проходило; силы снова являлись и вместе с ними возвращался наплыв жажды безумных удовольствий. Сколько раз я старался удержать ее от этой сумасшедшей и пагубной страсти; но разве можно удержать волну, когда она, поднявшись во весь рост, вся покрытая пеной, несется вперёд на скалистый берег чтобы с рёвом и гулом бешено разбиться в брызги о громадные камни.
Мы прожили с нею около трёх лет. Наконец, измученный, усталый, я с глубоким сожалением должен был оставить этот вулкан страсти, чтобы хоть немного отдохнуть, успокоить мои дрожавшие нервы. Она, кажется, была сама рада этой разлуке. В припадках устатка и изнеможение, она постоянно гнала меня прочь, как бы чувствуя, что эта опьяняющая жизнь может только погубить нас обоих.
И вот, теперь мы снова свиделись так неожиданно. Всякий благоразумный человек на моем месте бежал бы прочь от этой женщины, как от смертельной заразы; но разве есть узда для страстей и можно ли остановить то влечение, которое нас тянет в открытую бездну. Кто раз отведал из кубка бешеных наслаждений (и каких наслаждений!), тот уже не может забыть их и снова не возвратиться к ним. Одна мысль, что мы опять вместе, что я снова нашёл эту чудную женщину – опьяняла меня и заставляла забыть все, самую жизнь. Весь дрожа, я не выпускал ее из моих объятий, а она, как маленький ребёнок, постоянно болтала отрывочные фразы и постоянно смеясь, сквозь слезы, целовала меня…
Я представил ей всех, и она так крепко, восторженно жала всем руки. Потом, быстро оставив меня, захлопала в ладоши и на этот зов из дому высыпала целая толпа прислуги. Впереди всех бежал низенький, толстый человек, лысый, с подобострастной, улыбающейся, чисто итальянской физиономией.
– Ессо, ессо, eccelenza! Que commanda, eccclenza? – бормотал он на бегу.
Джулия подбежала к нему.
– Синьор Скорци, я хочу, чтобы у меня был праздник, сейчас праздник, сию минуту праздник! Una gran festa. Свечей больше сюда, газу, огней, иллюминацию; чтобы весь сад был иллюминован, весь! Музыку, непременно музыку. Фейерверк! Больше шуму, больше грому. Зови сюда народ! Пусть все веселятся, потому что мне весело. У меня сегодня большое веселье!.. Una grandissima festa! Живо! Живо! Скорее!..
И, схватив меня за руку, она пригласила жестом всех идти за собой. – Идемте, идемте, дорогие гости! – говорила она и быстро шла во дворец…
– Signora! tanto attentione! – говорил Панчери… – и для нас было так неожиданно – questa е una miracula. Мы думали осмотреть необитаемую, заброшенную виллу, и вдруг находим в ней радушный прием…
– Я купила эту виллу. Мне необходимо было уединение, и я поручила найти мне где-нибудь дикий, заброшенный уголок. И живу здесь отшельницей и… ужасно скучаю… но теперь, теперь… – вскричала она с дикой радостью, – вся скука, горе, усталость прочь теперь, я хочу пировать, играть жизнью!.. – И она повелительно взмахнула рукой.
Мы вошли во дворец; это был старый, заброшенный, полуразрушенный дом и стоял во всей мерзости запустения. Потемнелые, испятнанные стены отсырели, потрескались; во многих местах штукатурка свалилась и лежала неприбранною на полу. Везде была пыль, сор. Обои, полинялые, пожелтевшие, висели кусками. Громадные, правильные, темные пятна показывали места, где когда-то висли картины, а мраморные постаменты – что на них стояли вазы или статуи. Мебель, когда-то богатая, золоченая, теперь полиняла; обвивка как будто местами истлела. Продырявленные гардины унылыми лохмотьями свешивались с окон, огромные зеркала тускло смотрели сквозь целые слои грязи, вовсе не отражая предметов. Потрескавшийся, мраморные пол представлял огромные щели. Весь почернелый, покрытые огромными пятнами, он казался сложенным из неотделанных кусков темной лавы. Всюду поражало запустение и безобразие оставленного, заброшенного жилища. Повсюду был затхлый, мертвенные запах. Две тощие летучих мыши с писком летали по залам. Огромные паутины свешивались с потолка и целая, длинная анфилада комнат, роскошно убранных, стояла в забросе и разрушении.
– Вот мое жилище! Ессо lо! – говорила Джулия. – Неправда ли, оно похоже на гроб, в котором гниет мертвец. Эй, Бертуччио, Джованни! Ты… как тебя зовут… Живо, чтобы все это было прибрано. Долой пыль и плесень, и больше, больше огня! Затопить все камины, кажется, здесь сыро… – И она сделала нервное движение плечами… И тотчас целая ватага слуг бросилась убирать комнаты.
Мы пришли, наконец, в угловую комнату, в которой было жилье. Здесь было такое же запустение, как и везде, но по крайней мерз в нее не было сору и пыли.
Здесь нас встретил монах с иезуитским взглядом, подозрительно смотревший и угрюмо отвечавший на наши поклоны.
– Вот моя Padre Anselmo. Dolcissime Padre – говорила, смеясь, Джулиа – покаяние кончено, теперь начинается масленица, é viva allegrezza.
Монах злобно посмотрел на всех нас, как коршун, у которого изо рта выхватывают лакомый кусок. Очевидно, он воспользовался минутами изнеможение и упадка Джулии и накрыл ее врасплох. Но едва ли она и в эти минуты искренно отдавалась раскаянию и не забавлялась на счет Падре Ансельмо, тогда как он думал, что потешается над своей жертвой. Воспользоваться состоянием в несколько миллионов было весьма заманчиво для Падре Ансельмо и Кo и он занимался этим делом с большим старанием.
Между тем, приказание Джулии начали понемногу исполняться. Явился опять тот же оркестр странствующих музыкантов, который играл нам на вилле Scrozi. Синьор Скорци, весь запыхавшийся, красный, говорил, что эта музыка только временная и что он послал уже во Флоренцию за большим оркестром, что он тотчас же явится. – Subito! Subito! Но это будет стоить немного дорого для Eccelenza, un milliajo lire, una mille, и он вытягивал вперед свой толстый палец с треснутым ногтем.
В саду началась иллюминация. Плошки, разноцветные фонарики зажигались повсюду. Очевидно их не жалели. Все разметанные, разросшиеся деревья были унизаны ими– и сад заблестел тысячами огней. Везде на куртинах, в клумбах загорелись бенгальские огни, придавая зелени какой-то фантастический, сказочный вид.
Вместе с огнями, появился и народ. Кажется, ему не откуда было бы взяться здесь за городом, на виллах, но он шел из ближних и дальних деревень, отвсюду, вырастал из земли. «Festa! Una gran Festa!» проносилось в воздухе, и везде по дорогам и тропинкам спешили, бежали толпы, торопясь, как на пожар, боясь опоздать или пропустить такую серьезную, важную вещь, как una gran Festa. Сад оживал, наполнялся толпами. Повсюду раздавался говор, неумолкаемые гул и крики мальчишек. Летучие мыши, испуганные этим небывалым движением и шумом, высоко роились в воздухе над миллионами огней…
Наконец, вот и оркестр. Он остановился у входа во дворец, чтобы проиграть своя приветственный ритурнель.
А Джулия, вся блестя восторгом, одушевлением, носилась всюду. Она шутила, смеялась, сыпала остроты, шалила, как дитя:
– Достопочтенные синьоры! – болтала она, – мы все с вашего позволение на нынешний вечер будем переименованы. Синьор Эдгард будет Джулия, я – синьор Эдгард, почтенные Баронет будет дон Диего Хуарос, не менее почтенные дон Диего Хуарос будет баронетом, Падре Ансельмо будет синьором Антонио, синьор Антонио будет реверендиссиме Padre Anselmo.
И она хохотала и хлопала в ладоши, как безумная. Все, увлеченные ее веселостью, отвечали ее тем же. Все, казалось, были влюблены в нее. Даже синьоры Дольчи были поражены этой безумной веселостью.
– Чудесно! великолепно! – кричала она. – Мы оденем Padre Anselmo в мое платье.
Падре Ансельмо вздумал возмутиться и протестовать против такой профанации.
– Как! – вскричала она, – вы не хотите этого сделать для меня, для общее веселости? Скорци положи в мои карманы больше денег, biglletti del banco, десятки, сотни тысячи… и если Падре Ансельмо наденет это платье, то все деньги его!
Невозможно передать той игры физиономии, которая появилась при этом предложении на лице reverendissime Padre. Это была смесь унижение, гордости и отчаянной жадности. Мы взглянули на это лицо и разразились неистовым хохотом, а он улыбнулся и начал одеваться в платье Джулии, молча ощупывая карманы.
В большой зале, между тем, слуги накрывали стол на девять человек, великолепно сервируя ужин. В этой зале было светло, как днем. Огромные люстры горели тысячами свечей. Множеством канделябр и бра были увешаны запятнанные стены. Целая толпа осаждала залу из сада; тысячи глаз смотрели в окна. Оркестр гремел попурри из «Фаворитки». Двери распахнулись настежь, и сквозь целый строй почтительно стоявших слуг мы вошли в залу.
Оживление достигло maximum’а. Каждый был готов делать тысячу дурачеств. Все говорили, все смеялись, никто не слушал. Казалось, все были подняты этим общим весельем. Народ шумел, веселился и танцевал в саду. Мальчишки прыгали, кричали и кувыркались, как безумные. Даже слуги были веселы и с шутками подавали кушанье, a signor Скорци был олицетворенное веселье. Пот градом катился с его красного лица, с его лысого лба. Усы и эспаньолка ощетинились, он кричал и вертелся, как чорт, везде поспевая.
– Больше огня! – кричал он, – синьора любит огонь, музыканты, синьоры музикусы: Una tarantella mа con fuoco, con fuoco! Синьора любит tarantella… e viva allegrezza!..
В это время раздался оглушительный залп. Это начинался фейерверк. Десяток ракет взлетел на небо, с треском хлопая в вышине сильными форшлагами. Крики толпы превратились в неистовый рев: «bravo, bravo!» голосила она и покрывала рукоплесканиями выстрелы фейерверка. – Вот он! Una gran festa Италии!
Мы все вскочили из-за стола и вслед за бежавшей Джулией пошли на верхний балкон.
Вся оживленная, бушевавшая картина открылась перед нами. Тысячи огней, от которых зарево поднималось в тёмносинем небе. Беснующаяся толпа, постоянно хлопавшая в ладоши; толпа, озаренная бенгальскими огнями. Целые потоки бриллиантовых искр летели в небо. Огненный дождь падал с него. Фонтаны, швермеры, колеса прыгали, вертелись, сверкали чудовищными массами огня. Вся эта сияющая картина бешено раздражала нервы. Казалось, дух буйной оргии охватил каждого: начиная от грудного младенца до дряхлого старика. Толпа оборванная, грязная, в лохмотьях неистово веселилась, забывая свою голодную бедность и все невзгоды жизни. Это была паника восторга, бред наслаждение; ничего здесь не было разумного, ничто не походило на мысль. Шум, гром, крики, огни, какое-то бешенство простых, стихийных сил.
– Скорци, carissimo Scorzi! – кричала Джулия. – Денег, денег сюда! Какая же Festa без денег!..
– Subito, Subito, Signora! – и в одно мгновение несколько слуг тащут большие мешки, полные чентезимов. Джулия схватывает целые пригоршни их и с неистовым криком начинает бросать в толпу. С оглушительным ревом кинулись эти голодные звери на деньги, забывая об фейерверке, иллюминации и обо всем, что тешило их с минуту тому назад.
Джулия сама походила на бешеную вакханку. Она с каким-то самозабвением разбрасывала полные пригоршни медных монет и неистово кричала. Вдруг ее голос оборвался на самой высокой ноте. Она пошатнулась и, схватившись обеими руками за грудь, удушливо закашлялась. Я бросился ее поддерживать. Она закрыла платком рот и с полминуты судорожно кашляла и билась на моей груди. Праздник, по крайней мере на балконе, оборвался. Все притихли и с недоумением смотрели на этот припадок жестокого кашля. Наконец, он кончился. Джулия отняла платок от рта. Платок был в крови.
– Джулия! – вскричал я, – это сумасбродство, ребячество! Как можно так тратить жизнь… Ты не из железа!
– Нет, – прошептала она, тяжело дыша и улыбаясь сквозь слезы. – Я из крови, и она лезет наружу… И для нее gran Festa!.. Это фейерверк жизни!..
V
На другой день я перевез Джулию в город, где она наняла чуть не целый бельэтаж в albergo Gran Bretagna. Ею снова овладел один из припадков полного упадка сил, вероятно вследствие быстрого потрясение, перехода от подавленного состояние к бешеному возбуждению. Два дня она лежала в полном бессилии, едва двигаясь, с трудом произнося отрывочные фразы сквозь конвульсивно стиснутые зубы. Я разумеется окружил ее самыми изысканными заботами. К сожалению, во Флоренции, в прежнее время, нельзя было найти сколько-нибудь сносного доктора. Я случайно попал на добросовестного немца, который все леченье свел к предоставлению организма его собственным силам и организм восторжествовал над болезнью. На третий день, к вечеру, Джулия видимо окрепла; припадок исчез. Она встала, на лице выступила краска, на губах грустная улыбка, глаза тихо засветились довольством вернувшейся жизни. В такие минуты весь ее организм как будто перерождался. Она вся точно уходила куда-то внутрь, и там к чему-то чутко прислушивалась, что-то наблюдала, чего-то ждала. Брови ее высоко приподнимались, глаза смотрели кротко, задумчиво, неопределенно. На губах неподвижно стояла грустная улыбка. Даже склад, овал всего лица как будто изменялся. Вместо широкого с немного выдавшимися скулами– оно становилось таким вытянутым, – вытягивался нос и становился тоньше, вваливались щеки. Одним словом, это была другая Джулия. Но кто бы мог решить – в какие минуты она была лучше! В те ли мгновение, когда лицо ее зажигалось непобедимым вакхическим увлечением и сверкало ослепляющей, сладострастной красотой, или в эти минуты успокоение, когда необыкновенно милые тени грусти и думы ложились на это кроткое, доброе лицо. Ольд-Дикс, который заходил к нам по пяти раз в день, был поражен этой невиданной им переменой. Он высоко приподнял брови, как будто остолбенел, когда Джулия вышла к нему и с кроткой улыбкой протянула ему еще дрожавшую, похуделую руку.








