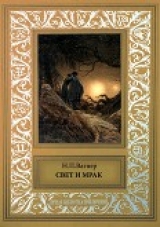
Текст книги "Свет и мрак
Сборник фантастических повестей и рассказов"
Автор книги: Николай Вагнер
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 21 страниц)
Гризли подводит его к молящемуся мальчику.
– Посмотри-ка, Гриша, – говорит Гризли: – он молится. Посмотри, какое у него доброе, прекрасное лицо.
– А зачем-же он голый? – недоумевает Гриша. – Ровно из бани!..
– Это ангельчик!.. Гриша!
– Ангельчик!.. а зачем-же вон в том углу смеется? Это тоже ангельчик? – спрашивает Гриша, указывая на амура.
– Нет, это амур.
– Ну, а если вон этот не будет молиться и засмеется, так он тоже будет амуром? – спрашивает он.
И Гризли вдруг поражает это сходство: «да почему же, – думает она, – я называла одного ангельчиком, а другого амуром?»
– Видишь-ли, Гриша, – говорит она, – амур – это бог любви, маленький такой божок, которому покланялись древние римляне, а ангельчик – это служитель Бога.
– Да чем-же они разнятся? – снова недоумевает Гриша. – Ведь энтот и вон тот все равно мальчики, оба голенькие и с крылышками. Разве ангельчик не может смеяться?
– Может, да не так, не таким смехом: ведь ты посмотри, Гриша, – и она схватывает его за руку и подводит к статуе, – ты посмотри, милый, разве может так смеяться ангельчик? Ведь это плут-мальчишка. У него смех и грех на уме. Он смотрит как бы созорничать. Разве же это ангельчик?!
Но Гриша не убеждается этой разницей.
– Нет, – говорит он, – я чай, тот мальчик может тоже смеяться.
Но Гризли не слушает его и увлекает дальше, увлекает в голубую гостиную, со стен которой смотрят большие потемневшие, старинные картины. Она показывает ему «Жертвоприношение Исаака». Из почернелого фона картины как-то странно, клочками, выдаются: часть тела Исаака, рука Авраама и половина лица ангела. Гриша ничего не понимает в этой картине, как ни толкует ему Гризли.
– Да зачем же Он велел зарезать, – спрашивает он, – ему сына?
– Затем, чтобы узнать, послушает он Его или нет!
– Да ведь Бог все знает! – Как же Он не знал, послушает-ли Авраам Его или нет?
– Ах, Гриша! Бог дает нам свободу делать так, как мы хотим. Как же Он мог знать: послушает Его Авраам или нет? Он хотел испытать, любит ли он Его больше, чем своего сына?
Гриша ничего не ответил. Он только отвернулся от картины и подумал: «как же Бог не знал, любит Авраам Его или нет?.. Ведь Он все знает!»
Гризли подвела его к Юдифи, и глаза её заблестели.
– Смотри, Гриша, смотри, какое чудесное лицо у этой женщины! Знаешь-ли? Она пришла в лагерь, в стан неприятеля. И полководец Олоферн пригласил ее отужинать с ним; она согласилась, а когда, после ужина, он заснул, то она взяла его меч и отрубила у него голову. Потом отнесла эту голову в лагерь, к своим иудеям. Когда противники увидали эту голову, то на них такой страх напал, что они сняли лагерь и убежали.
Гриша молча долго смотрел на вдохновенное лицо Юдифи, на темное лицо спящего Олоферна с оскаленными белыми зубами.
– Как же, – удивился он, – приближенные-то полководца не остановили ее? Значит, они были глупые или изменщики.
– Гриша, да кто же знал это? Она пришла такая красивая, молодая… Кто же мог подумать, что она решится на такой поступок!
– Да как же он не закричал! – удивился Гриша. – Ведь ему, чай, больно стало, как она начала голову-то рубить?!.. Нет!.. Это просто так… все враки одни!..
И он отвернулся от картины, заложил руки за спину и бойко двинулся дальше. Гризли подвела его к «Усекновению главы».
– Вот, вот, Гриша, посмотри сюда. Видишь эту святую голову. Ее отрубили, потому что женщина – вот эта– Иродиада – попросила, чтобы ее отрубили. Видишь: палач кладет эту голову ей на блюдо. Он – св. Иоанн – был праведный, любил правду, а мать этой женщины была злая, лживая; он обличал ее, бранил, и когда дочь её угодила царю своей пляской, и царь сказал: «проси, чего хочешь у меня, я все исполню», то она выпросила у него голову Иоанна Крестителя.
Гриша ничего не отвечал. Он только спросил:
– А это все иудеи были?
– Да, иудеи!
– Этакое чудо, – подумал он: —там женщина отрубила голову, а здесь для женщины отрубили голову.
– Они верно злые были? – сказал он, отвертываясь от картины.
– Кто?
– Да иудеи?
– Нет, они были великие. Это был великий Божий народ. Гриша, а злой был их царь Ирод и злая женщина Иродиада.
Гриша ничего не ответил, а молча прошел в другую залу, с темно-малиновыми обоями, в залу с большим окном в потолке, и это окно, прежде всего его удивило.
– Ишь ты, – проговорил он вслух, – окно-то в потолке! Это зачем же так?
– А так лучше, Гриша, когда свет сверху падает, а не с боков светит… Посмотри, какая прелестная группа этих юношей! – И она подвела его к гениям смерти и жизни. – Посмотри на этого, что сидит. Видишь, какой он грустный, печальный и опустил свой факел к земле. Это смерть; а другой – это жизнь; видишь, как бодро и гордо он поднял горящий факел к небу! Как он радостен!
– А что это такое хакел? – любопытствует Гриша.
– Факел, – поправляет Гризли, – это прежде в древние времена, у греков и римлян были этакие светильники, которыми все освещали.
– А как же вон у нас в церкви на стене написана смерть, что к монаху пришла, так там шкилет и с косой?.. А здесь вон вьюноша? Это, стало быть другая смерть?
– Другая, Гриша, другая! – говорить восторженно Гризли. – В ней нет ничего уродливого, пугающего, отталкивающего. Не правда ли, она не страшна? В ней много грусти, печали. Но она не страшна. Не так ли, Гриша? Ведь прежде лучше представляли смерть, чем теперь, не правда ли?
Но этот вопрос не укладывается в голове Гриши.
«Смерть – все равно смерть… – думает он. Вон мамка умерла, а кака смерть ее взяла: смерть ли с косой или этот вьюноша с хакелом, – не все ли равно! Умерла – и нет ее».
Но Гризли увлекает, уводит его в угол, к статуе Психеи.
– А за смертью вот что идет, Гриша, – вот смотри: другая, светлая жизнь! Вот эта милая девушка, что держит бабочку на руке… это душа человека. Она, как бабочка из куколки, выйдет из тела человека и упорхнет в небеса.
Но здесь представления Гриши окончательно запутываются.
– И у мамки такая же душа? – спрашивает он, указав на Психею.
– Н-нет, Гриша! Это душа всех вообще людей. Мы только воображаем, думаем, что душа человека должна быть такой же красивой, такой же легкой, как эта прекрасная девушка с легкой бабочкой.
– А платье на ней како?
– Это платье носили древние греки. Не правда ли, это красивое платье?
– Зачем же девушку в платье одели, а мужчин вон – все голых сделали? У греков разве мужчины не носили ни платья, ни рубахи?
– Нет, носили, но не всегда. Там тепло, в Греции, Гриша.
– И зимой тепло?
– Да, и зимой тепло!
– И не стыдно им без рубах ходить? – дивится Гриша.
Но Гризли увлекает его дальше.
«Как же мне это прежде не приходило в голову? – думает она. – Смотрела, любовалась на весь этот классический мир и видела в нем только одну красоту, мысль, правду и ничего больше. Нет, это просто – маленький, грязный дикарь, который не может еще видеть внутренней, духовной красоты».
– Гриша, – говорит она, когда они вошли в скромную, голландскую залу. – Гриша, люби красоту, как любили ее древние греки. Они не думали, в рубашке или без рубашки ходит человек, а думали о том, красив он или нет? У них во всем были строй и красота. И что может быт лучше красоты, Гриша? Это лучшее, что дал нам Бог Милосердый!
Но Гриша ничего этого не понял. Он осматривал штучный, мраморный пол и скромное убранство серенькой голландской залы, и небольшие картинки в черных рамках. Утреннее солнце ярко светило сквозь опущенные шторы, и вся зала смотрела приютно и покойно.
– А здесь нет статуй-то, – заметил он.
– Да! Но здесь есть чудные картинки. – И она подвела его к кабачку, перед которым пировали и плясали веселые мужички и женщины. – Посмотри, как им весело, как все они довольны! – сказала Гризли. – И на всех здесь картинках ты увидишь довольство, радость, покой…
– А красоты нет здесь? – спросил резко Гриша. – И рамы здесь все, значит, простые, черные, а там, значить, все красота и золото? – и он кивнул головой на другие залы.
Гризли посмотрела на него удивленными глазами.
– Да, красоты здесь нет! – согласилась она задумчиво… – Но не там красота где золото, Гриша!
И в первый раз в жизни ей стало грустно в этой приютной веселой зале. Она вдруг почувствовала, сознала ту пропасть, которая разделяет взгляд её и её названного брата. И ей стало тяжело, что она не может много объяснить ему, что у них даже самый язык разный. Машинально она подводила его к картинам, машинально толковала ему, а сама думала:
«Что же такое красота и что такое эта некрасивая, но довольная, приютная жизнь? Ниже или выше она красоты? Нет! – решила она: —красота – это выше жизни, это то, что является сверху, с вышины небесной, и приходит к нам случайно, обрывками. Но отчего же не было красоты в этих простых, грубых, великих, святых пастырях? Отчего?»
И она задумчиво, машинально взяв Гришу за руку, через небольшую галерейку вошла с ним в библиотечную залу. Здесь царствовал полумрак. Темные шторы были опущены, но сквозь открытые окна чувствовались жизнь и тепло летнего, солнечного утра. Тихо, таинственно тянулись ряды книг в дубовых шкафах. Таинственно смотрели бюсты с их вышины. Тихо, неслышно, по мягкому ковру вошли Гризли и Гриша – и остановились.
– Это что ж тако? – шепотом спросил Гриша. – Книги?.. Ровно аптека.
Гризли молча кивнула головой.
– Книги. Лучшие друзья человека… Они будут твоими друзьями, Гриша. Ты будешь читать, много читать.
– А это что же стоит на шкафах? – спросил Гриша, указывая на бюсты. – Тоже красота?
– Это красота ума, Гриша. Это высшая красота. Это те люди, которые много знали, а еще больше думали. Это те вдохновенные, которые указывали другим, как и куда идти?
«Да! – подумала она. – Есть две красоты: красота тела и красота ума. Нет, есть три красоты: есть красота сердца. И вот ее-то имели все они – эти простые великие, святые пастыри. О, она неизмеримо выше всего, что есть на земле!»
– А это что ж тако? – спросил Гриша, робко подходя к шкафчику, в котором сидела кукла-статуя женевского философа.
– Это память о том, в котором были в одно время красота ума и красота сердца, – сказала Гризли и растворила двери шкафчика.
Философ встал. Гриша испуганно смотрел на его неподвижное, лакированное лицо, на его безжизненные стеклянные глаза. И в самом движении этого мертвого подражания живому человеку чувствовалось что-то пугающее и уродливое.
– Закрой! – вскричал Гриша, покраснев. – Я не хочу смотреть на него.
Но когда Гризли послушно закрыла дверцы шкафа, и статуя, тихо поскрипывая, снова опустилась и села на стул, – Гриша взял руку Гризли и тихо прошептал:
– А ну-ка, открой еще!
Гризли снова открыла – и снова приподнялся философ.
– Как же это так сделано? – спросил Гриша, всматриваясь в куклу, с трепещущим сердцем и подходя сбоку к шкафчику.
– Там, Гриша, пружина – внутри. Когда дверцы отворят, то пружина эта поднимается и поднимает всю куклу.
Но Гриша не поверил. «Как же – подумал он, – когда дверцы отворяют, то пружина должна опускаться, а она поднимается?»
Гризли снова тихо закрыла шкафчик. Гриша усердно, пристально вглядывался и ничего не мог понять.
– Пойдем, Гриша, дальше, – сказала Гризли.
– Да ты мне растолкуй, как она так сделана? Дверцы растворяются – а он опускается?
– Не знаю, Гриша. Будешь читать книги и узнаешь, как это устроено.
«Отчего-же – подумала она – это до сих пор меня не интересовало? Или оттого, что меня занимала одна красота, а это просто – механика?»
– Но, дальше, дальше, пойдем, Гриша!
И крепко ухватив ручку Гриши, она повела его в угловую. Ей хотелось туда, где были жизнь и свет, – хотелось вон из этого полумрака. Там музыка. О! она непременно подействует на него; для него все станет ясно, и он поймет сердцем то, что не может понять умом.
Но до музыки еще долго не пришлось добраться. Гришу заняли и невиданные растения, и золотые рыбки, и в особенности фонтан, игравший серебряным шариком. Он дивовался и расспрашивал, откуда взялась вода и отчего золотые рыбки не водятся в наших прудах, и отчего большие цветы не могут цвести в наших лесах. И на все эти вопросы Гризли принуждена была отвечать одним досадным: «не знаю!»
Но вот она, наконец, за роялем. Она усадила Гришу подле себя, на мягком табурете. Она выбрала, казалось ей, самую легкую, для детского понимания, пьесу.
– Слушай, Гриша, – говорит она: – представь себе ночь, лес… Ведь бывал ночью в лесу?
– Один не бывал, – говорит Гриша, – а с мамонькой ходил. Раз мы заплутались.
– Ну, хорошо, слушай! Представь себе: по лесу едет ездок и на руках везет мальчика-сына.
И она начала быстрые, мрачные, мерно стучащие аккорды.
– Отец прижал мальчика к груди.
«Обняв его, держит и греет старик»…
Толковала Гризли, стараясь, чтобы в нежных переливах, перебивающих мерно-стучащий лошадиный топот, Гриша услыхал любовную заботу отца об его малютке.
«Что сын мой так робко ко мне ты прильнул?» – спрашивает отец, а сын, слушай, отвечает ему:
«Родимый! лесной царь в глаза мне сверкнул?»
– Видишь, он испугался. Слышишь, какой испуг в его словах? Слушай, слушай, Гриша, – теперь отец отвечает ему:
«О, нет! все спокойно в ночной тишине,
«То ветлы седые стоят в стороне».
– А что такое лесной царь? Это кто такой? – спрашивает Гриша. – Это леший, что ли?
– Ах, нет, Гриша! – и она перестала играть и закрыла лицо руками! – Видишь, у нас это леший, а там в Германии, это лесной царь. У нас это безобразный, мохнатый лесной человек, а там – красивый старик, весь в белом, с большой седой бородой и в светлой короне. Это чудный царь лесов… Но слушай, слушай дальше!
– А что значит: красивый старик?..
– Слушай, слушай!.. – говорит Гризли, прислушиваясь сама к чудному говору лесного царя. – Слышишь, как ласково говорит он с мальчиком:
«Дитя! оглянися! младенец, ко мне!
Веселого много в моей стороне.
Цветы бирюзовы, жемчужны струи
Из золота слиты чертоги мои».
А вот видишь, видишь, – заговорил опять сын. – Слышишь, как испуганно он говорит отцу:
«Родимый! Лесной царь к себе нас манит.
Он золото, радость и перлы сулит!»
А вот-вот опять спокойно, тихо отвечает отец:
«О, нет, мой младенец, ослышался ты!»
Но Гриша не слушает – ни что говорит сын и лесной царь, ни то, что отвечает отец. Давно уже, с первых аккордов, он был поглощен одним вопросом: что и как играет в этом громадном, кривом ящике на трех пузатых ногах? – Он тихо приподнялся, встал на колени и заглянул под крышку рояля.
В это время мальчик отчаянно всхлипывал. Звучали тонкие, жалостные, дискантовые нотки, – и вдруг, Гриша увидел, что под крышкой рояля прыгают какие-то куколки, с маленькими серыми головками.
– Гризли, Гризли! – заговорил он торопливым шопотом: – смотри, смотри туда! Это что тако прыгает там? Какие-то куколки. Ма-а-ахонькия!
Гризли сняла руки с рояли. Вся поэзия улетела; все радостное, восторженное, так высоко поднятое чувство довольства, наслаждения превратилось в озлобление: грусть тоску, разочарование. Она закрыла лицо руками, опустила голову на рояль и отчаянно зарыдала.
Гриша соскочил со стула. Он несколько мгновений растерянно стоял перед названной сестрой. Потом робко начал теребить ее за рукав платья.
– Гризли! Гризли! – допрашивал он. – О чем ты, Гризли? Тебе чего, скажи мне, родненькая моя, о чем?
И углы его носа начали подпрыгивать; рот искривился; он быстро, часто замигал и громко заплакал, утирая кулаком слезы.
Гризли откинула, подняла голову, схватила обеими руками руки Гриши и притянула его к себе.
– Не плачь, глупый, не плачь! Это так, пройдет. Видишь, я не плачу, все пройдет.
И она крепко поцеловала его.
– Пойдем, бежим скорее. Пойдем в сад, в парк. Туда, дальше от красоты.
И они побежали в сад, в парк. Солнечное утро, душное, жаркое стояло над вековыми дубами. Песок накалился. Косули спали в тени, и только птичник шумел и голосил нестерпимо…
Так голосит какой-нибудь кузнечик в сухой траве и, среди жаркого дня и общей томительной тишины, выводит свои бесконечные трескучие трели…
XI
Тучи плывут, тучи несутся на черных крыльях жаркой июльской ночи. Плывут они с севера, плывут с полудня, плывут, наплывают со всех четырех сторон света.
Страшно, тяжело в душном воздухе. Грозная тишина притаилась, молчит. Что-то зреет в её таинственной мгле?
Только порой порыв ветра проснется, набежит, взмоет целое облако пыли и снова уляжется.
Только порой какой-то зловещий, подземный гул и глухой рокот, где-то тихо, угрюмо прокатится и заглохнет.
Темная, черная ночь в старом доме.
Все мертво, застыло среди гробовой тишины.
Страшно, пустынно в большой зале, все молчит среди страшной, черной ночи.
Неслышно, из дальних комнат, из мышиных норок собрались, как маленькия тени, по углам огромной залы, старые мыши и крысы. Собрались, столпились и молча, чутко ждут, приложив уши: что будет, что свершится в таинственной ночной тишине, среди зловещего страшного мрака!
А в этом мраке, над самым паркетом, плывут, клубятся темные тени. Какие-то неуловимые образы тихо носятся, поднимаются, как облака тонкого дыма, встают– уродливые, безобразные, – выше и выше, растут и расплываются, как тонкий серый туман, как неопределенное стремление человека.
Из гостиной, так же как тень, является Гризли. Легким облачком пара, тихо плывет она, белеет среди мрака, и относятся от неё, уплывают, как от дуновения летучего ветерка, мрачные, безобразные тени.
Они протягивают к ней длинные, когтистые руки, но эти руки бессильно клонятся долу, закругляются и разносятся как хлопья тумана.
– «Слушай, слушай и умей понимать!» – тихо шепчут мрачные, высокие стены.
– «Слушай, слушай и умей понимать! – чуть слышно шепчут мрачные призраки!
– «Слушай, слушай, слушай и умей понимать!» – не глазами, но всем своим чудным движением, говорят прекрасные ангелы света.
И тихо загораются огни над их головами, загораются огни светочей, которые несут они.
И Гризли кажется, что едва заметный свет разливается от этих огней.
И чем дальше смотрит она, тем сильнее и сильнее становится этот свет. Вся зала проникается им. Он идет оттуда, сверху, с потолка. Но этого потолка уже нет. Он весь покрыт ровным, блестящим светом, а внизу еще чернее сумрак, и в этом сумраке борются темные тени.
Они силятся подняться к свету, но их когтистые руки бессильно тают, расплываются в этом свете. Он спускается каким-то светлым облаком, и в этом облаке Гризли ясно видит другие светлые образы.
Бот является целый сонм чудных дев, в длинных пеплумах. Их прекрасные, блестящие лица дышат одушевлением; их одежды светятся, сияют. Они идут в толпе чудных юношей с пальмовыми ветвями; и в середине их сияющий Феб, окруженный музами, спускается в лучезарной колеснице. О, какая красота! Непостижимая и неподражаемая красота.
Но еще блестящее нисходят сверху другие образы. Они прозрачны, совершенно прозрачны, как блестящий, сияющий воздух. В их лицах любовь и безмятежность соединились в чудной гармонии. Они светятся нестерпимым, но удивительно-приятным, нежным, ласкающим светом, и меркнут перед этим светом, погружаются в безобразную тьму, все красивые девы и юноши. О, это другая красота, высшая красота!
А там, выше, нисходит еще более светлое, блестящее облако, нисходит что-то неведомое, но желанное, влекущее.
И вдруг среди темной тьмы, внизу, слабо засиял какой-то тусклый, красноватый свет.
Гризли смотрит и не верит глазам. Нестерпимый ужас охватил её сердце. Там внизу, среди безобразных темных чудищ, стоит её названный брат – её Гриша. Он держит в правой руке чудовищный пылающий факел, и от этого факела быстро разлетаются, как летучие мыши, темные образы. Он высоко поднял факел; свет его коснулся чудных дев и красивых юношей. И задрожали, и побледнели прекрасные образы. Они слились в один густой, серый, тусклый туман. Еще выше поднял факел Гриша, и все расплылось, исчезло. Исчез целый мир красоты, исчез вместе с блестящим, сияющим Фебом.
У Гризли замерло сердце.
– Пусть исчезнет – прошептала она, – эта красота тела, красота земная! – И жадно следила она за факелом. Еще выше поднял страшный факел Гриша и потряс им в воздухе. Свет его коснулся тех дивных образов, которые стояли там, вверху, казалось, в недосягаемой вышине.
Образы поднялись еще выше и засияли нестерпимым блеском.
– Все должно очиститься в огне обновления, – проговорил глухо Гриша, и звук его голоса сухо отдался, как деревянный, во всех углах громадной залы.
Он еще раз потряс страшным факелом.
– «Умри мертвое! воскресни живое!» – произнес он громко и бросил факел.
С страшным громом упал он вниз; пламя его разлетелось с оглушительным взрывом, разбросалось на тысячу огненных языков, и все запылало.
Запылали стены, гений света, запылали темные образы и чудные девы.
Крик, гам пошел по всему старому дому. Огонь работал везде.
Черные облака удушливого дыма заволакивали, душили темные призраки. Все валилось, падало. Стены, мебель, колонны, трупы, статуи. – Это был хаос смерти и разрушения.
Гризли хотела двинуться, вскрикнуть и не могла, не могла пошевелить ни одним суставом.
Дым рассеивался; исчезало все, что было разрушено, убито. Исчезли темные образы, исчезли светлые девы и юноши, и только везде, всюду разливался царящими волнами полновластный, непобедимый, торжествующий свет.
Она подняла глаза кверху. Там среди ослепительного света, что-то спускалось торжественное, страшное его чистотой и святостью…
Сердце её остановилось. В ужасе она вскрикнула и… проснулась!..
Она проснулась в своей комнате. Окна были завешаны большими зелеными шторами; подле неё сидела тетка; сидели доктора и нянька; у её постели тихо всхлипывал Гриша.
– Очнулась! Ожила! – прошептала старая няня и начала креститься.
Все подошли. Доктора начали ощупывать ее и выслушивать.
Она ничего не замечала, не чувствовала. Она вся была полна одним страстным желанием. Она порывалась несколько раз схватить Гришу за руку, притянуть его к себе, и, наконец, это ей удалось.
Они обнялись и оба зарыдали.
Он плакал, припав к её плечу, а она обнимала его голову… Она отводила его волосы, падавшие ему на глаза… Она целовала эти глаза.
– Гриша! Гриша! – шептала она… – Милый!.. Чего не может присниться в диком, нелепом сне?! Гриша!.. Да и что вся наша жизнь, как не сон, и все пройдет как сон, и все кончится ярким, ослепительным светом.








