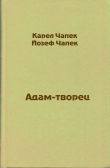Текст книги "Роман по заказу"
Автор книги: Николай Почивалин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 22 страниц)
– Наши, – объясняет Александра Петровна и строго окликает рыженького, в распахнутом пальто парнишку: – Громов, застегнись – прохватит.
– Ну уж!
Кладбище действительно оказывается поблизости, разросшийся городок как бы обтек его – остров печальной неизбежности, огороженный деревянным штакетником, за которым темнеют невысокие сосны. Самое подходящее дерево для такого места: всегда зеленое…
Сворачиваем с асфальта; проворно мелькают резиновые сапожки Александры Петровны, разыскивающие для меня несуществующую тропку; неприлично громко, на своем крикливом языке, перекликаются сороки. Под редкими соснами сереют еще остатки снега – слизясь, дотаивая, но тут суше: песчаная, устеленная бурой хвоей почва впитывает влагу, и только глубокая колея всклень налита стылой водой.
– Вот здесь, – говорит Александра Петровна, остановившись у железной, крашенной алюминиевой краской ограды.
У изголовья аккуратной, довольно длинной могилы – обелиск-пирамидка с врезанной фотографией крупнолицего, стриженного под «бокс» мужчины, уменьшенная копия уже знакомого портрета. Немного нелепо, бросаясь в глаза, ярко краснеют полоски ромбов, врезанных посредине продольных стен ограды.
– Это наши младшие постарались. Тайком подкрасили, – объясняет Александра Петровна и показывает расшитой ребячьей варежкой внутрь: – А вот, видите, нынче уже были – цветы оставили. Из Пензы, похож, – кто-нибудь из бывших воспитанников. У нас в эту пору таких цветов нет. Мимоза.
Люди моего возраста достаточно уже видели всяких могил, стояли и все чаще стоят у них, поняли и смирились с тем, чего нельзя понять и с чем нельзя смириться. Я думаю сейчас о другом. О том, как странно это – знакомиться с человеком, которого уже нет. И что даст это странное знакомство, конечно – тебе, пока живому, а не ему, уже все отдавшему? Постараешься ли забыть о нем, как все мы, живые, в целях самозащиты, стараемся не все время помнить о дорогих могилах – потому, что иначе нельзя, невозможно, – или, наоборот, он займет какое-то место в твоем уме, душе и, навсегда умолкший, скажет тебе что-то, через тебя – другому, третьему?..
Противно, как базарные торговки, стрекочут сороки, и кажется, сейчас я понимаю их крикливо удивленные возгласы: «Чего ходят? И чего каждый день ходят? Одно слово: человеки»…
3
Устроившись в гостинице и пообедав, отправляюсь в райком партии. Во-первых, представиться – ревниво районное руководство, когда приехавший из области не объявляется. Во-вторых, еще немного порасспросить о Сергее Николаевиче Орлове – не для какой-нибудь там страховки, а прежде всего потому, что он был коммунистом. И в довершение, еще внутренняя посылка, позыв – поближе познакомиться с первым секретарем райкома Головановым, самым молодым секретарем в области и, говорят, любопытным человеком. До сих пор встречался я с ним мельком, на каких-то областных совещаниях, и грешно упустить случай.
Трудная это должность – первый секретарь райкома, и вряд ли можно придумать более широкий круг обязанностей, чем у него. Это ведь лишь тот, кто не сталкивался, близко не соприкасался, иной раз, по наивности или полной неосведомленности своей, шутя позавидует: вот у кого житуха! Сиди в кабинете и давай указания. Проехал по району, опять дал указания – и только пыль столбом за машиной! Действительность же куда прозаичнее и жестче. Секретарь такого, как Загоровский, сельского райкома одинаково отвечает и за урожай и за то, есть ли в магазине самого отдаленного села товары первой необходимости, за надои молока и санитарное состояние водоемов, за строительство жилья, коровников, школ и за то, что бригадир колхоза, член партии, до синяков поучил свою игривую молодую жену. А всякие совещания, заседания, семинары, вызовы в область, где иногда и так наподдать могут, что в глазах потемнеет; а десятки всяких больших и мелких житейских дел и вопросов, с которыми идут к нему со всего района – от разобиженного персонального пенсионера, вдовы, которой не дают шифера перекрыть крышу, до делегации школьников, требующих для автокружка легковую машину – в то время как их и в хозяйствах недостает! Идут как к человеку, который все может, – даже тогда, когда он ничего не может, идут как к своему мировому, как к высшей совести. Нет, он не многорук, не многоглаз, не семи пядей во лбу, у него немало и хороших помощников, специалистов, каждый из которых отвечает за свое, порученное ему дело, – он отвечает за все. И, если говорить по совести, ему в любой час, в любую минуту можно объявить строгача – какой-нибудь промах всегда найдется, как в любое же время безошибочно можно представлять к званию Героя. Имея все это в виду, остается добавить, что Загоровский район прочно считается одним из передовых в области, а о самом Голованове, возможно и не без оснований, поговаривают, что долго он тут не засидится…
За двадцать лет жизни в Пензе я объездил все районы области, в иных из них побывал не однажды и берусь утверждать, что во внешнем облике райцентров – много общего. Почти всегда – типично сельская окраина с огородами на задах и неприхотливыми ветлами на широких улицах; более благоустроенный центр – с пятнышками асфальта либо выбракованных бетонных плит, с вывесками магазинов и учреждений, с парками культуры и отдыха, в которых, как правило, никакой культуры и в которых никто не отдыхает; наконец – центральная площадь, со зданием райкома, непременной районной доской Почета и не менее непременной трибуной, размеры и вид которой целиком зависят от бюджета, вкуса и размаха местного начальства. К слову говоря, в одном райцентре и поныне еще красуется – нет, не трибуна – целый монумент, сложенный из кирпича и залитый цементом, неистребимый памятник безвозвратно канувшему в лету районному «хозяину». Есть все эти обязательные атрибуты райцентра и в Загорове, хотя расположенные здесь два-три завода наложили свой промышленно-городской отпечаток и на окраину, тесня ее каменными современными домами. И, опять же попутно говоря, пусть не послышится в моих описаниях райцентров некоей иронии, – упаси бог, я делаю их с теплой дружеской улыбкой, с любовью. Потому, что люблю бывать в них больше, чем в шумных городах, люблю их самих, открытых, гостеприимных, где почти каждый знает друг друга в лицо и каждый каждому – цену.
О встрече мы условились с Головановым по телефону. Когда я вхожу в кабинет, он, по-юношески худощавый, в черном костюме, стоит у окна, постукивая пальцами по подоконнику, резко оборачивается. Вообще в его чертах много резкого, словно творец-природа сознательно пользовалась одними прямыми линиями. Прямой крупный нос; будто по линейке, до самых висков прочерченные брови, цепкий взгляд серых холодноватых глаз; резко упавшая на широкий лоб прядь темных волос, таким же резким взмахом головы назад и закидываемая; широкие, жестко сжатые губы. Впечатление этой законченной резкости нарушает голос: не отрывистый, какой, казалось бы, подходил ему, а неожиданно неторопливый, звучный.
– Чертова погода! – поздоровавшись, ругается он. – Снег – все, конец. Мороз трахнет – последние озимые выбьет. Вся надежда на яровые, а влаги – кот наплакал.
– Монолиты брали?
– Брали, – кивает Голованов. – Пока нормально.
Монолиты – это пробный выруб зимующих посевов, который помещается в тепло, и по тому, как растения оживают, идут в рост, определяют, как они перенесли холода.
И тут я хочу сделать небольшое отступление. Недавно я получил читательский отклик на одну из своих книг, посвященную людям колхозной деревни. Отклик очень доброжелательный, автор, научный работник, толково подметил некоторые опечатки и несуразности, пожелал, в заключение, «дальнейших творческих успехов». В общем, все было бы хорошо и привычно, когда б не начальная фраза письма, – пробежав до конца, я снова вернулся к ней: «Я – коренной москвич и разные там яровые, озимые и прочие сельскохозяйственные премудрости меня никогда не интересовали и никогда интересовать не будут». Подумалось: если это некоторое кокетство, шутка, тогда ладно, ничего, бывают шутки и похуже. Но если такое признание всерьез – не смолчу.
Общеизвестно, что одним из чудесных достоинств нашей советской литературы является ее глубинная, на общности интересов основанная связь с читателями, некая постоянно и активно действующая энергетическая цепь читатель – писатель, заменившая дореволюционное безмускульное соотношение: писатель пописывает – читатель почитывает. И все-таки цепь эта, на мой взгляд, действует несколько односторонне, все больше от полюса читателя. Читательские отзывы охотно печатают газеты и журналы; читатель подмечает, советует, критикует, случается – учит, как случается иногда – и невпопад. Реже читателю отвечает литератор. Так вот, воспользовавшись редким случаем, публично отвечу своему корреспонденту: покоробило меня такое пренебрежение к озимым, яровым и, пользуясь вашим выражением, к прочим сельскохозяйственным премудростям, послышался мне за этими словами самодовольный обывательский голос – моя хата с краю. Резко, обидно? А не обидно, не оскорбительно такое – к людям, которые выращивают тот самый хлеб, что мы с вами преспокойно покупаем в булочных? Задело меня и упоминание, что вы – коренной москвич: неча бы подчеркивать, клепать на город, который поболе других думает о деревне и помогает ей. Я тоже не сею и не жну, но знаю, что без озимых и яровых не смог бы писать, как не смогли бы и вы вести свою научную, охотно допускаю – очень важную и нужную работу: не станем забывать, что сеют хлеб не по Садовому кольцу. Вот так, дорогой товарищ… чуть было не назвал вашу фамилию – и не стал: пусть те, кто также щеголяет своей незаинтересованностью и непричастностью к жизни села, поставят свою собственную.
– А что синоптики обещают? – продолжаем мы свой разговор.
– До конца месяца все то же. – Голованов кивает в сторону окна, косая черкая прядь волос взлетает и снова резко падает на широкий лоб. – Так скоро гребни подсыхать начнут.
– Скверно.
Сидим за длинным столом, отнесенным в сторону от служебного секретарского, массивная хрустальная пепельница перед нами потихоньку заполняется окурками. Посматриваю на Голованова, не перестаю удивляться, как молодо он выглядит – лет на двадцать пять, не больше, хотя понимаю, что столько ему быть не может. Хороший костюм, белая сорочка с модным разлапистым галстуком, по-юношески свежее лицо, пусть и озабоченное, с резкими сильными чертами, вроде напустил на себя малость, все по той же молодости, – одним словом, секретарь райкома комсомола – в самый бы раз, но никак уж не руководитель солидной партийной организации района. Помогает такому впечатлению и то, что секретарское кресло за поперечным, к нашему, столом пустует – кажется, что хозяин кабинета вышел и мы вдвоем поджидаем его.
– Иван Константинович, – обком, – приоткрыв дверь, докладывает полная секретарша.
Извинившись, Голованов идет к телефону; разговор затягивается – судя по коротким ответам – о предстоящем пленуме. Подхожу к окну с раздвинутыми легкими зеленоватыми шторами; отсюда, с третьего этажа, виден райкомовский двор – с гаражом в углу, коричневыми яблонями и черными прошлогодними клумбами – общественной заботой аппарата райкома; дальше – холмистая равнина сухих разноцветных крыш, железных и шиферных; еще дальше, на горизонте, – солнечная голубоватая дымка талых, на месяц раньше закурившихся полей, – туда, вероятно, и смотрел перед моим приходом Голованов.
Что-то в его настроении неуловимо меняется, не возвращается он и к прерванному звонком разговору, к своим постоянным заботам.
– Эх, написали бы вы, – напористо предлагает он. – Есть тут у нас одна доярочка – золото девка!
Объясняю, что поездка моя связана с письмом из детского дома, спрашиваю, знал ли он бывшего директора Сергея Николаевича Орлова.
– Орлова? – в крайнем удивлении переспрашивает Голованов.
На его резко очерченном лице так же резко происходит и смена выражений, о значении их даже предполагать не нужно – так очевидны, понятны они. Только что изумленно взлетевшие брови его сосредоточенно, в раздумье выравниваются, на переносье набегает, потом четко обозначается поперечная складка, медленно выпустившие глубокую затяжку дыма широкие губы сурово сжимаются, – минуту назад сидевший передо мной юноша становится за эту же минуту старше.
– Еще бы не знал! – По крутой, чисто выбритой скуле Голованова перекатывается малиновый желвак. – Такая она штука – жизнь. У каждого дня свои заботы, все вскачь, вскачь… Вот вы назвали – Орлов, а я и опешил: о ком он? Всего ничего и прошло-то, год какой-нибудь, а он у меня уже – вот тут, в черепушке, – в других списках. В списанных. Не сразу оттуда и извлек… Хотя иной раз сам сижу на активе и машинально глазами по рядам зыркаю: он-то, мол, где?..
Голованов поднимается, шагает по кабинету, изредка подходя к столу сбить с сигареты пепел, я молча следую за ним взглядом.
– Правильное они вам письмо прислали. Считайте, что и весь райком под ним подписался. – И недоуменно пожимает плечами: – Черт, как неразборчиво получается, несправедливо! Один – ну пустышка совсем, ну никчемный! – до глубокой старости живет. Хотя содержание, вся польза от него людям – как от одуванчика: фу – и пусто! А такой, как Орлов, – сгорает. Пятьдесят семь – разве это старость? Опыт, зрелость… Не подумайте, что я против старцев. Сами еще, может, будем. Пускай живут – прокормим. Есть среди них – на сто лет наперед наработали. А то, что Орлов делал, – дороже всего. Ребятишек воспитывал. Очень это правильно, очень – написать о нем!.. Хотя, по-моему, и нелегко. Понимаете, внешне все очень обычно. Много лет был директором детского дома. Вроде – все, буднично. А по существу, о нем следует писать в серию «Жизнь замечательных людей». Ну, растревожили вы меня сегодня!
Удивленно тряхнув головой, он садится, закуривает новую сигарету. Я подталкиваю его вопросом:
– Давно вы с ним были знакомы?
– Нет, – тотчас отвечает он. – Я пока ходил – сам припоминал. Работаю здесь пятый год – значит, что-то около этого, к тому же и встречался с ним редко. Теперь-то понимаю – обидно редко, возможно даже – непростительно редко. Как же, не главный участок! Не колхоз, не совхоз – не хлеб, не молоко. Глупо, конечно… Например, наше первое знакомство запомнилось мне его скромностью. Хотя насчет скромности скорее всего потом подумал, позже. Тогда мне не до размышлений было. Если что и подумал, так о том, что больно уж он непробивной.
Голованов припоминает детали, подробности – я добросовестно излагаю то, что легло в память, как реальные картины.
…По вторникам, с полдня, первый секретарь райкома Голованов вел прием по личным вопросам. Нынешний вторник выдался заполошным с самого утра, Голованов нервничал и тем тщательнее пытался скрыть свое раздражение. Главная причина была – сахарная свекла, с вывозкой которой район позорно провалился. Затяжные осенние дожди превратили поля и дороги во вселенскую хлябь; рвали жилы лошадям, натужно надрывались моторы тракторов, измучились, издергались люди. Пошел ноябрь, первые заморозки успели потрогать поверхность бунтов, а на полях еще оставалась чуть ли не половина свеклы. Горше горькой редьки бывает иной раз этот сладкий корень, как его красиво именуют газетчики! Только что позвонил второй секретарь обкома – тот самый, что полгода назад привез его, Голованова, сюда и рекомендовал районной конференции первым секретарем, – холодно сказал:
– Смотри, Голованов. Обком оказал тебе большое доверие – обком может и отказать в доверии.
А люди все шли; некоторые из них оказывались не членами партии, но не станешь же из-за этого заворачивать их обратно, хотя этажом ниже такой же прием вел сейчас и председатель райисполкома, человек самостоятельный и, кстати, куда лучше знающий район, чем новичок Голованов. Ничего этого не объясняя, Голованов терпеливо выслушивал, терпеливо разбирался; недовольство собой, раздражение все накапливались, подливало масла в огонь и то, что иные из посетителей приходили с пустяшными вопросами и жалобами. Будь его, Голованова, воля, кое-кого, под запал, он бы сейчас вытурил из кабинета, на минуту закрылся – переобуться в резиновые, постоянно в шкафу стоящие сапоги, – и туда, на поля, где возле присыпанных мокрым снегом бунтов жарким паром дымились крупы лошадей, буксовали в грязюке тракторы и висела злая едкая матерщина…
– Орлов, директор детдома, – назвала очередного посетителя секретарша и успокоила, подбодрила угрюмо глянувшего на нее секретаря: – Больше никого, Иван Константинович.
«Этот-то какого черта», – ругнулся про себя Голованов. Школами и прочими подобными учреждениями занимался третий секретарь, у Голованова до них просто руки еще не дошли. Ругнулся, но остановить секретаршу не успел: посторонившись, она уже пропускала Орлова, дружелюбно улыбаясь ему.
Коренастый, с продолговатой, под «бокс» стриженной головой, вошел он как-то деликатно, неуверенно, что ли, и остановился перед столом едва ли не по стойке «смирно». Одет опрятно, отметил Голованов, но ему не понравилось, что ворот темной рубахи у того косо, по старинке, был отложен, открывая мускулистую шею. Мог бы и в галстуке – директор все-таки, в райком пришел!..
– Здравствуйте, Иван Константинович, – голос у Орлова был негромкий, неторопливый.
– Что у вас стряслось? – резкость уже сорвалась, Голованов, как мог, попытался сгладить ее: – Что ж вы стоите, садитесь… пожалуйста.
– У нас ничего не стряслось. – Орлов сел, провел рукой по короткому, по вискам седому ежику. – Пришел попросить помощи. Заканчиваем капитальный ремонт, а радиаторов для парового отопления – нет.
– Почему ж вы вчера не пришли? Или завтра, допустим? – недовольно осведомился Голованов, отчего-то неловко чувствуя себя под прямым спокойным взглядом Орлова. – Сегодня прием по личным вопросам.
В спокойных внимательных глазах Орлова скользнула, тут же исчезнув, улыбка – не укоризненная, не вызывающая, а скорей сочувственная.
– Вчера я был в Пензе, в облоно. Завтра может быть поздно – время не терпит. Наконец, вверенный мне детдом давно считаю своим личным делом.
На какое-то мгновение Голованов опешил, потерялся: сказано все это было по-прежнему спокойно, искренне, чуть ли не извиняющимся тоном, но ощущение вызвало такое, словно неожиданно щелкнули по носу.
– Сколько у вас воспитанников?
– Двести сорок три.
– Где имеются эти батареи?
– Только в «Сельхозтехнике». С ними говорил, в райисполкоме говорил – обещаны они кому-то.
– Почему же вам их отдать нужно?
– У нас – дети.
Голованову нравились люди, умеющие мыслить и отвечать четко и логично; этого одного было достаточно, чтобы изначальная, вызванная дурным настроением, не больше, неприязнь сменилась одобрительным, с некоторой даже почтительностью, отношением. Умен. Вроде бы по манерам тихий, нерешительный, но там, где чувствует свою правоту, – не отступит. И – как высшую похвалу – сделал мысленную отметку: лобастый, черт!.. Не откладывая, попросил соединить с «Сельхозтехникой», выслушал, перекатывая малиновые желваки, возражения и по-иному, жестко, требовательно, повторил довод Орлова: у них дети, все! Дело было сделано, но Орлов не поднялся, попрощавшись и поблагодарив, – как ожидал Голованов, – негромко и участливо спросил:
– Плохо – со свеклой?
Не ожидая вопроса, Голованов молча сглотнул, резко чиркнул ребром ладони по горлу: вот так!
– Немного сможем помочь. На два дня выделим человек пятьдесят – шестьдесят. Старшеклассников.
– Эх, вот бы! – горячо вырвалось у Голованова, и тут же он спохватился. – А как? Учебный-то год начался?
– Прихватим субботу, воскресенье – выходной. Объясним ребятам. – Орлов, видимо, пришел с готовым решением. – Условие одно: нужен автобус, туда и обратно. Да и там – чтоб погреться могли. В открытых бортовых – застудим ребят.
– Автобус будет, – обрадованно заверил Голованов.
– Тогда у меня – все, – кивнул, поднимаясь, Орлов. – До субботы.
Голованов позвонил в гараж, привычно быстро переобулся в свои резиновые бахилы, в приемной задержался – спросил, проверяя свои впечатления:
– Что за человек этот Орлов?
– Сергей Николаевич? Ну что вы – его весь район знает! – с гордостью и не совсем вразумительно ответила секретарша.
Примерно месяц спустя, когда все перипетии каверзной осени остались позади и на селе началась передышка и свадьбы, Голованов во второй раз столкнулся с Орловым – в бане. Жил Голованов с семьей в очень удобном, секретарском особнячке, передаваемом, так сказать, по наследству; была в нем и просторная ванная комната, но он, если выпадало время, предпочитал ходить в баню – попариться. Причем, любил и умел париться – так, что голова гудела легким звоном, а тело, от той же легкости, вроде бы совсем переставало существовать. К безобидной этой страсти, с детства, приучил его отец, лесной объездчик. Когда он, уже студентом, приезжал на каникулы, его всегда ждала домашняя, по-черному, баня: наполненная спрессованным обжигающим воздухом, с шипящей раскаленной каменкой и выступившей на черных стенах пахучей смолой.
В этот раз Голованов отправлялся в баню в понедельник, по сумеркам – в такие часы да после выходных там всегда бывало свободно. Напарившись, он лежал на скамейке, вольготно раскинув красные, исхлестанные ноги и блаженно моргая мокрыми горячими ресницами.
– С легким паром, Иван Константинович, – раздался памятный, спокойный и дружелюбный голос.
Голованов сел, – Орлов стоял перед ним с тазом в одной руке, с мочалкой и мылом в другой – еще сухой, коренастый и весь исполосованный шрамами: в паху, под левым соском, на ногах, на левом плече; одни были широкие, стянутые прозрачной лиловой пленкой, другие – глубокие, круглые, с собранной, лучами расходящейся кожей, – таким рисуют солнце ребятишки; тонкая красная нитка прорезала шею в том месте, где начиналась ключица, – этот последний шрам вызвал у Голованова какую-то смутную, тут же ускользнувшую мысль.
– Где ж это вас так… разукрасили? – не удержавшись, изумленно спросил он.
– Там, где всех, – на войне, – чуть усмехнувшись, просто ответил Орлов, – должно быть, он привык уже к таким удивленным вопросам, – и присел рядом на свободную лавку.
К величайшей своей досаде, к стыду, Голованов вдруг забыл, как Орлова звать, – обычно с ним такого не случалось, – оставалось только безликое обращение.
– Кем же вы были?
– Саперный комбат. Майором кончил.
– Беспокоит вас… это?
– В общем нет. Там, где железки остались, – напоминают к непогоде. – В предвкушении предстоящего удовольствия Орлов неторопливо потер широкую грудь с лиловой вмятиной под соском. – Привык.
Продолжать глазеть на крепкое, покалеченное войной тело было нехорошо, Голованов кивнул на свой веник:
– Паритесь?
– Перестал.
– А на свекле ваши ребятишки здорово помогли, – повеселев оттого, что может сказать этому человеку что-то приятное, похвалил Голованов. – Молодцы!
– Мы тоже в накладе не остались, – дружелюбно улыбнулся Орлов, имея в виду, что колхоз, которому помогли, подбросил им свежей убоины, не без совета, впрочем, промолчавшего Голованова.
Директор детдома ушел мыться, секретарь райкома медленно, словно прислушиваясь к чему-то, начал одеваться. Что его в этот раз поразило в Орлове? Фу ты, чертовщина, – вспомнил, когда не надо: Сергей Николаевич!.. Поразило даже не то, что тот оказался весь в шрамах, Голованов знавал людей, которых война покалечила пострашней – как у них в деревне дядю Яшу, обшитый кожей обрубок на тележке с колесиками… Поразила, пожалуй, сама внезапность: встречался с человеком, складывал о нем свое мнение и вдруг вот, сразу, обнаруживаешь, что он – такой, сплошной шрам. Нередко вообще, наверно, так о людях и судим – не зная их как следует, не ведая, какие у них шрамы на теле или на душе. Плохо; для таких же, как он, Голованов, – еще хуже… Мысль, разматываясь как клубок, тянулась, бежала дальше, беспокоила. Из крепкого материала кроилось, делалось поколение таких Орловых – поколение отцов. Вдосталь потрудились до войны – чтобы встретить ее не врасплох, вынесли, выдюжили ее на своих плечах и, прикрыв раны не бог весть какой одежкой – как прикрыл их тот же Орлов, – остались в строю. Неся службу не хуже, а когда и постарательней, чем молодые солдаты, чем они, обобщенно говоря – Головановы, идущие на смену или уже принявшие ее. Удастся ли стать вровень с ними, достанет ли столько сил?
Домой в этот раз Голованов возвращался не так скоро, как обычно, – жестко потирая подбородок, останавливаясь и прижигая на ветру сигареты…
Потом было еще несколько встреч – деловых, будничных, ничего, казалось бы, не добавляющих к тому, что теперь Голованов знал об Орлове, и, как стало ясно позже – под прямым четким лучом переоценок, – каждый раз открывавших еще какую-то грань его внешне простой и непростой внутренне натуры. Иногда Орлов заходил в райком – в тех редких случаях, когда не мог чего-то сделать, решить сам, и Голованов почти всегда помогал ему, испытывая при этом удовлетворение. Побывал и в детдоме, подивившись, какими уютными, домашними можно сделать, при старании, угрюмые сумеречные бывшие монашеские кельи и трапезные, порадовавшись, что из добытого с его помощью лесоматериала строится вместительное, в одиннадцать широченных окон, помещение. Отметив – так, мельком, пока все это не встало однажды в один логический ряд, – с каким непоказным уважением относились к Орлову сослуживцы и как угловато скрытно льнули к этому не очень разговорчивому пожилому человеку длинношеие, с ломкими петушиными голосами подростки. Привык Голованов и к тому, как аккуратно являлся на все районные активы коммунист Орлов – перед началом и в перерывах окруженный людьми и сосредоточенно отчужденный – на своем постоянном месте, в углу, у окна, когда шло заседание. Сам он никогда слово не просил – это Голованов помнил точно.
А потом была еще одна встреча, – снова – в представлении Голованова – приподнявшая Орлова на новую высоту и снова заставившая о многом подумать и передумать.
В Загорове, как и по всей стране, праздновали двадцатипятилетие победы над гитлеровской Германией. Как заведено, торжественное заседание в районном Доме культуры проводили накануне.
Переполненный продолговатый зал гудел; Голованов, поминутно раскланиваясь и пожимая руки, пробирался к сцене – чтобы занять свое привычное, председательское место в президиуме, увидел сидящего в углу у окна Орлова. Грудь у него сияла, переливалась – боевых наград у бывшего комбата было побольше даже, чем шрамов!
Скулы у Голованова загорелись; поманив кивком главного районного идеолога, третьего секретаря, намечавшего состав президиума, гневным шепотом попрекнул:
– Эх, ты, – героев своих не знаем! Позор! – И, сдержавшись, распорядился: – Пока военком перед докладом горло прочищает, иди и приведи Орлова. Будем ждать за кулисами.
Растерянно улыбающийся Орлов попытался было пристроиться во втором ряду президиума, – Голованов вынудил его сесть в самом центре. Ясным чистым звоном, качнувшись на муаровых лентах, прозвенели ордена и медали, косой ряд их, по борту пиджака, начинали ордена Ленина и Боевого Красного Знамени.
– С праздником, Сергей Николаевич! – горячо поздравил Голованов, вкладывая в слова куда больше, чем обычное поздравление.
– Спасибо, Иван Константинович, – смущенно и благодарно отозвался Орлов; оглядевшись и немного освоившись, дотронулся рукой, точно успокаивая, до открытой шеи – он опять был в косоворотке, на этот раз в белой, – тихонько объяснил, как извинился: – Не могу галстуков носить. Тут у меня нерв поврежден – мешает.
Голованов молча покивал – во второй раз он почувствовал себя так, словно ему щелкнули по носу. Поделом – не лезь, не поспешай с суждениями!
Доклад, к сожалению, был, как большинство районных докладов, ровно обтесанный, из привычных словосочетаний, но люди слушали, с новой силой переживали свое давнее, выстраданное; в тишине то тут, то там тихонько позвякивали награды фронтовиков. Перестав слушать, Голованов задумался: а что помнит о войне он, родившийся за год до ее начала? Может быть, самый конец ее, вернее, первые послевоенные годы, когда после бани семья пила чай не с сахаром, а со своим медом. Нет, не был он под бомбежками, не знал ни горя, ни холода, ни голода: отец вернулся цел и невредим, лес и кормил и одевал их. Голованов покосился на розовощекого военкома, звонко вычитывающего прописные истины, перевел взгляд на Орлова – тот сидел, скрестив руки на груди, стараясь, кажется, прикрыть ее сияние, – и подумал, что такие торжества надо бы проводить не так. Сажать на сцену одних фронтовиков – пока они еще живы, – а всем остальным, в том числе и ему тоже, смирнехонько сидеть в зале, почтительно слушать, гордиться ими, сознавать свой высокий гражданский долг. И еще, помнится, подумал, что надо бы как-то поближе, покороче сойтись с Орловым – Голованова все больше привлекал этот человек.
Не успел.
– Черт! – Голованов, переживая, с маху втыкает тлеющий окурок в хрустальную пепельницу. – Люди почему-то всегда опаздывают именно с добрыми намерениями. Суета, спешка, что ли?.. А потом спохватишься – поздно…
Крупно вышагивая по кабинету – от пустующего стола до обитых дерматином дверей, он едва не сталкивается с секретаршей.
– Иван Константинович, – строговато и в то же время будто извиняясь, напоминает она, – приглашенные на совещание собрались, ждут.
– Ну вот! – засмеявшись, Голованов разводит руками, торопится досказать: – Поговорите с его знакомыми – они могут много интересного припомнить. Что вспомню – и я тоже. Так что приходите, приезжайте – обязательно!
– Спасибо, непременно, – обещаю я, пока еще смутно чувствуя, догадываясь, что буду наведываться сюда не только ради Орлова.