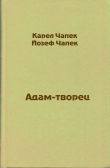Текст книги "Роман по заказу"
Автор книги: Николай Почивалин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 22 страниц)
Директор усадил ее в покрытый брезентом газик рядом с шофером, сам сел позади. Бежала навстречу бескрайняя раскаленная зноем степь, горячий горький ветер сушил глаза и губы.
– Вот отсюда, Дарья Яковлевна, пошли земли нашего совхоза, – начал было директор.
Дарья Яковлевна безучастно взглянула – по обеим сторонам бежала все такая же степь, местами покрытая свежей ровной стерней, местами желтеющая неубранными хлебами, а местами еще не тронутая, ковыльная. Умолк позади, вздыхая, директор.
Степи, казалось, не будет ни конца, ни краю, все так же стелилась покрытая серой пепельной пылью дорога. Потом впереди, в блескучем струистом мареве, завиднелось селение, директор позади кашлянул.
– Центральная усадьба, – сказал он. – Прибыли.
Проехали мимо зеленых брезентовых палаток, мимо полевых с занавесками на окнах вагончиков и остановились у длинного барака. Стоящая вокруг толпа расступилась.
Директор провел Дарью Яковлевну через этот живой коридор, ввел в пустую, дохнувшую сумеречной прохладой комнату.
Посредине на возвышении, наполовину закрытый красным полотнищем, стоял гроб.
Только что Дарья Яковлевна могла упасть, не удержи ее напружинившаяся рука провожатого, сейчас, высвободив свою руку, она прошла эти последние шаги сама.
– Сынок!.. Васенька!.. – жалобно, как живого, окликнула она.
Дверь за ее спиной бесшумно закрылась…
Сколько Дарья Яковлевна пробыла тут, она не знала. Ласково и настойчиво ее отвели в сторону, красный гроб поплыл к дверям, под окнами тягуче заиграл оркестр. Она не видела, где и куда шли, не слышала, что говорили у могилы. Она запомнила только черную яму, куда – если не вместо сына, так хоть рядом с ним – ей хотелось лечь, и стук комьев, упавших с ее руки.
Потом в том же помещении, где прежде стоят гроб, а теперь заставленном столами с закуской, Дарья Яковлевна сидела рядом с директором, машинально, как заведенная, кланялась сменяющимся и что-то говорящим ей людям.
– Васильцев, что у тебя тут делается? – возмущенно, перекрыв сдержанный говор, спросил вставший в дверях мужчина в белом кителе. Он шагнул, гневно поглядывая на медленно поднимающегося директора, с недоумением посмотрел на сидящую подле него женщину, повязанную в жару старинным черным шарфом.
– Поминаем товарища, павшего от руки убийц, – строго сказал директор. – Выпей за него, Андрей Степаныч.
Встав рядом с директором, Дарья Яковлевна сдержанно поклонилась:
– Уважь, добрый человек.
Побагровев, мужчина опустился на подвинутый кем-то стул и с маху выпил протянутый ему стакан водки.
Посидев еще немного, Дарья Яковлевна прошла в отведенную для нее комнатку – сил уже не было. И едва она легла, как без стука вошла девушка с красными веками.
– Я – Лена, – сказала она и заплакала.
Перестав видеть, Дарья Яковлевна гладила стриженую, уткнувшуюся ей в колени голову и худенькие вздрагивающие плечи, замирала, когда та бессвязно и горько начинала говорить о Василии.
– До последней минуточки с ним была. Пять часов он еще жил… И переливание крови делали. И профессора из Караганды вызвали. Прилетел, а его уже нет… Я с ним с первого дня на тракторе работала. Прицепщицей… И ведь за кого умер? За Люську-повариху. Она тут не знай с кем путалась. А он за нее – как за настоящую!..
– Она тоже человек, доченька, – кивая головой, мягко сказала Дарья Яковлевна.
– Да какой же она после этого человек? – всхлипывала девчушка. – Чтоб за нее вот так – на нож?.. Не хочу жить! Не буду!
– И это ты зря, – все так же мягко и настойчиво говорила Дарья Яковлевна. – У тебя все впереди. И счастье у тебя еще будет…
– Да как вы можете? – Лена подняла серые заплаканные глаза, мокрые щеки ее вспыхнули. – Никогда, никогда!
– Ну, как знаешь, как знаешь, – поспешила согласиться Дарья Яковлевна, хорошо зная, что правота – за ней…
Измученная, трое суток не смыкавшая глаз, девчушка тут же у нее и уснула. Сев у окна, Дарья Яковлевна, не чувствуя уже даже усталости, смотрела в черную чужую ночь. Что ж, завтра в обратный путь…
Словно подкинутая этой мыслью, Дарья Яковлевна встала, тихонько вышла на улицу и по каким-то непонятным признакам безошибочно отыскала в кромешной тьме дорогу к серебристой пирамидке.
Потрогав деревянную оградку, она легла на теплую землю, уткнувшись лицом в сухую горькую траву, застонала. В темноте громко и весело стрекотали кузнечики.
Становится прохладно.
Дарья Яковлевна застегивает ватник, обходит свои ночные владения и, прислушавшись, усмехается.
Ларьки стоят вдоль забора, за которым непроницаемо темнеет молодой сад Дома культуры. Оттуда доносится девичий смех и приглушенный басок; потом смех и басок разом стихают – целуются, наверное.
«Эй, по домам пора!» – в первую минуту по привычке строго хочется прикрикнуть Дарье Яковлевне, но вместо этого, стараясь не зашуметь, она прибавляет шаг. Чего спугивать – сами, поди, знают, когда расходиться. Пускай любят – пока любится. Коротка она, эта пора. Пока молодость, кажется, что всегда так будет – любовь да счастье. А потом и оглянуться не успеешь, как ушло все. Ровно птица вон – взмахнула крыльями, и нет ее.
Светает быстро – на погожий день.
Только-только было еще так темно, что хоть глаз выколи – перед рассветом всегда так, – и уже небо сереет; только, кажется, Дарья Яковлевна доходит от угла до угла и поворачивает назад, – глянь, а восток уже голубеет, вот-вот по нему и заря брызнет.
Оживает и трасса. После небольшого перерыва – нужно, наверно, и машинам когда передохнуть, – уже снова бегут, по-ночному еще посвечивая малиновыми бортовыми огоньками, тяжелые грузовики с дровами, с хлебом нового урожая, красные полупустые автобусы. Сама жизнь по трассе бежит.
– Доброе утро, тетя Даша! – звонко окликает простоволосая, румяная со сна дочка кузнеца, выгоняя из ворот корову.
– Утро доброе, девонька, – ласково кивает Дарья Яковлевна, вглядываясь в привычный и ясный пробуждающийся мир.
В командировке
Пока машину разгружали, все они – директор базы, бухгалтер, заведующий складом – ходуном вокруг него, Павла Ивановича, ходили, похваливали, так обрадовались. Еще бы! За три дня до Октябрьских праздников, дополнительно к нарядам, получить целый рефрижератор шампанского – красного игристого и полусухого, да еще доставленного самим поставщиком. Будет у волжан чем после демонстрации в потолки пробкой ахнуть! Потому чуть и не в глаза заглядывали – сначала-то, как приехал, А когда последний ящик с серебряными горлышками, присыпанными сверху стружками, исчез в люке, оказалось, что все уже разошлись и никому Павел Иванович больше не нужен.
Задержавшийся позже других заведующий складом разбитной малый в кожаной курточке и пыжиковой шапке вернул Павлу Ивановичу подписанные накладные и, по каким-то своим признакам безошибочно определив, что по части выпивки шофер не дока, мимоходом, скорее для порядка щелкнул себя пальцем по розовому кадыку.
– Может, сообразим на двоих?
– Да нет, – отозвался Павел Иванович, – Мне бы…
– На нет и суда нет, – не дослушал завскладом. – Бывай тогда.
Ленивой развалочкой, зажав под мышкой увесистый сверток – на бой, поди, спишет, хоть ни одной бутылки и не тюкнулось, – он подошел к проходной, что-то коротко и начальственно сказал сторожу. Белоусый дедок в тулупе и с берданкой, потаптываясь у своей будашки, поглядел в сторону Павла Ивановича, согласно кивнул.
Быстро смеркалось, подмораживало, тускло-свинцовые стенки рефрижератора покрывались сухим инеем. Обескураженно вздыхая, Павел Иванович забрался внутрь, аккуратно вымел остатки соломы и стружки, устало спрыгнул на стылую землю.
– Ты энта… Ты к забору подгреби, – распорядился сторож, вальяжно прогуливаясь со своим ружьецом, в тулупе и в валенках, обшитых красной резиной. – А то как ветер – разнесет. Непорядок.
Павел Иванович послушно сделал и эту, необязательную работу, отряхнул ватник.
– Дед, а дед, где у вас тут поближе гостиница? Переночевать чтоб?
– Да на кой хрен она тебе? – удивился сторож, показывая под сивыми усами крепкие прокуренные зубы и мотнув головой на широкий тупой нос «Колхиды». – Вон она у тебя – горница-то двуспальная. Сортир под навесом. Охолодаешь – в будашку ко мне прибежишь, чайком отогреемся. Я, считай, всю ночь чайник калю.
– Нет, дед, спасибо, – почему-то повеселев, поблагодарил Павел Иванович. – Перед дорогой по-человечески поспать надо, не те годы. В пути-то уж куда уж ни шло. И в машине и под ней належишься, всяко.
– Энта так, – с явным сожалением согласился сторож, теряя надежного собеседника и слушателя. – Гостиница есть, как не быть. До проспекта доберешься – они там сквозь идут, друг за дружкой.
– А еще мне, дед, обувной магазин надо. Дамский. Дочке хочу уважить – сапожки поглядеть.
– Тоже там же. Садись на троллейбус, на третьей либо на четвертой остановке выйдешь – аккурат между ними. – Сторож, проникаясь все большим расположением, попытал снова: – А то, говорю, оставайся – вдвоем куковать станем.
– Спасибо, дедушка, в другой раз уж.
Павел Иванович забрал из кабины кирзовую сумку, вышел на улицу.
Проспект угадывался сразу: впереди, обрезая тихие боковые кварталы, заполненные синевой и подсвеченные редкими фонарями, поднималось золотисто-розовое сияние; туда же, осыпая зеленовато-синие искры, спешили переполненные троллейбусы, выворачиваясь из-за угла и за другим углом исчезая.
Павел Иванович прибавил шаг, вышел на проспект, с любопытством приглядываясь к центральной магистрали города и невольно сравнивая ее со своей, донской. Чем-то вроде похоже. Те же пирамидальные тополя по обеим сторонам, ярко освещенные витрины, все те же машины и народ. Только дома на улицах пооживленнее, пошумнее, погромче говор. Да это вот непривычно – что уже в шапках: у себя об эту пору в пиджаках еще ходят, без малого треть пути он, Павел Иванович, проехал, щурясь от теплого, бьющего в упор солнышка. В мутновато-синем небе, разбавленном отсветами, голубели мелкие, тоже какие-то озябшие звезды – там, дома, и они будто покрупнее… Чудак этот дедок с берданкой: ночуй, говорит, в машине. В кабине-то с сорок первого по сорок шестой – все те годы подряд крючился. Ноги-то, бывало, только и попрямишь, когда в госпиталь попадешь. По молодости все казалось – нипочем. А теперь, бывает, прихватит в дороге, как ни укладываешься, как ни крутишься, утром все равно бока ноют и самого словно через мясорубку пропустили. Летом еще ладно: дверцу открыл, ноги высунул – вольно. Зимой и осенью хуже: хоть и махина она, «Колхида», а все одно, – ляжешь, и колени к подбородку подтягиваешь. Нет, на шестом десятке – пусть он хоть только-только и начался, спать надо – как все люди. Тогда и весь следующий день – человек-человеком..
В обувном Павлу Ивановичу повезло. Добрался до него перед самым закрытием, по чьему-то капризу или велению выбросили новый товар, и почти с ходу удалось купить черные, на белом, как снег, меху сапожки, югославские. От цены, правда, поначалу крякнул: пятьдесят восемь, без двугривенного. И не в том даже суть, что дорого, а в том, что на гостиницу, на обед и на весь обратный путь десятка осталась. Сапожки были уложены в узкой картонной коробке, обвернуты тонкой шуршащей бумагой, и пахло от них так крепко и чисто, что Павел Иванович, умащивая покупку в свою кирзовую сумку, от удовольствия рассмеялся. Правда, что повезло. Пускай дочка порадуется, а то все с красными глазами ходит: развелась со своим, зашибал частенько, – ночами-то в подушку и всхлипывает. Вдуматься, ведь – девчонка еще… Так что, бог с ним, что десятка всего осталась. Рубля три – на гостиницу да туда-сюда, трешку на обед и на завтрак, на полтора суток и четырех рублей хватит. Дорога длинная, может, где и шоферское счастье улыбнется, подвезет кого. И не подвезет, так опять не беда: пока совсем обезденежеет, там уж свои места пойдут, прижмет – в любой избе миску борща нальют либо кринку молока выставят. Как при случае усаживают за стол незнакомых людей и они с Машей…
На остановке выяснилось, что троллейбус идет до Волги, что ехать до нее – совсем пустяк, и хотя пора уже было побеспокоиться о пропитании и ночлеге, Павел Иванович без раздумий впрыгнул в первую же остановившуюся машину. Грех ее не повидать, Волгу-то! На Дону живет, Днестр форсировал, из Эльбы свою полуторку мыл, а Волгу не видал. Доведется ли еще в этих краях побывать – кто ведает, а тут вот она, рядом. Еще как к городу подъезжал, голову отвертел: вот-вот будто, за взгорком, откроется она. И на сиденье поднимался: нет, опять равнина, да опять бугор за бугром, – с другой стороны, как выяснилось, подъехал.
Троллейбус пустел с каждой остановкой, на конечной Павел Иванович оказался едва ли не единственным пассажиром. Полный какого-то странного нетерпения, он сбежал по каменным ступеням к гранитному парапету, дотронулся до его шершавой поверхности рукой и не сразу понял, что лежащая за ним внизу густая, подернутая туманом синь, продутая сырым ветром и холодно хлюпающая в лиловой темноте, и есть Волга. Глаз чуть пообвык: обозначились в темноте непроницаемые остовы пристаней, похожие на сказочных чудищ, пришедших к водопою; слева неожиданно и отчетливо проступила легкая цепочка огней моста, пропадающего где-то там, в чернильной гуще и тумане, где снова влажно и далеко струились огни противоположного берега. Да-а, широка ты, матушка.
Странное непонятное ощущение не только не проходило, но овладевало еще сильнее. Подмывало то ли заулюлюкать, что-то крикнуть, бессвязно и громко, то ли перемахнуть через этот шершавый барьер к самой воде и зачерпнуть зачем-то ладонью колючей мокрой стыни. Что ж это такое – кровь, что ли, сказывается? А что ж, если разобраться, – волжских кровей он, это точно. Дед из потомственных волгарей, это батька после гражданской на Дону обосновался да на казачке женился. Живет, должно быть, в каждом человеке что-то такое, о чем он и сам до поры до времени не знает… Неизвестно где – в ушах или где-то внутри, в памяти, в сердце – отчетливо зазвучала вдруг песня, которую так голосисто поет Зыкина:
Среди хлебов спелых,
Среди снегов белых
Течет река Волга,
А мне семнадцать лет…
А что, видно, вправду бывает, когда в душе пожилому человеку опять семнадцать лет становится, чудно!.. Павел Иванович сконфуженно усмехнулся, опасливо оглянувшись: не вслух ли ненароком забормотал? И тут только заметил, что он не один на набережной. Почти рядом, под корявым вязом, размахивающим на ветру голыми ветками, парень целовал девушку в красной шапочке; под качнувшимся бликом фонаря Павлу Ивановичу даже почудилось, что он увидел ее бледное, с закрытыми глазами лицо. Эх, сладко!..
Ветер меж тем крепчал; поспешно отвернувшись от парочки, Павел Иванович плотнее надвинул кепку, начал подниматься вверх по ступенькам, удивляясь, что их вроде стало больше, чем тогда, когда сбегал вниз. Вот как, даже в груди захлопало!
Высокие окна нижнего цокольного этажа углового дома блестели, как черные зеркала, и только одно из них, посредине, было ярко освещено. Отдыхая, Павел Иванович бездумно остановился как раз напротив и, разглядев над ним квадратик вывески «Редакция журнала «Волна», взглянул уже с некоторым любопытством. Заинтересовал его поначалу, пожалуй, не сам мужчина, склонившийся над письменным столом и что-то проворно строчивший, а его поза: он сидел не спиной к стене, как вроде бы поудобней, а почему-то лицом к ней. Вот он задумчиво уставился на нее, будто на белой стене было что-то написано, дернул себя за длинный нос и затих, прикусив в зубах длинную ручку. Не ладится, наверно, что ли? И худой, хотя вроде и в летах. Что ж, каждому кусок нелегко достается – построчи эдак весь день-деньской! Тот, что в краевой газете про Павла Ивановича заметку писал, представительный был, в комплекции – не чета этому. И озаглавил вон как уважительно: «Мастер». Маша, чудачка, чуть не каждый день кому-нибудь газету показывает, будто к слову; всего с полгода, как пропечатали, а на сгибе уже все буковки вытерлись – ладно, что оба наизусть знают…
Должно быть почувствовав посторонний взгляд, носатый за толстым стеклом резко обернулся. Какую-то секунду-другую они смотрели друг на друга в упор: застигнутый этим неожиданным взглядом, Павел Иванович, высокий, с сутулинкой, в кирзовых сапогах, ватнике и надвинутой на самые уши кепке с надломленным козырьком, и тот, в галстуке на тонкой шее, с сердитыми маленькими глазками под невидными бровями, острым подбородком и запавшими под скулы щеками. Носатик раздраженно запахнул штору – так, что даже здесь, на улице, послышалось, как жалобно звякнули кольца подвесок; Павел Иванович сконфуженно крякнул: он же ничего, случайно, пускай строчит на здоровье – может, что и получится.
Окна многоэтажных домов, выстроившихся вдоль набережной, уютно золотились, за шторами и занавесками мелькали неясные фигуры, – Павлу Ивановичу подумалось, что в эту пору они с Машей усаживаются ужинать, поочередно выкликая из второй комнаты упрямящуюся Галку, и, пожалуй, сильнее, чем острую зависть к чужому семейному уюту в чужих окнах, почувствовал голод. Столовые, конечно, уже закрыты, в ресторан не пустят – амуниция не та, надо, значит, прямиком двигать на вокзал, – там всяких принимают. И перво-наперво – борща, горяченького…
Только здесь, в привокзальном ресторане, вытянув под свисающей скатертью гудящие ноги и чутко ощущая голенищами сапог поставленную между ними сумку с покупками, Павел Иванович почувствовал, как устал. Поджидая официантку, он окинул почти пустой зал – половина столиков была уже убрана и сдвинута – недоумевая посмотрел на электрочасы: длинная, заметно подпрыгивающая стрелка показывала двадцать минут двенадцатого, – что за шут? Он сверился со своими – тоже двадцать минут, только – одиннадцатого, понял, что время тут местное, на час вперед, и забеспокоился. Пока ешь, двенадцать будет, полночь, – чего доброго и в гостиницу не попадешь. Да нет, не должно быть – устроится как-нибудь, объяснит: командированный, вам же, мол, волжанам, шипучку к празднику доставил. В конце концов, ему не номер надо, а всего-навсего койку. Чтобы раздеться, лечь, вытянуться, и утром тогда, как в песне будет: «А мне семнадцать лет!..»
Разморенная позевывающая официантка, не подавая меню, скучно объявила, что остались только щи и котлеты, Павел Иванович добродушно согласился:
– Давай их, дочка. И сто беленькой, что ли, – с устатку.
– Водку не держим. Коньяк, – по-прежнему позевывая и глядя в сторону, ответила официантка.
Павел Иванович мгновенно произвел в уме несложный пересчет, покорно пожал широкими, с сутулинкой плечами.
– Тогда коньяку – пятьдесят…
Кусается этот коньячок против беленькой вдвое, хотя те же сорок градусов. Огорченно похмыкивая, Павел Иванович достал из сумки вяленую тараньку – остатки дорожной провизии – и снова усталая кроткая душа его возликовала. Ничего, под тараньку-то и пятьдесят хорошо, потом горяченького!..
Он только успел выложить тараньку на бумажную салфеточку и выдернуть нижний плавничок с янтарной переливающейся полоской жира, как подоспевшая с подносом официантка строго оговорила:
– Гражданин, уберите. Со своим не полагается.
Павел Иванович поспешно убрал злополучную тараньку, пожалел, что не догадался угостить ею дедка с берданкой. Старики любят это – посолиться. Эк ведь строгости! – покрутил крупной седоватой головой Павел Иванович, бережно держа в неловких пальцах крохотную рюмку: вроде капелек, что доктора прописывают.
Щи были жидкие и чуть теплые, котлеты такие мягкие, что и мяса-то в них не угадаешь, но голод, говорят, не тетка. Павел Иванович подчистую съел и первое и второе, вымазал корочкой кисловатую подливу. Вот-те и ресторан! Маша борщ сготовит, так нёбо от перца огнем горит, котлеты горячим духом в ноздри бьют! А это что же, если по совести, – продуктам перевод. Хотя и то ладно: сыт, внутри потеплело, теперь с ночлегом устроиться, и все замечательно.
Когда Павлу Ивановичу отказали в первой гостинице, в которую обратился, он, что называется, и бровью не повел. Не в этой, так в другой устроится, вся и недолга, Но когда ответили точно так же – свободных мест нет – во второй и в третьей, когда постовой милиционер, прохаживающийся по опустевшей улице, как-то уж больно внимательно оглядел Павла Ивановича с головы до пят и объяснил, что есть еще одна, центральная гостиница, – никогда не теряющийся шофер струхнул. А ну как и там – от ворот поворот, тогда что? Опять топать на базу к дедку, третий сон небось уже досматривающему, заливать воду, прогревать мотор, чтобы через час-другой, подрагивая, бежать в будашку? Ах, шут-те возьми! Нет, как угодно, а в центральной этой место надо выбить! Что он в конце концов, – командированный, полтора суток за баранкой просидевший, сюда же и поспешая, или пес бездомный?
Троллейбус отвалил перед самым носом, следующего все не было и не было, все тот же постовой объяснил, что после часа изредка проходит только дежурная машина, и Павел Иванович отправился пешком.
Тихонько поругиваясь про себя и уже досадуя, что проканителился с ужином, он пошел по гулким пустым улицам, ставшим почему-то бесконечными и какими-то неприветливыми, чуть ли не враждебными, невольно озираясь. Добрые-то люди давным-давно спят спокойно…
Подъезд гостиницы был скупо освещен подслеповатой лампочкой, застекленная дверь закрыта и за ней – тишина и темень. Час от часу не легче!.. Испытывая некоторую неловкость оттого, что приходится тревожить людей. Павел Иванович тихонько постучал раз, потом громче – второй, и невольно отступил на шаг – от резко и ярко вспыхнувшего квадрата. Сразу стали видны марш лестницы, покрытой красной ковровой дорожкой, зарешеченный люк лифта и справа у стены – стол, с разложенным по нему полосатым тюфяком. С него, должно быть, и поднялся низкорослый дядька в белой нательной рубахе и в черных штанах с широкими золотыми лампасами – что твой генерал!
Приглаживая всклокоченную седую волосню, швейцар расплющил о стекло раздвоенный утиный носик, – ему было достаточно одного быстрого взгляда, чтобы определить – этот не из тех, кому оставляют бронь, и небрежно махнул рукой, поворачивай, мол, с богом.
Поняв, что дело погано и свет сейчас снова погаснет, Павел Иванович забарабанил настойчиво и требовательно.
Швейцар, потянувшийся уже было к выключателю, изумленно оглянулся; серое лицо его с опухшими веками не предвещало ничего доброго, но и Павлу Ивановичу отступать было уже некуда.
– Ты чего гремишь, а? Чего гремишь? – приоткрыв дверь на вершок и заслонив пятерней впалую грудь от холодного воздуха, возмущенно, как гусак, зашипел швейцар. – Сказано, места нет, и проваливай!
Он хотел захлопнуть дверь, но в этот раз Павел Иванович оказался предусмотрительней – втиснул в узкую щель носок сапога.
– Товарищ, да послушай. Я издалека. Мне бы хоть раскладушку. Чуть свет уеду…
– Убери ногу!
– Не уберу, – с отчаянной решимостью отказался Павел Иванович. – Надо же по-человечески. Я тебе говорю…
– А, фулиганить! – свирепея, взвизгнул швейцар и рванув на себя дверь, коротким злым толчком толкнул настойчивого посетителя в грудь. – Вон отсюдова!
Нападение было внезапным, по Павел Иванович, только покачнувшись, устоял; тяжелый, мгновенный гнев, который у физически сильных и добродушных людей бывает коротким, и о страшным, хлынул в голову, перехватил дыхание.
– Ах ты, шибздик!.. Да я тебя… соплей перешибу! Ну!..
Легко, словно паутинку, он отодвинул в сторону это зловредное визжащее существо, свободно вошел в вестибюль – в тепло, в покой, в тишину, по которой, казалось, бесшумно ходили чьи-то благоустроенные сны.
– Назад, вон! – захлебываясь от злости, тоненько кричал швейцар и стучал по рычагу красного, без наборного диска телефона. – Я при исполнении! Ответишь!..
– Отвечу, отвечу, – пообещал Павел Иванович, поставив сумку в угол и почему-то успокоившись, хотя и не предполагал, как будут складываться дальнейшие обстоятельства.
Из комнаты администратора вышла высокая женщина, статная и рыжая, за ней, одергивая красный свитер, черноволосый, с черными подбритыми усиками упитанный парень, судя по всему успешно помогавший ей коротать глухие ночные часы. Павел Иванович обрадовался – наконец-то можно все объяснить, – с готовностью шагнул навстречу, с искательной, виноватой и добродушной улыбкой.
– В чем дело, Семен Семеныч? – холодно, избегая его взгляда, спросила женщина швейцара, все еще стучавшего по рычагу телефона.
Павел Иванович не успел сказать и слова, как тот, подскочив, начал крикливо объяснять, городя одну несуразицу за другой: буянит, дерется, чуть не взломал дверь, пьяный, – это он-то, Павел Иванович!
– Товарищи, да вы сами подумайте, – удалось наконец вмешаться ему. – Никакой я не пьяный, вы же видите. Я приезжий. Вот мое командировочное удостоверение. Не под забором же мне ночевать…
Почему-то парень в красном свитере, а не администраторша, мельком посмотрел командировку, укоризненно покачал черной, словно лакированной, головой.
– Ой, дорогой, нехорошо, – бархатным голосом принялся стыдить он. – Возил шампанское – будешь возить уголь. Зачем?
– Я все возил, меня не испугаешь, – отмахнулся Павел Иванович.
– Коммутатор не работает, надо звонить по городскому, – сказала администраторша и, повернувшись, пошла – статная, спокойная, в короткой, по моде, но не по возрасту, юбке, показывая полные стройные ноги. Парень лизнул красную, под черными усиками губу, голос его стал еще бархатнее.
– Зачем так, дорогой? Другим жизнь портишь – себе жизнь портишь.
Пораженный тем, что администраторша даже не выслушала его, Павел Иванович случайно перехватил этот недвусмысленный взгляд, – ни этому хахалю, ни той высокой кобыле до него, выходит, не было никакого дела, горькая обида стеганула его.
– Что ты в жизни понимаешь? Кроме чужой юбки?
Парень укоризненно поцокал языком, сквозь бархат в его голосе проступил металл.
– Совсем плохо говоришь. Пожалеешь. Ох, пожалеешь!
– Да что тут с ним цацкаться! – швырнув трубку, снова взвизгнул швейцар. Тщедушно трясущимися руками он снял с гвоздя пиджак с обшитым золотыми галунами воротом, надел его и, не застегиваясь, выскочил в дверь – в гулкой ночной улице тотчас заливисто и тревожно заверещал свисток.
– Да что ж вы делаете, братцы! – ахнул Павел Иванович. – Вместо того чтоб по совести? Ведь мне бы койку – где-нибудь в коридоре. Или в углу. И делу конец, а?
Поглядывая в сторону администраторской, парень молчал, Павел Иванович потрясенно всплеснул руками.
– Это как же называется, а?
Швейцар вернулся с двумя милиционерами; те, так же не став слушать, распорядились:
– Гражданин, пройдемте. В отделении разберемся.
– И еще обзывается, оскорбляет! – выпроваживая, злорадствовал в спину швейцар. – Вкатят пятнадцать суток – дурь-то выйдет!..
Поздняя ночь стала уже не синей, а какой-то грязно-бурой, по пустынному, с погашенными витринами проспекту хлестал ветер. Зябко поеживаясь, Павел Иванович торопливо и сбивчиво пытался объяснить милиционерам, как было дело, – те не отвечали, сторожко, с обеих сторон прижимая его плечами и подталкивая. На душе было мерзкопакостно и пусто, как на улице, черепок отказывался понимать, что его, Павла Ивановича, – впервые в жизни – ведут в милицию. Съездил, называется, в командировку, привез людям гостинец к празднику. «Поезжай, Пал Иваныч, тебя там с таким грузом на руках носить будут». Несут – под обе руки!..
– Вот, Козырев из Центральной задержал, – отрапортовал дежурному старшина, введя напряженно жмурящегося шофера в ярко освещенную комнату. – Мест нет, кроме бронированных, а он, понимаешь, ломится.
– А, Семен Семеныч, – немолодой капитан, с рассеченной рябым шрамом косматой бровью, удовлетворенно хмыкнул. – Бдительный страж!
Цепкими холодными глазами он взглянул на задержанного, подавленно и безучастно стоящего перед ним с какой-то допотопной кирзовой сумкой в руке, коротко потребовал:
– Документы.
Засуетившись, Павел Иванович выложил на стол паспорт, водительские права, командировку, военный билет – все, что у него имелось, начал было устало объясняться, – капитан небрежно перебил:
– Старшина, проводи его.
В висках у Павла Ивановича тревожно застучало, но ничего страшного в соседней комнате не оказалось, как ничего не произошло и с ним самим. Стол у окна и два, впритык составленных у стены деревянных дивана, с выгнутыми спинками, какие стоят обычно на вокзале.
– Садись, – сказал старшина.
Павел Иванович послушно сел, устало сложив на коленях руки; старшина встал в открытых дверях, словно загораживая его. «Боится, убегу, что ли? – равнодушно подумалось Павлу Ивановичу. – Убежишь тут, когда все документы забрали…»
– Пьяный? – донесся голос капитана.
– Да нет будто, – поколебавшись, ответил старшина. – Козырев, правда, сказывал, что пьяный. А так нет, не пахнет. И шел спокойно.
– Машина где? – последовал второй вопрос.
Павел Иванович промолчал, – старшина, оглянувшись, строго переспросил:
– Оглох, что ли? Машина, спрашивают, где?
– На базе, на Циолковской. Где ж ей быть?
– Отвечай по существу, – одернул старшина.
«По существу! – горько, про себя, усмехнулся Павел Иванович. – А вы меня по существу спросили, выслушали?..» Не послушался старика: спал бы сейчас в своей «Колхиде», на худой конец раз-другой сбегал бы к дедку в будашку отогреться, а утром чуть свет спокойно выехал бы. Да где-нибудь в дороге, в деревне, вздремнул бы – там гостиниц нет, каждый пустит, потому что – понимают…» Павел Иванович откинулся на гнутую жесткую спинку дивана, прикрыл саднящие набрякшие веки, тоскливо вздохнул. Стыд-то какой! Либо талон проколют, либо отрабатывать заставят – тут все сделать могут. И что-то еще – горше, чем простая обида, сочилось, скапливалось на сердце, прижигало тесно сведенные веки…
Не чувствуя уже ни вкуса, ни запаха «Беломора», капитан курил, просматривая паспорт, командировку и ни разу не проколотый водительский талон. Похмыкивая, открыл военный билет и, снова потянувшись за папиросой, внимательно перечитал последние густо испещренные странички – ранения и поощрения, задумчиво потер рябой, пересекший левую бровь шрам. Да, повидал солдат…
– Ну, чего он тут? – капитан потянулся, прошел мимо посторонившегося старшины.
– Уснул! – возмутился старшина, оглядываясь. – Ну, сейчас я его!
– Тихо, тихо!
Задержанный, с обиженным помятым лицом, спал, подложив под щеку здоровенный кулак и вытянувшись; кирзовая сумка, из которой высовывалась приоткрытая картонная коробка, лежала на полу, у ног.
– Дай подушку, – распорядился капитан.
– Задержанному-то.
– Дурак ты, Трофимов, – беззлобно сказал капитан. – Не видишь – человек спит.