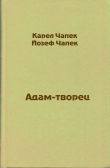Текст книги "Роман по заказу"
Автор книги: Николай Почивалин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 22 страниц)
А к людям Клавдия тянулась. Тяга это – к общению, ко всему, чего она была лишена тут, хотя Тимофей, наоборот, считал, что жена его ни в чем не нуждается и всем довольна, – тяга эта проявлялась, помимо ее воли, во всем.
В одно из воскресений она с Тимофеем собралась после обеда съездить в село. Полная нетерпения, нарядная, Клавдия сидела на лавочке, ожидала мужа: чисто выбритый, в наглаженных брюках, в полуботинках, тот, стоя у телеги, разговаривал с неурочным посетителем. В легком платье с пояском, в черных лодочках, надушенная какими-то крепкими, не очень хорошими духами, она поминутно поправляла дочке бант, обеспокоенно наставляла Якова, что и где он найдет, когда захочет есть.
– А то поедемте с нами. Там народ, весело… – И привела самый веский довод: – Кино поглядим.
Яков не сдержал невольной улыбки – щеки Клавдии порозовели.
– Вам-то не в диковину. Вы там, наверно, и в театр ходите.
– Конечно.
– Я еще дома жила, девчонкой – к нам артисты из Пензы приезжали. – Клавдия тихонько вздохнула.
Оставшись один, Яков вступил в единовластное владение всеми окрестными землями, лесами и водами, провел по-своему неповторимый день. Тишина, безлюдье, ощущение безграничной свободы. Впервые мелькнула мысль: а не поселиться ли навсегда в таком уголке? – лет до ста наверняка проживешь! И тотчас почувствовал, как все в нем решительно запротестовало: нет, нет, нет! Каждому, видимо, свое: лишиться друзей, не видеть высоких застекленных сводов депо, из-под которых каждое утро Яков выезжал на своем ЧС-2, он уже не мог. К концу второй недели здесь Яков и так с трудом удерживал себя от внезапных желаний добежать до разъезда и сесть в первую же электричку. Да, без людей долго он не мог, и, хотя личная свобода была полнейшей, под вечер он заскучал. Прихлебывая в одиночестве молоко, Яков поймал себя на том, что прислушивается, не раздастся ли в тишине поскрипывание колес…
Вернулись хозяева поздно, и, едва только подвода остановилась, Яков понял: что-то неладно.
Передав ему на руки уснувшую дочку, Клавдия спрыгнула, голос ее жалко дрогнул:
– Съездили!..
Тимофей выбрался, тяжело хватаясь за телегу. Пошатываясь и сопя, он направился к дому, требовательно скомандовал:
– Клавк, айда спать!
– Да отстань ты, наказанье мое! – удерживая близкие слезы, зло крикнула Клавдия. – Хоть бы лошадь распряг!..
Утром Тимофей разбудил Якова, попросил трешку и вернулся к завтраку как ни в чем не бывало, веселый и разговорчивый.
– Зря ты, мужик, так пьешь, – не удержался Яков. – И себе, и жене своей жизнь отравляешь. Не видишь разве?
– Пошел ты! – незлобиво ругнулся Тимофей и с наигранной ленцой, сквозь которую отчетливо прозвучала угроза, посоветовал: – Ты вот что, парень, не встревай-ка, куда тебя не просят. Да по-хорошему прошу: смотри ей байками этими голову не задури. Человек ты городской. Ты по-своему живешь, мы – по-своему. Тебя завтра ветром сдует – тебя и нет. А ей тут со мной век вековать. Молчишь?.. Ну так оно и лучше.
В словах Тимофея опять была своя правда, нисколько, конечно, Якова не поколебавшая. Как и в первый раз, спор они вели не на равных: чувствуя свою слабину, Тимофей сразу же напоминал Якову, что он тут – только квартирант, чужой человек. Поневоле приходилось умолкать, ничего не доказав. Яков сердился на себя. Да, правильно, он тут – посторонний. Но должен ли он оставаться безучастным, если рядом с ним другому человеку приходится солоно? Где эта мера – должен, не должен?.. А если должен помочь, тогда – чем, как? Доказывать Тимофею – что об стену горохом. Посоветовать Клавдии: бросай, мол, тут все к чертовой матери, поступай на работу и живи, как все люди? Да имеет ли он право на такие советы? И разве она спрашивает их! А семья, дочь? Нужны ей такие советы, как прошлогодний снег!.. Не находя ответа, Яков потихоньку поругивал себя. Что все-таки за характер у него такой дурацкий? Во всякие, не имеющие к нему отношения истории он ввязывался и на работе, набивал, как говорят, себе шишки на лбу. Начальник депо, толстячок с бритой головой, выговаривал ему после общих собраний почти так же, как нынче Тимофей:
– Ну что ты за человек, Яков Гаврилыч! Машинист великолепный, гордость, можно сказать, наша! Работай себе, красуйся. А ты из-за какого-то ученичка в драку, как петух, лезешь. И себе, и людям нервы портишь!..
Клавдия о воскресном инциденте помалкивала – то ли не желая бередить себя, то ли, наоборот, давно свыкшись, забыла обо всем, и тогда бестолковое заступничество Якова, его раздумья оказывались смешными, ненужными. И все-таки – нет, она все помнила: сколько раз, разговаривая, она быстро взглядывала на него, будто благодарила за то, что ни о чем не напомнил ей. А разговаривали они теперь, пожалуй, даже чаще, всякий раз – по какому-то молчаливому уговору – расходясь в стороны, как только показывался Тимофей.
Штопая Якову прохудившуюся на локте рубашку, Клавдия спросила:
– Вы чего ж это до сих пор без жены живете?
– Да так как-то, – Яков пожал плечами. – Не получилось.
– А была?
– Была… Невеста.
– И что же? – Перекусив белыми плотными зубами нитку, Клавдия впервые так прямо и долго смотрела на него.
– Поехал переучиваться на курсы – когда на электровоз переводили. Вернулся – она уже замужем. – Яков усмехнулся, удивившись про себя, что о своей горькой обиде, о которой еще недавно было больно даже думать, он впервые рассказал так спокойно и коротко.
– Ничего, другую найдете, – убежденно, тоном старшей, утешила Клавдия.
– Ма-ам! – протяжно позвала Рая, показавшись на крыльце.
– Иди сюда, дочка.
Заспанная, в одних красных трусиках, а сама беленькая, Рая побежала к матери и, наступив на что-то, замотала ногой, испуганно заревела: из пятки у нее хлестала кровь.
– Вот ты грех еще! – довольно спокойно, как о чем-то привычном, сказала Клавдия, подхватив дочку на руки. – Ничего, сейчас мы ее тряпочкой завяжем.
– У меня бинт есть, – вспомнил Яков.
Он сбегал за индивидуальным пакетом, отшвырнув по пути зеленый осколок бутылки, взял Раю к себе на колени.
– Промыть сначала нужно, воды неси.
Довольно глубокий порез промыли, залили йодом; обхватив Якова за шею, малышка шмыгала носом, всхлипывала и, успокаиваясь, смотрела, как дядя ловко, крест-накрест, завязывает ей ногу.
– Заживет, не впервой. – Клавдия внимательно, как-то по-своему, по-женски взглянула на Якова с доверчиво прижавшейся к нему дочкой – широкоплечего, озабоченно нахмурившего добрые брови – и убежденно, уже легонько завидуя в душе кому-то, сказала: – Жене с вами хорошо будет.
Ничего не поняв, Яков недоуменно посмотрел на нее, поспешно отвел взгляд.
Забирая у него дочку, Клавдия низко наклонилась, в оттопырившемся вороте кофточки – почти у его глаз – смугло округлились маленькие груди с голубой жилкой посередине. Шальная тяжелая кровь ударила Якову в виски, припекла губы.
3
После этого случая Яков стал не то чтобы избегать Клавдии, но во всяком случае и не искать с ней встреч. Пустили, называется, человека в дом! – смущенно посмеивался иной раз он, вспоминая свое замешательство. Хорошо, что Клавдия ничего не заметила: она относилась к нему по-прежнему ровно, доброжелательно, радуясь их нечастым разговорам. Совсем перестала дичиться его и Рая: запрокинув белобрысую головенку, она ждала, когда дядя тихонько подавит пальцем ее курносый нос и смешно зазвонит: динь, динь!..
В голову иногда приходили неожиданные и забавные мысли: может, он влюбился, может, это на роду у них написано – уводить чужих жен? Отец свел мать от живого мужа с пятилетним Андреем, сводным братом Якова. Это теперь батька такой степенный, а был сила парень! На увеличенной фотографии он, в бытность главным механиком МТС, изображен в кожаной куртке, дерзко улыбчивым, в кепчонке, чуть прикрывшей копну волос. Внешне Яков – весь в него… И тотчас представилось: вот он привозит Клавдию к себе, отец – из-под лохматых, как у него, у Якова, бровей – оглядывает ее, лихо подкручивает седой ус. «Молодец, Яшка, по-нашему!..»
Нет, конечно, никакой любви не было. Яков симпатизировал Клавдии, сочувствовал, иногда жалел ее, но и все. Наблюдая, как она, собранная и точная в движениях, кормит кур, разбрасывая зерно, скоблит стол, время от времени поправляя кистью выбившуюся на лоб прядку, или, опустившись на корточки, разговаривает с дочкой, Яков невольно сравнивал ее со своей неверной любовью, убеждался, что Клавдия, возможно, и лучше ее, и все-таки не Клавдия, а та оставалась желанной. Высокая, с большим накрашенным ртом, размашистая, она снова дразняще ярко вставала перед его взором, он ошибался, что давно забыл ее…
Убыла и решимость Якова поговорить с Клавдией о ее дальнейшей судьбе. Кто ему сказал, что она не любит мужа, несчастна с ним? Сам же он это решил, и только на том основании, что Тимофей пьет. А если перестанет?.. Тимофей, вероятно, правильно сказал ему: сами они разберутся, недаром по пословице муж и жена – одна сатана.
Понимая, что все эти мысли заняли его от безделья, Яков принял соломоново решение – завтра же, на четыре дня раньше, уехать. И сразу же обрел былое спокойствие.
После обеда он часа два-три подряд колол дрова – это было единственное, чем он практически мог помочь Клавдии, отблагодарить ее; к вечеру сходил в село, купил бутылку отходной: по-доброму хотелось попрощаться и с Тимофеем.
Вернулся он в сумерках, поглядывая на частые всполохи далекой беззвучной грозы. Дверь на крыльце была прикрыта, непроницаемо и слепо поблескивали темные окна. На столе под полотенцем стояла крынка молока, хлеб. Яков сунул туда же и бутылку. Тимофей обещался прийти пораньше, да что-то припаздывает…
На сеновале было душно, Яков лежал, оттягивая влажный воротник, машинально прислушивался к приближающемуся погромыхиванию. Вспышки молнии сдергивали темный покров, стремительно заливали небо мертвенно-бледным светом, и тогда становилась видна внутренность сеновала, чемодан в углу, а в четырехугольном проеме дверцы – застывшие в оцепенении деревья. Вспышка гасла, четырехугольный проем на какое-то время исчезал вовсе, духота становилась еще сильнее.
– Ого, это уже ближе ударило!..
Яков сел, поставив ноги на лесенку, и даже зажмурился: такой густой и черной, как деготь, была сомкнувшаяся ночь, а воздух – таким плотным, наэлектризованным, что казалось, чиркни сейчас спичку – и он, вспыхнув, как спирт, взорвется. Гнетущая тишина сдавила виски, и, когда терпеть ее стало невмоготу, из мрака, из самого чрева его, вылетела добела раскаленная молния и, извиваясь от переизбытка силы, обрушила свой чудовищный заряд. Земля вздрогнула. Яков всем телом ощутил, как качнулся, словно карточный домик, сарай. Зловещее неживое сияние ослепило землю, высветило каждое дерево – четко, словно тушью, обведя его контуры, – каждую, такого ж неживого пепельно-сиреневого цвета, травинку.
А Клавдия там одна с дочкой, забеспокоился Яков. Он спрыгнул, пошел вокруг дома, нащупывая рукой стены, – так снова стало темно.
На крыльце смутно белело пятно, и тотчас, под новый раскат, Яков увидел Клавдию. Она стояла, вжавшись в угол и скрестив на груди руки, смотрела на дорогу; на ее бледном лице тревожно темнели напряженные брови и плотно сжатые губы.
– Не приехал? – Яков поднялся, присел на перильце.
– Нет…
Яков представил себе, как уже не один раз, до него, Клавдия вот так же стояла на крыльце, ожидая и вглядываясь в темноту, и как она будет стоять снова и снова, после него, – ему стало жаль ее.
– Ты бы хоть лампу зажгла. Чего ж так?
– Боязно, – не сразу отозвалась Клавдия. – Говорят, огонь грозу притягивает.
– Глупости все это.
– И так вон – присвечивает! – горько, опять показав бледное напряженное лицо, сказала Клавдия.
В этот раз гроза была затяжной, долгой: полыхнув первой беглой вспышкой, она, нарастая, становилась все ослепительней, заполняя небо, и, когда оно стало тесным, яростно вогнала свой сине-золотистый клин в землю. Вблизи что-то треснуло, с шумом повалилось и заглохло, смятое могучим торжествующим грохотом.
– В дерево ударило, – донесся стесненный голос Клавдии. – В прошлом году и паренька, и лошадь убило, одним разом…
– Ничего, где-нибудь пережидает, задержался, – успокоил Яков.
– Да пусть бы его уж пришибло, пропойца несчастный! – зло и отчаянно вырвалось у Клавдии.
– Ты что? – поразился Яков. – Разве можно так?
– А так – можно? – надрывно спросила Клавдия. – Всю душу издергал! И как только я…
Она умолкла на полуслове, и не успел Яков понять – почему, как донеслось лошадиное ржанье.
– Тима! – крикнула Клавдия и, опередив Якова, метнулась в кромешную темноту.
Помогая людям, гроза зажгла свой гигантский серебристый светильник, тяжеловесно похохатывая, в его неровном, быстро тускнеющем свете плашмя лежащий в телеге Тимофей с зеленоватым лицом и закатившимися глазами казался мертвым; между лопаток у Якова пробежали холодные мурашки.
– Вставай, ирод! – плача и тормоша мужа, закричала Клавдия.
Тимофей икнул, пошевелился и затих снова. Яков облегченно перевел дыхание.
– Отойди, я сам его.
Ничего не видя, он нащупал плечо Тимофея, гадливо отдернул руку: рубашка на нем была мокрая, осклизлая, в нос ударил запах блевотины. Преодолевая отвращение, Яков вытащил его из телеги, повел, вернее, понес – обвисшего, волочившего ноги – к дому, с трудом удерживая желание дать ему пинка.
– Куда его? – чуть запыхавшись, спросил он в сенках.
– Да хоть тут и кинь, – всхлипывая, сказала Клавдия.
– Не-е… Постель, – на минуту очнувшись, промычал Тимофей.
– Тебя вон головой в колодезь бы, а не в постель! – Клавдия зажгла лампу, бросила в прихожей на половичок подушку. – Тварь несчастная!..
Яков выпрямился, заглянул в горницу, куда с лампой вошла Клавдия, и невольно улыбнулся: посредине комнаты, в деревянной кроватке, разметав руки, безмятежно спала Рая – ни до грозы, ни до забот взрослых ей еще не было никакого дела…
Пока Яков отмывал во дворе руки, Клавдия распрягла и привела лошадь. Меринок добродушно пофыркивал, словно объяснял: «Я свой долг выполнил, а в остальном вы, люди, сами разбирайтесь…»
На крыльце Яков закурил, удивленно прислушался. Гроза ушла, слабые ее отсветы вставали где-то за лесом, поверх деревьев, отдаленный гром походил на кошачье урчанье. По крыше забарабанили первые капли, повеяло свежестью.
Вышла Клавдия, по-прежнему стала в углу, скрестив на груди руки, – теперь, при тусклом желтом свете, сочившемся из кухни через боковое окно, ее было видно.
– Спасибо тебе, – устало и успокоенно сказала она, должно быть и не заметив, что перешла на «ты».
– Ну чего там…
Дождь набирал силу – прямой, щедрый, теплый; не заглушаемый его ровным успокаивающим шумом, по сенкам плыл заливистый храп.
– И ведь не пил прежде, – тихонько сказала Клавдия. – Жили в деревне, работали в колхозе – все по-хорошему было… А сюда переехали – и пошло. Как же, вольница! Одному нужно, другому нужно – вот и идут к нему. Все шухеры-мухеры какие-то. А для чего все? – лишний раз налакаться только!..
– Говорить-то ты с ним пробовала? Может, вам опять в колхоз уйти?
– Он, господи! Да он и слушать об этом не хочет. Чего уж только не делала. И ругала, и плакала, и била его пьяного. Трезвый-то он только цыкнет, как вон на собаку! – Спокойный с горчинкой голос Клавдии осекся. – А в деревне еще завидуют: вот, мол, живут!.. Когда бывает, подхватила бы Райку да куда глаза глядят отсюда!..
Все недавние сомнения – удобно или не удобно, имеет ли он право вмешиваться или не имеет – исчезли; теперь Яков обязан был помочь человеку, он решительно отшвырнул папиросу.
– Тогда вот что, Клава, послушай. Я и раньше тебе хотел сказать. Уезжай ты отсюда. Сама же говоришь – разве это жизнь? Ну что ты себя тут похоронила? За пьяным подтирать?.. У тебя вся жизнь впереди!
Клавдия слушала, не шелохнувшись. Яков чувствовал, что каждое его слово находит ее, в ней же и остается, уверенно находил все новые доводы.
– Может, это даже для него лучше будет – опомнится. Я понимаю, что ты сейчас думаешь: а куда? Да в город, конечно. Работать поступишь. На первое время у нас можешь остановиться. Старики у меня замечательные, мать и за дочкой приглядит. А потом устроишься. Дочку в детсадик. Чего она у тебя тут видит – пьяного!.. И себе и ей жизнь изуродуешь.
Клавдия сделала какое-то неуловимое движение – то ли перевела дыхание, то ли крепче сжала скрещенные на груди руки, словно защищаясь, и теперь Яков почувствовал, что те же самые убедительные слова уже перестали находить ее, словно отскакивали.
– Решай.
Все так же шумел дождь – ровный, спорый, негромкий голос Клавдии будто сливался с ним.
– Спасибо тебе, Яша, за все… Ты даже не знаешь, как я рада, что ты пожил у нас…
– А, да ерунда! – отмахнулся Яков.
– Нет, не ерунда. Только ничего этого не будет.
– Почему?
– Нельзя, Яша… У дочки должен быть отец. Ты еще не знаешь это. А он, хоть и не показывает, любит ее. И пропадет он один… – Клавдия покачала головой, голос ее прозвучал тоскливо и звонко: – А так – вон как птица бы улетела!
– Вот и лети, кто ж тебя держит? – подосадовал Яков. – Прямо завтра со мной можешь.
– Хватит, Яша, об этом. Ни к чему. – В тишине снова стал слышен шум дождя, храп Тимофея. Клавдия буднично и устало закончила: – Пойдем, поздно уже. А то встанет – невесть чего еще подумает…
«Дуры бабы!» – возмутился про себя Яков непонятной ему покорностью, сходя с крыльца под теплый редеющий дождик.
…Когда утром Яков выбрался с сеновала, первое, что он увидел, была рухнувшая неподалеку от бани сосна, белеющая на изломе тонкой щепой и перекрученными волокнами. Умиротворенно, после ночного буйства, голубело высокое небо; бесшабашно носились и чирикали пичуги, пронзительно зеленела промытая трава.
Тимофей и Клавдия, с дочкой на коленях, мирно сидели за самоваром. В душе у Якова шевельнулось что-то нехорошее, обидное.
– Ты чего, собрался уже? – удивился Тимофей.
– Все, отгулял.
– Садись тогда, заправься. – Тимофей подвинулся, запухшие красные глаза его смотрели улыбчиво, разве что чуть смущенно. – Переложил я вчера малость. Как до подушки добрался, и то не помню. Оно бы, конечно, поправиться не грех. И дорожку твою погладить…
Яков вспомнил о купленной бутылке, взглянул на Клавдию, – ресницы ее вздрогнули и, так и не поднявшись, низко легли на расплывшуюся под глазами синеву.
Тимофей шумно схлебнул с блюдца, в отместку жене – за неуступчивость – радушно пригласил:
– На то лето давай опять приезжай. К брательнику махнем, на озеро. Рыбы у него – во! Самогонки – залейся!
Рубаха на нем была другая, чистая, в слежавшихся рубцах, но Якову все мерещилось вчерашнее – может быть, потому, что от Тимофея несло перегаром, – кусок в горло не шел.
– Боюсь опоздаю, – поднялся он. – Ну, спасибо вам!
Он пожал руку Тимофею, потом Клавдии – она исподлобья и виновато взглянула на него; вскинул завизжавшую от удовольствия Раю.
– Будь, здорова, маленькая!
Торопливо, будто в самом деле опаздывая, Яков сбежал под гору, перешел по доске через речушку. Поле встретило его сухим шелестом хлебов, близким стрекотом комбайна, неоглядным простором.
Бежали, остро блестя под солнцем, рельсы, сосны подступали к самому полотну и отскакивали, оставаясь позади. Широкогрудый остекленный ЧС-2 мчался, словно в тоннеле, зорко присматриваясь к помаргиванию светофоров.
– Зеленый, – через ровные промежутки времени называл помощник, скуластый белозубый парень в кремовой, как у Якова, сорочке с черным галстуком.
– Зеленый, – подтверждая, повторял Яков.
Четко, как часы, пощелкивал скоростемер, мягкими покачиваниями отдавались стыки. На пластмассовом пульте привычно посвечивали многочисленные приборы, распределяющие и контролирующие электрическую кровь двигателей, привычно лежала на черной баранке контроллера рука Якова. Он любил это ни с чем не сравнимое ощущение слитности с могучей и умной машиной. В будке он всегда чувствовал себя собранным, уравновешенным, – горячиться, ввязываться в споры, проявляя свой прямой и неуживчивый, как ему твердили, характер, он мог только в кабинете начальника, на собрании, в кругу друзей, наконец. И непонятно, кстати, за что на днях, к величайшему изумлению Якова, его дружно избрали заместителем секретаря партбюро…
Прогремел встречный товарняк – стремительная красная лента с белыми полосками промельков; лес расступился, впереди возникла приметная старая липа.
– Зеленый!
– Зеленый…
Поле давно было убрано и щетинилось, как голова новобранца, короткой рыжей стерней. На горе, справа, сизо темнел бор, но ни сосны, ни дома лесника отсюда не было видно. Четыре восемнадцать – точно по графику…
На крохотном, замедленно наплывающем перроне никого, кроме начальника разъезда, не было – Яков помахал ему из окна кабины, остался на месте.
Изумрудно вспыхнул выходной светофор, помощник тотчас звонко объявил:
– Зеленый!
– Зеленый, – помедлив, словно еще выжидая чего-то, откликнулся Яков.
Щелкнул контроллер, прощальный низкий бас ЧС-2 был спокойным и долгим.