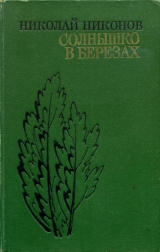
Текст книги "Солнышко в березах "
Автор книги: Николай Никонов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 27 страниц)
В ПИОНЕРЫ
Красный галстук с серебряной смычкой в виде костра! Те, кто носили его, казались очень взрослыми ребятами. До галстука далеко. Первый класс, второй, третий… В третьем уже принимали, да только не всех, а кто лучше учится, помогает дома.
А я учился по-среднему. Я сбегал с уроков. Иногда и вовсе прогуливал. Так бывало осенью, в пролет чижа и чечетки. Выйду из дому с портфелем, а ноги сами ведут меня мимо школы. Постою за оградой, дождусь, когда Сима забрякает звонком, и потихоньку, с сознанием непоправимости совершившегося бреду к пионерскому парку.
Парк уже давно закрыт. Ворота заколочены. Я лезу через забор, спрыгиваю в липняк. Оглядываюсь. Никого нигде. И вздохнув свободно, махнув рукой на будущие неприятности, весело иду в глубь сада.
Теперь все утро мое!
Я один в этом пустом, поределом и туманном парке, в утреннем холоде неяркого осеннего солнышка.
Я один в суживающихся, засыпанных листом аллеях. Я один… Но мне так счастливо-вольно.
Осень в парке лесная. Она никогда не пахнет так на дворе. Ясный холодный запах веток и листьев. Большие дрозды бегают, шелестя, по дорожкам. Пищат синицы. Стучит дятел. Везде полно рябиновых гроздьев и терпкой кисло-вонючей калины. Я ем ягоды, ищу в облетелой листве палые яблочки. Они всегда с червоточинкой и слегка завялые, но сладкие, вкусные, если не очень брезговать. Бывает, что выплюнешь беленького червячка.
А потом я лазаю в черемушнике у воды, выслеживаю каких-то зеленых птичек. Или гляжу, как стаи чижей осыпают макушки берез. В кустах шиповника и рябины каждый листочек разный: есть листья темно-бордовые, запеченные, есть красные, а вот, точно арбузная мякоть – студеный заревой цвет.
Наберу разных листьев полные карманы. Да жаль, дома листья будут уж не такие. Они жухнут в карманах, бесследно теряют свою красоту.
А на другой день приходится что-нибудь врать Марье Васильевне и жить в тревоге перед неизбежной расплатой.
Дома я тоже не помогаю. Разве за хлебом в магазин пошлют. Сострою тогда самую кислую рожу и плетусь, мотая сеткой по земле. Хорошо, если к хлебу бывает привесок. Его полагается обязательно съесть по дороге. Привески вкуснее хлеба.
А еще не ладится у меня с русским. Мы учим его по хоровому методу. Марья Васильевна рассказывает правило. Отличники повторяют. А потом всем классом нараспев мы тянем:
– По-о-сле ши-пящих:
же-че-ше-ще…
не пи-шется я,
а пи-шется а.
Не пи-шется ю,
а пи-шется у.
Не пи-шется ы,
а пи-шется и…
Нудное повторение рождает желание искажать и перевирать правила.
И вот потихоньку я пою:
– Не пишется а,
а пишется я…
И писал в диктанте: чяй, лыжы, щюка.
За одну-единственную такую ошибку строгая Марья Васильевна ставила «кол» – размашистую красную единицу, в полтетрадки. Это считалось верхом бесчестья. Ошибку Марья Васильевна подчеркивала четырьмя жирными линиями и заставляла переписывать злосчастное слово двадцать раз. Правила меня удивляли. Ну зачем же писать «и» в слове лыжи, когда там никакого «и» не слышится? Зачем запоминать слова – исключения на «цы»? Я не понимал необходимости ставить мягкий знак в словах «рожь, мышь», ведь не ставится он в слове нож!
Вылезал я только на контрольных. Они были в конце каждой четверти. Перед контрольной диктовкой я готовился, точно бывалый солдат к обороне. Прочитывал правила, зубрил исключения и заставлял Верку диктовать. Она копировала Марью Васильевну, ее глуховатый голос и манеру ходить по классу размашистым шагом.
На контрольной я весь обращался в слух, проверял каждое слово. И вот результат:
– Несмеянов – «отлично», Малкова – «отлично», Шумкова – «отлично»… Никитин, – голос учительницы играет угрожающей интонацией, – «хорошо». Мог бы на «отлично», да раз все прошлые диктовки одни колы, тут и «хорошо» слишком. Вот, можешь писать. Можешь, когда захочешь… – Марья Васильевна теплеет, пытается воззвать к моему самолюбию.
Молча стою, подставив голову под град упреков. Марья Васильевна отчитывает. Уж лучше бы она «посредственно» поставила. Вот говорит, что отец мой учился куда лучше. (Неужели она помнит, как он учился сорок лет назад?)
А в общем, за четверть я получаю «посредственно» и больше не волнуюсь до следующей контрольной.
Я очень люблю рисовать, но у меня ничего не получается. Я только представляю, как бы взял краски, свежий, плотный лист и начал писать облака на закате, какие-то дальние леса под грозовым небом и рассвет. Остро хочется передать серые, зеленоватые тона ненастных туч, цвет дождевой земли и мокрой листвы. В тетрадке, в карманах, между страничек книг у меня множество засушенных листьев и травинок. Круглый листочек осины такой нежно-палевый и голубоватый.
А как сделать это краской? Почему выходит на бумаге зелено-голубая муть?
Рисование ведет тоже Марья Васильевна. У нее не спросишь. Она не считает рисование за предмет и часто заменяет его решением задачек. Раз в четверть мы рисуем на свободную тему. Тогда в мятых альбомах появляются перекошенные домики с кудрявым дымом из труб. Бегут по улицам собаки, похожие на коров, и пузатые человечки. Соседка Варя рисует всегда одних и тех же кукол с красными яблоками на щеках.
Отличник Гриша Несмеянов, пригнув кругло-стриженую голову, вдумчиво выписывает акварелью самолет Чкалова АНТ-25, одномоторный, красный, летящий над голубым полюсом.
За полюсом бьется во льдах ледокол «Седов», висит зубчатым полотенцем северное сияние. Красиво рисует Гриша, лучше всех.
А я просто крашу бумагу разноцветными полосами. У меня по любимому рисованию не бывает выше «посредственно».
Родители не вникают в мою учебу. Для бабушки я сам учитель, а контролировать учителя не полагается. Только мать изредка смотрит мои тетрадки. Мать ругает за неряшливость, за колы. Грозит выпороть. А в конце концов отступается. Ведь четвертной табель у меня без «плохо». Учишься, переходишь, и ладно.
Я уверовал в свою посредственность. В пионеры не просился. Чтобы стать пионером, надо было иметь «хоры» по всем предметам.
Пионеры жили интересной жизнью. У них были отряды, звенья, начальники с нашивками, барабаны и горны. Я завидовал, когда шли они на майскую демонстрацию. Шли белыми рядами. Шли под стук барабанов. Шли со знаменем с золотыми кистями у древка.
Я всегда счастливо ждал майские праздники. Ждал тот день – накануне, когда можно будет достать из шкафа большой кумачовый флаг с вышитым на углу серпом и молотом, залезть на ворота и приколотить древко к верхнему карнизу.
Потом с сознанием исполненного долга я расхаживал под воротами по улице, глядел, как теплый ветер колышет, свивает и разворачивает алое полотнище, и флаг как-то связывался в моей душе с наступающим праздником, радостью приодетых людей, доброй весной и лаской майского солнышка. Вслед за нашим появлялись флаги на других домах и воротах. Улица наряжалась, чисто выметенная, сухая, в зелени липучих тополевых почек, в майском запахе согретой земли и смолки.
А на другое утро я, Юрка, ребята Пашковы и Курицыны спозаранок бежали в город. Глухой дальний гомон и звуки музыки подхлестывали нас. Там, на Нагорной, по Свердлова уже двигались густые колонны, вспыхивала, желтела и звенела медь оркестров, глухо бухали барабаны: тум-тум, тум-тум, тум та-ра-та-та-та.
Ошалело мчались по тротуарам ребятишки.
Нескончаемо, вызывая удивление, шел новый завод Уралмаш. Двигались знамена, плакаты и портреты. Шли голубые физкультурницы.
Иногда над городом повисала медленно плывущая алюминиевая громада дирижабля. Стайки листовок отрывались от ее игрушечно маленьких кабин, неслись по-птичьи высоко-высоко и вдруг падали на плечи, на заборы.
И все бежали за этими листовками, лезли даже на крыши, и в первую очередь мы.
Но было и огорчение от тех демонстраций. В центр и на площадь, где проходила парадом Красная Армия, нас не пускали. Везде на углах милиция в белых рубахах, в белых касках с двумя козырьками спереди и сзади. И как тут пройдешь, если ты не пионер, если не со школой, а просто так бегаешь, точно беспризорник.
Из моих знакомых пионером был один Димка Мыльников. Он даже в звеньевые попал. Ходил серьезный, спесивый. Со мной теперь не разговаривал, да и я перестал с ним водиться. Подумаешь, пионер, ну, пионер…
Но вот в пионеры приняли Верку. Как это? А я? Она теперь будет ходить на сборы, на субботники, во Дворец пионеров. А я? Мне-то что делать?
Я долго обдумывал свое новое положение. Теперь Верка еще командовать начнет. Она сразу повзрослела, покрасивела в пионерской форме.
Несколько дней я сторонился Верки, а потом опять начал играть с ней и ходить везде вместе.
Как-то во время пионерского субботника по сбору лома подошел ко мне младший вожатый Костя Зыков, Костя был наш сосед. Он немного заикался и, как отец его – столяр, тоже походил на рыжего петуха.
Я только что прикатил к школе тяжелую ось с колесами от вагонетки и, весь умазанный ржавчиной, сидел на ней. Вообще-то лом собирала Верка. Я помогал. Я обстоятельно знал, где валяются обрезки труб и рельсов, где есть ценные залежи лома, например, в закутке за голубятней Сычова. Сычов свой лом не сдавал, и однажды мы реквизировали все запасы до последней железки.
Костя потрогал чугунное колесо вагонетки и спросил:
– Ты пионер?
– Нет.
– А ппочему работаешь?
– Хочется…
– Ты давай, вступай? А?
– …
– Нну?
– Да у меня «посредственно» по русскому, по чистописанию, по пению, да по рисованию еще…
– Что же тты, брат, ттак? – нахмурился Костя. – Тты, может, не понимаешь? Может, к тебе уд… уд… ударников прикрепить?
– Понимаю…
– Тогда я ничего не ппонимаю. Лодырничаешь, значит. У-у-уроки нне учишь?
Как было ответить на такой вопрос? Уроки я учил. И в школу вроде бы ходил с охотой. Может быть, Марья Васильевна чересчур строга? Нет, она просто справедлива.
– Лентяй ты, вот что. Ведь сознайся, лентяй! И нна субботники к нам не хходи, ппока не исправишься. Ппонял?
Костя вдруг ушел, не добавив ничего.
Слова его больно задели меня. Я? Лодырь? Ну и ладно. И не буду ходить. И без вас мне хорошо… Вот наберите-ка столько лому без меня. Я и еще места знаю, где лом есть. Ага!
Но долго обижаться я не умел. Костя прав, ведь в самом деле иногда я просто озорничаю.
Вот взял вчера и опрокинул Варе на тетрадку чернильницу. Из этой «непроливашки» вылилась целая река чернил. Я не слушал на устном счете и получил «плохо» по-арифметике. Я пустил по классу муху с привязанной за ноги ниткой, все шумели, хохотали, а потом два урока я стоял у стены, тоскливо переминаясь с ноги на ногу. Хорошо еще два урока. Иногда стоишь по целому дню.
Как-то придя домой, я изорвал все старые тетрадки, словно они были виновниками невеселого прошлого. Потом достал из отцовского стола новые, надписал и старательно вывел: 16 октября 1940 года. Домашнее задание… Я писал строчку за строчкой, чисто, красиво…
Учиться я стал заметно лучше. Я вдруг постиг простую выгоду хорошей оценки. Просидишь за уроками на полчаса больше и минуешь многие беды.
В тетрадке одни «хоры». Мать не ругается. Марья Васильевна не отчитывает. От доски к парте идешь довольный. И не надо врать дома и в школе, когда вызывают на родительское собрание.
Правда, до отличников я не добрался. Слишком высока та вершина. Я стал крепким ударником. У Марьи Васильевны все делились на отличников, ударников, середняков и двоечников. Были даже крепкие двоечники: Миша Черезов и Шурка Курицын. Они не вылезали из «колов». Их истертые грязнейшие тетрадки демонстрировались весь год. Целое лето Марья Васильевна занималась с «крепкими» двоечниками по своему почину, а осенью выводила переводной балл. Все начиналось сначала. Класс у нас был стопроцентный, по успеваемости лучший, по дисциплине самый лучший. Наших отличников не снимали с почетной доски. Марья Васильевна заслуженно получала грамоты. А что касается двоечников, то они тоже привыкли, притерпелись к своему положению. Миша Черезов тихонько улыбался, когда нес от стола дневник. На немытом и равнодушном лице Курицына вообще никогда ничего не было написано, кроме тупого спокойствия. Он преуспевал только по рисованию и всегда оформлял классные календари погоды – рисовал синие крестики снежинок и овальное солнышко с красными ножками, похожее на мокрицу.
И вот сегодня меня примут в пионеры. Ноябрьский холодный рассвет сине стоит в окне. Я торопливо одеваюсь. На столе новый шелковый галстук и смычка. Сегодня я дам торжественное обещание и меня примут. «Я, юный пионер Советского Союза…» – повторяю я тысячу первый раз.
Иду в школу, конечно, без пальто. Я давно закаляюсь. У меня побаливает горло и ноет зуб. Но все это пустяки. Ведь сегодня… Дует вдоль улицы снеговой ветер. Он уже не пахнет листьями, как в октябре. Земля застыла твердо. Закоковела, говорит бабушка. Снегу нет. Глухая осень на дворе. Безлистые тополя грустно качают ветками в пасмурном небе. Я слышу чечеток. Слышу жалобное поскрипывание снегирей в садах. Но сегодня эти волнующие звуки и голоса словно бы не для меня. В самом деле, сегодня я вернусь домой, как взрослый. Меня будут поздравлять. Мама уже торт купила. Это я видел тайком. А через три дня Октябрьские праздники и парад, и веселая, какая-то уютная демонстрация. Я пойду на нее вместе с отрядом. Наверное, будет порошить снежок, путаться над знаменами, над красной радостью кумача. Он будет на плечах и на шапках, под сапогами красноармейцев. А еще впереди зимние каникулы. А самое главное – я уж не буду маленьким мальчиком – октябренком. Я сниму картонную обшитую красным звездочку и надену галстук. Я буду пионером.
ХУЛИГАН БУЧЕЛЬНИКОВ
Бучельников был страшный хулиган. Описывать его долго не стоит – представьте себе черного бычка с широкой головой и с очень широко расставленными дикими глазами. Это и есть Бучельников, черный, набыченный, всегда зло посматривающий из-под вьющейся блестящей челки. Взгляда его было вполне достаточно, чтоб у многих-многих душа уходила в пятки. Этот взгляд всегда спрашивал только одно: «Боднуть?» Наверное, из таких Бучельниковых и выходили раньше Соловьи-разбойники, всякие Кудеяры-атаманы, а теперь это просто обыкновенные школьные хулиганы.
Учился Бучельников, к счастью, не в нашем классе, а в третьем «Б», но знала его вся наша восемнадцатая школа, все – от первоклашек, которым походя давал он бесконечные тычки и щелчки, до старших учеников, которые тоже почему-то не связывались с Бучельниковым. Кроме своей хулиганской славы, Бучельников был известен еще и тем, что в третьем «Б» он был единственным «третьегодником». Учился он так: в первом классе – год, во втором – два, а в третьем досиживал третий год. Наверное, если бы он перешел в четвертый, нетрудно угадать, сколько бы там он находился. Да и не учился он, по-моему, совсем. Просто ходил в школу. Звенит, бывало, звонок, и все бегут, торопятся по классам, а Бучельников сидит на крылечке, ухом не ведет, подставляет ноги тем, кто торопится. Пошлет, например, меня Марья Васильевна среди урока намочить тряпку (а знаете, как это все любят и просятся – мочить тряпку) – так вот, пошлет Марья Васильевна, придешь с тряпкой в уборную, а там на окошке почти всегда сидит Бучельников, болтает ногами, курит и плюет на стены, не поберегись – и на тебя плюнет. Или играет ножиком. Ножик у него самодельный – острый, страшный, ручка из патронной гильзы. Этим ножиком он на стенах и на подоконнике разные слова вырезает, ну, сами знаете, какие, – нехорошие. Так вот и учится он в уборной. Я из-за него даже ходил два раза мочить тряпку к девочкам.
Зачем Бучельников в нашей школе – понять невозможно. Говорят, что из-за всеобуча. Обязаны его обучать, пока ему шестнадцать не исполнится, – и все тут. Не один раз прокатывалась по классу и по всей школе радостная, как весенний ветер, весть: «Бучельникова выключили!!! Выключили Бучельникова!!» – исключили то есть из школы.
И верно: смотришь, нет его, нигде нет! Никто не дает подзатыльников на перемене, не бьет носы в уборной, не пинается в раздевалке и не играет ножиком. Нет Бучельникова, и все люди как люди, ученики как ученики. Ну, если кто и подерется немного, скоро и помирится. Подумаешь… Нет Бучельникова – и сразу радостно-легко идти в школу, спокойно, точно гора с тебя свалилась, исчезло противное гнетущее напряжение, с которым живешь постоянно и везде ощущаешь темный взгляд этого парня, слышишь его злой голос.
Может быть, став взрослым, будешь усмехаться своему детскому страху. Но тогда нам было не до смеха. Мне ли одному внушал этот Бучельников почти физически ощущаемый ужас. Достаточно было взглянуть на темно-смуглое его лицо, заметить на себе взгляд упрямо-злых глаз, в которых словно бы никогда не мелькало ни одной доброй мысли, увидеть руки с короткими грязными ногтями. На одной руке у Бучельникова выколото синим – Валера, на другой – половина солнца и сердце, проткнутое кривой стрелой.
Я уж говорил, что Бучельникова исключали из школы. Но не проходило и недели, как, явившись в школу, я вздрагивал: в коридоре, на лестнице или в раздевалке опять, как ни в чем не бывало, стоял Бучельников. Был он разве что чуточку потускневший, чуточку посмирневший, но по-прежнему наглый и глядевший кругом с еще более затаенной угрозой.
И сразу гасла моя радость. Хотелось убежать из школы домой. Вообще не ходить в школу. Это очень плохо – всякий раз чувствовать бессилие мировой справедливости, всегда живущей, по-моему, даже в самом маленьком человеке. Обходя хулигана подальше, я угнетенно думал: почему бывают такие бучельниковы, словно нарочно соединившие в себе многие человеческие пороки?
И вот с таким-то вором, хулиганом и дураком – возятся больше всех прочих, уговаривают, увещевают, воспитывают. Сколько раз Бучельникова обсуждали на совете отряда, на совете дружины, на пионерской линейке, в учительской, на педсовете, без родителей, с родителями. А результат пока был один: убежденный в безнаказанности, Бучельников спокойно продолжал творить зло ежедневно, ежечасно, может быть, даже ежеминутно. Наверное, за тем только и ходил в школу. Он срывал уроки у тихой Софьи Васильевны, плевал на парты, тыкал девочек иголкой, разливал чернила на тетрадки, грозил ножиком старшим, походя колотил младших. Он испытывал, по-видимому, подлое наслаждение, глядя, как очередная жертва, кто с воем, а кто молчком, зажимая нос, бежала прочь.
Самых безобидных и пугливых он изводил своим гнетом, безошибочно угадывая эту безобидность каким-то особым своим инстинктом. Бучельников и меня сразу причислил к этой своей дичи. Я был еще в первом классе, когда познакомился с его шутками.
Однажды я поднимался по лестнице, как вдруг что-то обожгло мой стриженый затылок. Я ойкнул, выронил портфель и схватился за голову. Под пальцами выступила кровь. Не понимая, в чем дело, я стоял сжавшись, морщась, смотрел на руку. А в это время голову снова обожгло и снова, схватившись за нее, я поглядел вверх. Там на площадке стояли большие ребята четвероклассники и среди них этот черный, нагло хохочущий. Он натягивал на пальцах тугую красную резинку. Я успел нагнуться – железная пулька звонко цвенькнула о стену.
В другой раз Бучельников пнул меня в раздевалке, просто так, ни за что. А когда я, вскипев гневом, бросился на него, пытался оттолкнуть, он так ударил меня в глаз, что я ослеп и закричал от боли. Он был выше на две головы – уже тогда учился в третьем, и ему ничего не стоило излупить меня как угодно. Спасло от худшего появление заведующей – Клавдии Васильевны. Недели две я ходил с багровым синяком. А Бучельников, наверное, и не заметил выговора Клавдии Васильевны, зато теперь он причислил меня к своим врагам и преследовал при каждом удобном случае.
Эти преследования, наверное, пошли мне на пользу. Говорят, и трус становится храбрым, если долго преследовать. Слишком храбрым я не стал, но зато научился уходить от Бучельникова всеми возможными и невозможными способами. В классе, если Бучельников заходил к нам туда на перемене, скрыться можно было за дверкой шкафа, за стойкой с географическими картами, на худой конец – под партой. Я узнал все школьные закоулки, где можно было скрыться, отсидеться, если расправа готовилась на улице. Это были чуланы техничек, где пахло метлами, ведрами и еще не использованной на тряпки новой ветошью, это была ниша под лестницей и ход на чердак, закоулок, где стоял школьный кипятильник и где в узкое окошечко можно было удобно наблюдать за Бучельниковым, смотреть, как он прогуливается у входа и на выбор дает тычка то одному, то другому, руководствуясь, должно быть, своим хулиганским вкусом. Наблюдая за Бучельниковым, я приходил к выводу, что он бьет, в основном, меньших и младших, тех, от кого не может быть серьезного сопротивления.
Если Бучельникову не надоедало ждать и он не уходил восвояси, оставалось последнее средство – сидеть в классе вместе с Марьей Васильевной, изображать прилежного ученика, чтобы потом выйти из школы вместе с учительницей, под ее прикрытием дойти до нашей улицы. На своей улице я был храбрый, а Бучельников не рисковал нападать. Почему это так – не знаю.
Конечно, скрыться удавалось не всегда, иногда я все-таки попадался, получал крепкие тумаки, хотя, ближе к лету, научился уходить от Бучельникова, спускаясь по водосточной трубе со второго этажа. Тогда я убегал даже торжествующий. Уйти от грозного врага казалось немалой доблестью.
По своему короткому жизненному опыту я уже понимал, что люди, подобные Бучельникову, способны уважать только силу. Но я не мог представить храбреца, который бы осмелился поднять руку на хулигана хотя бы в свою защиту. Однажды повздорил с ним прямо в классе на перемене наш второгодник Болботун. Но вы ведь знаете, что из этого получилось. По-моему, Бучельникова побаивалась даже Марья Васильевна. Как-то пришел он в наш класс. Он часто к нам приходил, наверное, не только чтобы сводить счеты со мной, а еще потому, что в нашем классе училась крепкая высокая девочка Вера Носкова. Бучельников никогда не толкал и не бил Носкову, только поглядывал, а она его терпеть не могла. Отворачивалась, когда он на нее смотрел, уходила из класса. Так вот, пришел Бучельников к нам, а Марье Васильевне как раз понадобился ножичек подточить красный карандаш. Она проверяла тетрадки.
– Дайте-ка перочинник! – сказала Марья Васильевна, обращаясь ни к кому. Все стали искать, смотреть в сумках, но ни у кого ножичка не нашлось, даже у Нины Силантьевой.
Бучельников стоял недалеко от стола Марьи Васильевны и смотрел на парту Веры Носковой.
– А отдадите? – вдруг спросил он.
– Что? Что такое? – строго спросила Марья Васильевна.
– Ножик отдадите?
– Конечно, отдам…
– Нате… – Он подал ей свой ужасный нож с ручкой-патроном.
Марья Васильевна поморщилась, как-то неловко взяла его, точно брала в руки гусеницу, но точить карандаш не стала. Хмурясь, отдала нож и сказала строго:
– Зачем же ты с таким ходишь?
– А чео? – спросил-ответил он, нагло улыбаясь и бросив взгляд в сторону парты, откуда смотрела на него круглыми глазами, подняв брови, крепкая девочка Вера Носкова.
– Как что?! Разбойник ты, что ли? Нельзя с таким ножищем ходить! Да еще в школу…
– Ну и чео?
– Ничего. Сейчас же убирай! В другой раз увижу – заберу.
– Хм-ха, – ответил он и, как видно, очень довольный пошел из класса, сунув руки в карманы.
А я снова увидел гневный, темный взгляд Веры Носковой. Она была очень сильная девочка, пожалуй, сильнее любого из нас. Однажды, когда Нохрин дернул ее за косу, она залепила ему такую затрещину, что Нохрин и теперь боязливо косится, когда проходит мимо.
Потом я посмотрел на Марью Васильевну и понял: никогда еще не замечал ее такой обезоруженно-растерянной и как-то едко огорченной. Она стала было проверять тетрадки сломанным карандашом, а потом сердито бросила его в раскрытую сумку, встала и, стуча каблуками, ушла из класса.
Дело было к весне. Уже притаивал снег. Он стал оттепельно-мягким и липким. В один такой день я вышел из школы с радостным намерением скорее бежать домой, лепить снежную бабу и кататься на еще не осевшей катушке. Но едва я отворил наружную дверь, ледяной ком ударил мне в лицо, разбил нос и засорил глаза. Кашляя, протирая их, я побежал отмывать кровь, которая сразу и обильно хлынула на руки и на пол. Я даже не понял, от кого мне досталось, ничего не видел.
Оказалось, что Бучельников взял школу в осаду: всякий, рискнувший выйти, получал порцию крепко слепленного снега так метко, что пострадавшие спешили отмываться и отсмаркивать кровь.
Когда с распухающим носом я вернулся в раздевалку, тут стояла порядочная толпа ребят и много девочек. Кто-то плакал, кто-то всхлипывал, кто-то кричал Клавдию Васильевну. А снаружи в дверь, как бы подзадоривая и убеждая в бесполезности сопротивления, с грохотом бухали ледяные комья.
– Да что это? Что такое?! – вдруг высоким, странным голосом крикнула Вера Носкова. Она была выше всех тут. Она да еще наша отличница Вера Малкова, ростом почти с Марью Васильевну. Прикрывшись сумкой, Вера Носкова кинулась в дверь и следом за ней повалили, посыпались, завываливались другие девочки и ребята. Я оказался где-то в середине, но скоро выскочил. Я увидел, как первый ком угодил Вере в грудь, второй, кажется, попал в голову, но она смело бежала к Бучельникову, и вот, должно быть, узнав ее, он оторопело остановился. Остановилась и она перед ним. Вера была даже повыше его. Секунду они смотрели друг на друга.
– Ты кончишь или нет? – вдруг быстро сказала она все тем же не своим голосом. – Кончишь?!
– Чео? – протянул он.
– Ух ты!
И все увидели, как крепкий ранец Веры с размаху треснул Бучельникова. Шапка его полетела в снег. А ранец взвился снова.
– Девочки! Бей его! – крикнула она, кажется, уже орудуя кулаками, потому что ранец тоже брякнул в снег.
– Девочки-и! – На помощь Вере уже спешила Лида Зудихина, Валя Попова, Вера Малкова.
И на Бучельникова со всех сторон посыпались тумаки, замелькали портфели – все это, двигаясь, перемещалось по кругу, и видно было только спины, валенки, руки, да мелькало решительное лицо Веры Носковой в сбившемся платке.
Девочки колотили Бучельникова, окружив со всех сторон, как галки бьют ястреба.
– Ура-а-а! Бей его! Так ему! – кричал кто-то храбрый от дверей.
От страшного хулигана Бучельникова летели перья. Вот он свалился, поднялся, заорал и вдруг, вырвавшись, побежал прочь, зажимаясь, подвывая и причитая, – точно так, как бегали всегда все его жертвы.
На снегу валялась черная шапка, варежка, чьи-то два шарфа и знаменитый ножик с патронной ручкой…
Исцарапанная, красная, с лицом в пятнах, Вера подобрала этот ножик и, вдруг заплакав, понесла его в школу. Видимо, теперь девочки опомнились, вспомнили, что им не полагается драться, и некоторые из них, идя за плачущей Верой, тоже завсхлипывали.
Я посторонился с уважением, даже с немым восторгом, пропуская их. Но когда за девочками захлопнулась испятнанная мокрым снегом дверь и перед школой осталось пустое место сражения, я почувствовал вдруг, что мне становится жарко от угнетающего, тяжелого стыда. Вспомнил, что девочки даже не взглянули на меня, заходя в школу… Я снял шапку и вытерся. Нос еще болел. Солнечный ветер студил мне голову, и все равно было стыдно. Простоял в сторонке… Можно было, конечно, оправдаться про себя – ведь я был вроде как раненый. Но совесть никогда, наверное, нельзя заглушить насовсем. И, медленно надев шапку, не поправляя ее, пиная ледяной комышек, я поплелся домой.
«Что же теперь будет? – думал я, шагая талой весенней улицей. – Неужели Бучельников потерпел полное поражение?» И хоть сам я очень был рад этому событию, даже совсем забыл про опухший нос, все-таки тревожился: что теперь будет?
Когда дня через три мрачный Бучельников появился в школе, он почему-то не задел ни Веру Носкову, ни Лиду Зудихину. Он не заходил больше в наш класс. Словно бы приглядывался, оценивал обстановку. Бучельникова точно подменили: он уже не пинал в раздевалке, не давал щелчки него перестали слишком сторониться, поглядывали смелее и увереннее. Несколько дней прошло в напряженно-натянутом ожидании.
Но Бучельников недаром, наверное, походил на упрямого бычка. И через неделю он попытался вернуть свою славу. Однако он не знал, что утерянная слава редко возвращается. Кроме того, былую славу восстанавливают помаленьку, а он решил начать с главного – и ударил в коридоре самого юркого нашего второгодника Шашмурина. Похожий на обезьяну, стриженый Шашмурин, к удивлению Бучельникова, тут же дал сдачи, они сцепились, как маленькая собачонка с огромным догом, но драчунов разняла Марья Васильевна, появившаяся в коридоре. Весь урок Шашмурин о чем-то советовался с Нохриным, Болботуном и даже пытался толковать с Курицыным, показывая ему что-то на пальцах, хоть Курицын и не ответил, а только покосился. На следующей перемене соединенное войско четырех второгодников во главе с Шашмуриным нанесло такое поражение Бучельникову, что он скатился по лестнице, выскочил из школы и еще долго удирал, преследуемый одним Шашмуриным. Это была победа уже полная и окончательная.
А еще через несколько дней хулиган Бучельников совсем исчез из нашей школы. Одни говорили, что он перевелся в новую школу, другие – уехал, а третьи видели его в гараже, там он помогает шоферам и собирается учиться на шофера. Ну и пусть учится, лишь бы не дрался.






