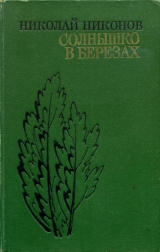
Текст книги "Солнышко в березах "
Автор книги: Николай Никонов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 27 страниц)
– Тты! Куда… Бери деньги… Куда? – донеслось до меня.
Я шел. Мне бы только до угла. Кажется, деляга поднялся с земли. Отряхивался. А мне бы только до угла… Я уже видел один только этот угол. Доску забора с желтым сучком, похожим на глаз. Этот глаз ехидно смотрел на меня, желтый, весь в трещинах, он был едко умудрен тягучей базарной жизнью. Он усмехался и все никак не мог приблизиться. Бывает, что время чудовищно удлиняется, наверное, я шел до сучка целую вечность.
Я повернул за угол и, холодея лопатками, дал такого стрекача, что, наверное, из мостовой летели искры. Может быть, я перекрыл мировые достижения. Очень может быть, потому что мчался, как испуганная птица, и лишь в конце второго квартала, обернулся. Далеко позади бежали двое, один, кажется, сам деляга-игрок. Но это было безнадежно, это не могло меня напугать, я нырнул за угол, пробежал еще квартал, проскочил каким-то двором, отпинываясь от увязавшейся собаки, перелез забор, выбежал к трамваю и с ходу прыгнул на тихо проходивший вагон. Держась за окно, я даже помахал кому-то кепкой. Знай наших! Никогда еще не чувствовал себя таким сильным, удачливым и ловким.
А день был душный, ленивый, августовский. Горизонт обложен синим, словно бы прописан мокрой акварелью. И день запомнился навсегда этими тучами, этим горизонтом, запахом близкого дождя и конца лета.
Перед воротами дома собрал и пересчитал новые и мятые бумажки. Получилось около тысячи четырехсот рублей – сумма невероятная для меня, пятнадцатилетнего. Вместе с моими «сбережениями» я мог теперь купить костюм и даже коричневые новые ботинки. Я оперся о ворота, долго стоял, не решался их открыть. Надо было все обдумать: и что сказать матери, и говорить ли, как выиграл, или лучше не надо? Поразмыслив, решил: «Не надо». А так хотелось… Ведь вот сколько невероятных способов придумывал, а добыл деньги самым невероятным. Выиграл у ловкача! Я был рад, очень рад своей удаче. В ней как бы восторжествовал над всеми, кто обделывал, обманывал, унижал меня, над этими хриплыми, проспиртованными, не знающими ни чести, ни совести – грязной накипью войны, ее подлой изнанкой. И все-таки где-то пряталось, тлело в душе ощущение не то стыда, не то тайной липкой нечестности, ощущение, что я добыл деньги тоже не слишком-то чистым путем – стал сопричастен всей этой наглой «китайской винкельмунии», разыгрываемой базарными удальцами, – ведь деньги, конечно, были чьи-то, той желторотой девахи в веснушках, что ушла, всхлипывая, утираясь на ходу рукавом. А деньги-то, конечно, казенные, раз она доставала из заклеенной пачки. Может, девка сейчас ревмя ревет, дерет себя за волосы, а я тут радуюсь… Приди она сейчас – отдал бы ей деньги. Честное слово, отдал бы: «На, возьми, только не играй больше!» Я даже тогда подумал, деляга подзовет ее, отдаст хоть половину. Как можно спокойно смотреть, когда, плача, уходит обобранный тобой человек?! Где там! Он даже не ворохнулся, и дружки хохотали, матюгались ей вслед. Конечно, ее ведь никто не заставлял играть… А все-таки, все-таки…
Так, а может быть, и не так, думал я, подпирая ворота, разглядывая эти бумажки, новые и измусоленные, похрустывающие и в грязных пятнах, в масляных просветах, иные надорваны крест-накрест, трепаны-истрепаны до последней возможности, – все они пахли базаром, напоминали базар, базарных людей, всяких там деляг, барыг, ханыг, пропойц и жуликов. Перебирая деньги, вспомнил бабушку – она умерла два года назад, – вспомнил: «Найденому-краденому не радуйся: найденое – потеряешь, краденое – само уйдет, а тебя запятнает… Ох, милой, свое-то лыко лучше краденого ремня…» Увидел бабушку точно так, как она мне это говорила. Сидит на кровати старая, больная и согнутая, чувствую, вся жизнь из нее уже вытекла, едва теплится, и жалко мне бабушку, и не знаю я, чем ей помочь. Что я могу? И кто может? Разве только бог? В полутьме за ширмой, где бабушкина кровать, кротким огоньком горит лампадка и глаза святителя сурово-скорбно смотрят на меня. От этих глаз никуда не денешься. Уйдешь в угол – смотрят, пойдешь к другой стороне – смотрят, и затылком отвернешься – все равно чувствуешь их неподвижный, укоряющий взгляд. Почуял я даже тяжелую руку бабушки на своей голове… Тогда принес ей ворованных китайских яблок, а она не взяла…
«Я ведь не украл, выиграл», – бормотал я, точно она могла услышать, а может, я сказал своей обеспокоенной совести, сказал и огляделся. Было густо пасмурно. Тучи синели кругом. Дождем пахло сильно. Но почему-то не капало, только нависало. Края приближающейся пелены были серо-голубые, свободные, скорбные и предвещавшие, а глубь густела лилово-серо, и было видно, как там меняется, перемещается тяжелая предосенняя влага. Тополя спокойно ждали дождя. И ждал наш покосившийся, подпертый досками забор, он видел многое: и дожди, и ветры, и грозы, и солнце сушило его в весенние ясные дни, и так же устойчиво, хоть и кривовато, стояли эти родные мне ворота, родные – от высветленной тяжелой скобки, открывающей донельзя свой, спасительный мир двора, до шатровых пирамидок вверху из крашеного рыжего железа, пирамидок с железными сквозными луковичками, которые я всегда видел, но ни разу не трогал, не залезал еще туда, хоть все собирался и с жадностью следил, как перелезают, перебираются через них то наша, то другие бродячие кошки. Поднебесные пирамидки, в них было что-то прекрасно недосягаемое, и однажды перед широкою грозой, когда вот так же пахло, нависало, а по всему горизонту перебегало, воссияло и гасло нечто, я увидел на маковках голубые тихие огни. И это было столь волшебно, необыкновенно, что я прикусил губы, потом побежал сказать, но огни пропали, оставив вечное ощущение сказки, вечерней и грозовой тайны.
Тучи и ворота успокоили меня. Я поднялся на крыльцо с мужественным намерением никому ничего не говорить. Правда, вечером, когда пришла с работы мать, так и подмывало выложить деньги на стол, ощущение толстой папуши, оттопыривающей грудь пиджака, было нестерпимым, я непроизвольно ерзал за столом, мать отругала меня и хорошо сделала, иначе я бы все рассказал, а за такое от нее похвалы не дождешься. Еще заставила бы нести, отдавать деньги деляге. Матери ничего не докажешь. Она у меня строгая.
А спал я плохо. Заснул, когда уже собаки перестали лаять, просыпался, ворочался – снились веснушчатая девчонка, деляга почему-то без ног, прыгающие карты, деньги сами вываливались из карманов, и все время я эти деньги терял, терял, терял. Я открывал глаза – уже было сумеречно рано, – отворачивался к стене, уговаривал себя уснуть и опять видел проклятого делягу-игрока, и деньги, и его друзей. Они гнались за мной, догоняли, я виснул на трамвайной площадке, никак не мог подтянуться, трамвай ужасно уходил из рук, из-под ног, меня били кулаками, костылем, я увертывался, костыль каждый раз скользил мимо.
– Что ты? Проснись! – трясла меня мать, а я таращился, отбивался…
Было пасмурное утро. В форточку свежо и мокро дуло. Мать стояла возле, тревожно, кругло смотрела. Может быть, она что-то понимала, но я молчал, только отдувался, и она покачала головой, ушла, слышно было, как застегивает старый-престарый трепаный портфель, надевает калоши, спускается по лестнице. А я успокаиваюсь, лежа раздумываю о вчерашнем и о том, как лучше ей сказать обо всем. Я ее очень любил, но теперь уже никогда не ласкался, как впрочем, никогда не называл ее ни уменьшительными, ни всякими теми именами, которыми называют воспитанные, любящие и почтительные дети. Была она мне просто «мама», «мам», я с ней и не делился особенно ничем, разве уж если бывало чересчур тяжело. Я не любил слушать ее наставлений, хоть часто поступал именно так, как она советовала, я не подчинялся ей слишком, оберегал и ценил свою раннюю самостоятельность, но получалось – делал все, что было необходимо и что она считала нужным. У нее был странный характер – вроде бы вспыльчивый и неуживчивый, в то же время бесконечно добрый, прощающий все. Но она была и непримирима к людям, которых не принимала, к людям вроде бы вполне хорошим, и этим удивляла, сердила меня. Лишь впоследствии, когда я стал взрослым, а ее уже не было, я начал понимать, как права была она в той интуитивной оценке людей, схожей с прови́деньем. И тогда же я понял, как много раз был несправедлив, глуп и по-отрочески груб с ней… Такое всегда приходит отчаянно, непоправимо поздно.
Днем я отправился в универмаг. Капал дождь, везде было сыро, по тротуарам бежала прозрачная вода, но было тепло. Дышал дождевым воздухом, шагал по бульвару солидной походкой человека, могущего все купить. Это ведь очень большая разница – ходить ли по магазинам с деньгами или без. Без денег ты вроде бы отделен от всех товаров и продавщиц стеклянной стеной – наверное, это и называется «лизать мед через стекло». Совсем другое, когда деньги, вот они – на всякий случай пощупывал внутренний карман, застегнутый на бабушкину булавку-безопаску. С деньгами по магазинам ходить весело, приятно.
Ботинок и туфель в коммерческом универмаге было много. Все больше чешские, на такой вот подошве – сто лет носи, не износишь, – блестящие, с белыми шитыми рантами, с узорами на носках, они улыбались, манили добротностью, качеством кожи, солидностью фасона, приятно-кожаным запахом. Глаза у меня разбегались, как, наверное, у Али-бабы в пещере с сокровищами, где он то срывал со стен золотые блюда и любовался на свое отражение, то перепоясывался кривым алмазным мечом, то погружал руки до локтей в бочонки с золотыми динарами, – я же просто загонял продавщицу, и так-то не очень охотно, с подозрением и презрением подававшую мне пару за парой. Ах, как мне хотелось купить черные солиднейшие полуботинки, мягко посвечивающие шевровой кожей, или вон те шоколадные, на бледно-желтом каучуке, но ведь мне надо было выбрать одни! – и скрепя сердце я выбрал наконец красно-коричневые, внушительно блестящие, на белой лакированной подошве с зубчатым клеймом «Батя». Это были такие ботинки, что погрузишь ступни в их прохладную гладкую, ловкую глубину и думаешь: «Черт побери, вот ноги – красота!» А рядом стоят пропыленные, вонючие, перекошенные и стоптанные твои ботинки с оборванными, в узлах, шнурками. И опять думаешь: «Как это я в них ходил? Такая дрянь – надевать тошно».
Зато костюм подобрал без труда, темно-коричневый бостоновый, на шелковой холодной подкладке, не костюм – загляденье. Его я облюбовал задолго до того, как стал обладателем таких капиталов. Правда, тогда и не мыслил, что смогу его купить, но теперь вот – все меняется на земле к лучшему, – важно пересчитав деньги на глазах у продавщицы (это тоже было необходимо – знай наших, не косись!), взял выписку, уплатил в кассу и уже с миной хозяина и обладателя следил, как продавщица ловко заворачивает костюм в бумагу шелком подкладки вверх, перевязывает шнурком, туго обрывает, подает. Все!!!
Покупки тяжелили руки. Спускаясь по лестнице, думал, что надо бы еще рубашку с твердым воротничком – такие видел у англичан в ресторане. (The boy’s a savage!) Черт бы их побрал, а одеваться они умеют. Еще надо носки, платок в карман, галстуки… Ну, не все сразу. Денег осталось шесть рублей. Зато есть главное: костюм и ботинки! И это не сон. Вот они, несу… Галстуки у отца есть хорошие. Носки как-нибудь… А рубашку раздобуду… Тра-ля-ля! Мир прекрасен!
Пасмурный день на улице необычно хорош. Дождь прошел. Пахнет прохладным сырым теплом. Не светит солнце, но оно чувствуется. Оно где-то близко. Над городом розовая тихая мгла. На лотках торгуют мороженым. Без карточек! Невиданная довоенная сладость. И я истратил последнюю пятерку на это мороженое, ел, глотал его ледяную нежность и был счастлив, правда, счастлив впервые за много-много лет, после тех бесконечных детских дней.
Наверное, богатство идет к богатству, потому что мать купила мне где-то отличную рубашку, две пары носков и принесла ордер на американский подарок. Были тогда такие американские подарки: ношеные пальто, костюмы, платья – их распределяли среди нуждающихся. И вот у меня американское пальто. Очень даже хорошее. Почти новое. Серого цвета в желтоватую клетку. С ума можно сойти от такой роскоши. Не было ничего – и вдруг все есть. Занятная женщина эта самая Фортуна…
К осени наконец подросли волосы. Я полноправно подстригся. Когда пришел домой, долго гляделся в зеркало – увидел там вполне приличного человека, не красавчика, но и не противного, с лицом довольно загорелым, в то же время и бледным (у меня с детства все какое-то малокровие). Еще удивляла непривычная раньше взрослость в глазах этого человека, какое-то выражение уверенности в себе, правда, не слишком ясное. Обрадовался этому. Человек в зеркале мне понравился. Попробовал сделать морщину между бровей, человек в зеркале сделал то же, и морщина очень подошла к его лицу. Оно стало еще взрослее, увереннее. Я решил: эту морщину обязательно выработаю, буду каждый день так морщиться. Мне очень хотелось посмотреть на того человека в новом облачении, но я не стал этого делать. Дома ни разу не надел костюм, ботинки тоже не померил. Точно последний скупец, жадный рыцарь, отдалял минуты наслаждения своим богатством – оно и так постоянно грело меня. Я каждую минуту знал, что теперь есть костюм, нисколько не хуже, чем у Мосолова, а ботинки даже в сто раз лучше. Есть клетчатое пальто, есть рубашка, правда, не с твердым воротничком (но мама сказала, что его можно накрахмалить), и есть узорные носки (две пары)… Единственное, что огорчало, – танцы. Все попытки научиться, держа перед собой стул, были плохи. Да и стул все-таки не девушка, как бы с ним хорошо ни получалось, конечно, ни за что не рискнешь пригласить кого-нибудь, а ЕЕ… Подумать даже страшно…
V
Сентябрь подошел незаметно. Кончилась война с Японией. Снова пришел мир, и теперь, чувствовалось, надолго, может быть, навсегда. Быстрота, с которой разгромили Японию, показалась уже совсем обыкновенной, внушала радость, веру в нашу силу. Вот вы так попробуйте, хоть и с вашей бомбой! Да и у нас, наверное, бомба есть, только секрет пока. В России любят секреты. В газетах фотографии: тысячи пленных, наши танки на улицах корейских городов. Снова флаг над Порт-Артуром. «На сопках Маньчжурии» – самый модный вальс. В кино – американский линкор «Миссури», громада пушек и угловатой стали, японцы в толстых очках, штатские, почтительные, подписывают капитуляцию, американский адмирал хлебосольно улыбается – каждый текст новой авторучкой. (Авторучки запомнились особо, сколько авторучек – богатый!)
Война кончилась. И день, когда я шел в школу, был совсем не осенний, а летний, теплый, ветреный, светлый, только какой-то уж очень легкий. Легко дышалось, легко шагали ноги, улицы были такими знакомыми, вот мосток, вот канава, желтеющий сад – тут я слушал весной соловья, старая липа облокотилась на забор, наклонила его, и дома тоже казались светлыми, добрыми и легкими, а небо было белое, неподвижное, просвечивающее блекло-голубым. Вдали, за вокзалами, оно светилось тихой и радостной печалью. Словно бы все в мире просветленно отдыхало от войны, переглядывалось с небом в безмолвной и уже бесслезной опустошенности. И редкий паровозный гудок, откинутый эхом, лишь говорил еще: она кончилась, кончилась, кончилась…
На школьном дворе, пока толпились у крыльца, слушали приветствия директорши и учителей, успел узнать все новости, встретиться со всеми, а кое с кем обменяться тумаками. Все удивительно выросли, изменились за лето. У Гуссейна на длинном младенческого цвета лице пробивались усики, Гипотез стал еще длиннее, ноги как ходули. Клин отрастил волосы, и голова его теперь уже не напоминала так мичуринскую грушу Бере зимнее. Мышата подрос, но все-таки был очень мал, ибо вытянулись-то все. Тартын за лето ростом почти догнал меня, но и с прической стал немногим лучше. Выражение приглядывающейся обезьяны не сошло с его лица. Не изменился только Кудесник, все такой же сгорбленный, седой, красные глаза безобидно мигают, да остались, как были, Лис и Официант. Лис полорото слушал директоршу, остолбенело глядел рыжими глазами, а хитренький остренький худырь Пермяк сновал в толпе, вынюхивал новости. Увидел – застрекотал:
– Тихон-то! Тихон-то! Хи-хи-хи. Тихон-то! Вымахал! Верста коломенская! Каланча… Хи-хи-хи…
– Вот – хочешь? – сказал я, поднося к хорьковой мордочке повзрослевший кулак, полушутя тряхнул за щуплую грудку. Даром ли прошло богатое приключениями лето, оно отпечаталось на моем лице, и он понял, а может быть, я вложил силы больше, чем требовалось для шутки. Официант даже не окрысился, зачокал и отскочил. Такая, скорее моральная, победа окрылила меня, и на первой же перемене, почувствовав себя сильным, я схватился врукопашную с огромным парнем из эвакуированных Ваней Дормидонтовым. Дормидонт был в два раза крупнее любого самого здорового ученика нашей школы – мясная гора с утонувшим в щеках круглым пятачком. Ходил он вперевалку, был подслеповат, добродушен, но тычки его были весьма болезненны, и на Дормидонта в одиночку не посягал никто, как не посягали, наверное, в мире животных на слонов, бегемотов, разных там бронтозавров и мамонтов. Хотя верной победы над ним – где уж тут! – я не добился, но Дормидонт не смог повалить меня, как ни наваливался всей тушей. Мокрых и запыхавшихся, нас растащили «секунданты» после звонка, и мы пошли, застегиваясь и отряхиваясь, по классам под холодным прицелом ястребиных глаз военрука, который всегда в таких случаях возникал, как из-под земли. О борьбе с Дормидонтом еще не один день рассказывали в курилке, авторитет мой вдруг поднялся. Сила ценилась в мужской средней номер сорок пять.
И снова школьные дни, ясные с грустным солнцем в сентябре, пасмурные и синие в октябре, дни как будто только более спокойные – или просто я привык, или стал взрослее… Скорее всего – то и другое. Теперь я реже сбегал. Кое-как делал уроки. В общем-то, на тройки учиться – раз плюнуть. Память у меня была отличная. Если б только не алгебра, не геометрия, которую по-прежнему ненавидел, в школе как-нибудь можно жить. И конечно, по-прежнему я много – невыносимо много думал об этой девочке, ждал нового вечера, где смог бы блеснуть всеми своими доспехами.
С половины сентября стало холодно. Рано пришла осень. День за днем снежило, северило, и я, как ни старался оттянуть срок облачения во все новое, вынужден был нарядиться в американское пальто. К нему мать неожиданно купила мне синий костюм. Она ведь ничего не знала о той моей покупке. Я получил костюм, как подарок, и чувствовал себя угнетенно и гадко. Это был мой первый крупный обман и первое тяжелое раскаяние. Вот она старалась, думала меня обрадовать, отказывала себе и так ходит все в одном старом коричневом платье, в истертом, рыжем на плечах и спине пальто, в таких ботах, что глядеть стыдно, – она ведь не старая еще, – а я тут наряжаюсь… Едва не рассказал ей все: пусть продаст костюм, у меня ведь есть, есть, зачем мне, пусть купит себе другое платье или туфли… И промолчал, просомневался. Один обман цепко тянул за собой другой. А может быть, вообще не слишком долги угрызения совести, когда тебе только пятнадцатый год и хочется, очень хочется быть таким, чтоб тебя знали, на тебя смотрели и тебе завидовали.
Костюм был из «шевиота» и, конечно, ни в какое сравнение не шел с бостоновым чудом, которое пряталось в бабушкином шкафу, доставшемся мне по наследству. Там, в этом крашенном под дуб шкафу, еще хранился бабушкин запах – запах нафталина и лежалого сукна.
Однако и этот синий костюм в сочетании с клетчатым пальто произвел должное впечатление на моих одноклассников. Пальто и костюм были подвергнуты самой тщательной оценке, какую даже трудно ожидать от мальчишек из мужской школы. Обычно принято считать, что всякими тряпками – модами занимаются девочки. Вот уж неправда-то, хоть и надо сделать скидку на время – кончался сорок пятый, совсем еще военный год.
– Вырядился-то!
– Ты-ы, богатый!!
– Тихон, в «аристократы» лезешь?
– У-ух ты-ы … … …!
– У него батька полковник, – брякнул кто-то.
– Чо, правда полковник? – Официант перестал усмехаться, уставился хорьковыми глазками.
– Скоро генерала дадут, – сказал я, чтобы отвязаться, однако мне очень понравилось, что отца у меня произвели в полковники. Я даже покраснел от удовольствия.
– Нну! Ясно, – протянул он, как-то сразу умаляясь. – Генерала? Ишь ты, а молчал…
Как ни странно, иногда самое нелепое люди принимают сразу. А я и не хотел очень-то разуверять. Полковник? Ну и пусть… Генерал? Еще лучше… Пусть…
Зазвенел звонок. Дежурные заорали. Все побежали по классам. Один я не торопился. Сыну полковника, почти генерала, торопиться не к лицу. Так неторопливо всегда ходил по коридору Мосолов. И я тут же решил подражать ему, вспомнил, что хотел подражать и раньше, но раньше как-то не получалось, а теперь я вполне мог себе это позволить. На мне новый синий костюм, и я – сын полковника… Это звучит. Такого же полковника, как тот – в нарядной шинели, в папахе, с тремя большими звездами на полосатых погонах, с маленьким пистолетом в желтой кобуре. Если б я знал тогда, что этот пустой разговор в вестибюле, где под ногами кишела малышня и где моего отца возвели в полковники, так сильно и резко изменит мою жизнь…
О моем вранье от Официанта узнал класс, от класса – школа, от школы – учителя. Не прошло и недели, как из презираемого двоечника-троечника, тихого лодыря и прогульщика я вдруг превратился в «аристократа». А благодаря коробочным папиросам со мной начали разговаривать девятиклассники, даже такие чванные, как Кузьмин, Любарский и сам Мосолов, который раньше обращал на меня внимания не больше, чем на какого-нибудь первоклашку. Впрочем, справедливости ради надо сказать, что я и сам никогда не подходил к Мосолову, хоть он мне и нравился чем-то помимо его уверенности и спокойного достоинства. С того же дня, повинуясь высокому званию полковничьего сына, я стал чаще мыться, костюм надевал только глаженый, рубашку за неимением другой через день стирал, за ботинками следил, почему-то взялся за уроки и уже в первую неделю наполучал четверок, пятерок. Я обернул книги, на уроках стал лучше сидеть, приналег на алгебру, а с историей, биологией, географией нынче было и так не худо (почему, объясню особо). Я решил навалиться и на немецкий.
Наша «немка» Зоя Максимовна знала немецкий, по-моему, не слишком здорово. Я знал наизусть все ее: «Во ист ди крайде?» и «Вер ист хойте орднер?» И я начал учить немецкий по материному вузовскому учебнику – мать у меня преподавала английский, но и немецкий знала тоже. С ее помощью я так преуспел, что уже в первой четверти считался знатоком. Доставляло огромное удовольствие отвечать на русские вопросы Зои Максимовны по-немецки. Конечно, простые это были вопросы, конечно, ответы я предусматривал и заучивал дома, как попугай, конечно, мать помогала мне направлять произношение, но все-таки это выглядело внушительно. Иногда я нарочно опаздывал, чтобы, ввалившись в класс, даже нарочно запыхавшись, с порога оттарабарить: «Энт шульдиген зи битэ майнэ фершпетунк» (Простите, что опоздал). Зоя Максимовна говорила удивленно: «Зер бедауерлихь» (Очень жаль). «Фэрцайэн зи, эс тут мир зэр ляйт…» (Извините, я очень сожалею). – «Зэтц ойхь», – улыбалась она. – «Ихь данке инен», – говорил я очень довольный и шел на место. Притихший на время этой комедии класс снова оживал.
– Немцы-фрицы, – ворчал Гуссейн, когда я усаживался за парту. – Чего там с ней лопотали?
– Объяснялся в любви. Видишь – все еще улыбается…
– А как по-немецки: я тебя люблю?
– Ихь либо дихь… А надо говорить вас – что она тебе, девка, что ли?
– А как это будет?
– Ихь либе инен.
– Ишь, нахватался… – краснел Гуссейн.
На алгебру я стал нажимать простейшим образом: решал по порядку все примеры-задачи, какие были в учебнике – оказалось, проще некуда. Только формулы не забывай. Вызубрил их, как таблицу умножения. И вот берешь пример, подставляешь формулу, свертываешь или раскладываешь, сокращаешь, где надо, кое-где и побьешься, поломаешь голову, но в конце концов найдешь, решишь и так хорошо себя почувствуешь, будто гору неприступную перелез. С геометрией было хуже – ненавидел я ее и понимать не хотел, даже теперь во сне иногда вижу. Доска. Треугольник A, B, C. Дано… и пустота дальше, как провал, и ничего не решается, не соображается… Просыпаешься – мороз по спине.
Потихоньку приобрел к себе некое дополнительное уважение. Школа-не казалась такой противной, как раньше, шел туда уже без прежнего отвращения. Отношения с ребятами налаживались. Лис и Официант особенно не приставали. Плохо было одно: сыну полковника нельзя курить какую-нибудь «Ракету», «Прибой», тем более махорку – полагается носить папиросы не ниже «Беломора», «Дели», «Казбека». Ради этих папирос я жестоко экономил, все чаще наведывался на вокзальную площадь, покупая у того дряхлого старика еврея голубые гладкие коробки с черным всадником. Стоили они дорого. Если б еще курить одному – я бы мог продлить удовольствие, растянуть коробку дней на пять, – но приходилось хлебосольно угощать. Коробка пустела в момент. Огорчения выдавать не полагалось. Звание обязывало. Но благодаря этим папиросам авторитет мой рос не по дням, а по часам, и уже никто ни в чем не сомневался, а я поднялся в глазах курящей общественности едва ли не выше Любарского, потому что хоть Любарский и тоже был сыном полковника, но, видимо, тот полковник не курил или не отпускал сыну необходимых средств на «Казбек» и «Северную Пальмиру». Полковник же Смирнов любил сына, сквозь пальцы смотрел, как он портит свое здоровье. Он вообще, наверное, был лучшим из всех полковников, по крайней мере у него все было самое лучшее: и шинель, и рост, и папаха, и сапоги, и погоны, и шашка у него была, и пистолетов целая коллекция.
– Слушай, у твоего отца есть парабеллум?
– Есть. Трофейный. Тяжелый. Калибр девять миллиметров.
– У-ух, здорово…
– Мизинец в дуло входит. Пули вот такие… С оболочками. Разрывные – красные кончики, трассирующие – зеленые кончики. Восьмизарядный. Без винтов. Разбирается весь легко – так-так-так. Готово. И собрать так же… А в руке держишь – пушка. Боевое оружие. А еще есть «Вальтер», тоже немецкий. Поменьше. Калибр 7,65. Как браунинг, только дуло так скошено. Шестизарядный… Автоматический. Гильзы сбоку выбрасывает. Только для первого выстрела кожух так вот оттягиваешь – и готово, стреляй.
Вы думаете, рождается сомнение, когда такой разговор еще подкреплен «Казбеком» из голубой новенькой коробки?
Никогда не подозревал в себе столь великой тяги к тщеславию. И, думаю, главной виной-причиной была все-таки ОНА – девочка с шелковистыми косами. Пожалуй, я и сам не отдавал себе в этом отчета, но где-то подспудно жило сознание, что звание полковничьего сына приближает меня к НЕЙ. Было, конечно, и болезненное желание утвердить себя, сравняться с этими самоуверенными, доказать, что и Толя Смирнов не хуже других – самолюбие вещь ядовитая, – но все-таки не будь ЕЕ, не живи я каждый день все более зреющей надеждой на встречу и дружбу с нею, я бы не двинулся, наверное, по скользкой дороге лжи.
Девочка в коричневых детских туфельках… Один раз за всю осень я видел ее. Она шла в компании с Олей Альтшулер и со своей подружкой-кубышечкой. На ней была синяя вязаная шапочка с белой полосой, как у конькобежки, черное пальто с маленьким пушистым воротничком и черные новые валенки. Лицо ее беззаботно и юно розовело. На меня она даже не взглянула, хоть я остолбенело замер, глядел, обрадованный и смущенный. Я словно бы испугался неожиданной встречи. Она не взглянула, а Оля и подружка посмотрели внимательно, должно быть, узнали. Я огорчился, скис, повесил голову. Даже не взглянула! А ведь на мне американское пальто, рубашка с галстуком… Даже не взглянула… И ты, дурак, еще надеешься, думаешь день и ночь. Она-то тебя и знать-то не знает…
Не взглянула… А почему, собственно, она должна меня запоминать? Потому что я тогда весь вечер глазел? Хм!.. На нее и другие смотрели. Ее все время приглашали. Где ей следить за всеми, запоминать всех. Некогда было. Вот толстушка – заметила. А встретился тогда в магазине, когда разбил банку с компотом? Ну и что? Я же удрал, как козел. И вообще, была ей нужда запоминать взгляды какого-то мальчишки. А может, она притворяется? Заметила меня раньше и не посмотрела. Я еще не знал, как ловко они умеют притворяться, прикинуться равнодушными, незнакомыми, неузнавающими, как не любят выдавать свои чувства, как ловко все запутывают, чтобы ты всегда был и истец, и ответчик, и как говорят «Нет», когда подразумевай – «Да», и как говорят «Да», если ясно видишь и знаешь: «Нет, нет, нет!» Просто тогда я успокаивал себя, боялся за свое чувство и боролся за него с собой же и долго смотрел девочкам вслед с надеждой, что она обернется. Даже показалось – начала она оборачиваться. Может быть, чувствовала мой взгляд и это мое желание. Неужели? Меня даже жаром облило. Но – нет, нет. Не обернулась она. Только показалось… Она не обернулась…






