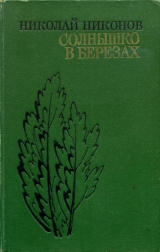
Текст книги "Солнышко в березах "
Автор книги: Николай Никонов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 27 страниц)
ДВОЙКА
– Двойка, Никитин! – сказала Марья Васильевна.
Я, дотоле сидевший в полусонном благодушном созерцании голубого тихого утра с полосатыми заиндевелыми крышами, вылез из-за высокой парты и скривился, точно меня вдруг ударили палкой.
Двойка?! Я никогда еще не получал ее за весь месяц учебы в первом классе. Я умел читать и считать. Я простодушно полагал, что мне никогда не грозит эта страшная оценка. Но чаще, видимо, случается в жизни то, чего не ждешь, к чему не готовишься. Помню, как дошел до стола учительницы, принял из жилистых рук с белым некрасивым кольцом свою тетрадку, пошел обратно, скорбный и туманный, как ходили с двойками от стола почти все. Должно быть, Марье Васильевне еще мало было моего отчаяния или я недостаточно явно его обнаружил, потому что, едва я подошел к парте, беспощадная учительница сказала, жестко стуча козонками пальцев в стол: «Останешься сегодня без обеда!»
И я сел, совершенно обезоруженный, прихлопнутый новым наказанием.
– Ага! Будет тебе теперь! – услышал шепот соседки Вари Ползуновой. Она даже отодвинулась от меня, как от отверженного. Почему вы, люди, еще и злорадствуете, когда без того тяжело…
Как я уже говорил, наша Марья Васильевна была похожа на Ивана Грозного. Она даже и ходила всегда в каких-то старинных шапочках, вроде скуфьи, осенью в шерстяной, зимой – в опушенной мехом, однако не в наряде дело. Вот у Марьи Васильевны, в нашей же школе, работает сестра – Софья Васильевна – тоже учительница начальных классов, и одевается она точно так же, в длинную клетчатую или черную юбку, белую кофту с кружевным воротничком, шаль и шапочку-скуфью. Даже брошка у нее точно такая же, из яшмы. Но Софья Васильевна – полная противоположность старшей сестре. Она никогда не кричит на учеников, не топает, не стучит карандашом, хотя лицо ее тоже напоминает какого-то из древних русских царей – наверное, все это из-за шапочки. Ученики в голос хвалят свою Софью Васильевну, правда, и мы свою Марью Васильевну тоже хвалим, мы как бы гордимся, какая она строгая, как нас держит. Ага! Попробуйте-ка, поучитесь в нашем классе, узнаете…
Весь урок я сидел в безмолвной полуслезной отрешенности, что-то слушал, но ничего не слышал, что-то писал, но ничего не понимал. Я никак не мог отделаться от мысли, что в моей новой, новешенькой тетрадке с лощеной бумагой стоит эта изогнувшаяся, жалящая, как змея, оценка. И получил я ее за одну проклятую букву «М». В задании, где надо было написать: «Маша. Мама. Маша мала. У Маши Мурка. Маша мыла. Мама мыла», я везде написал эту букву с закруглениями вверху, а потом еще две строчки этой же «М», совершенно не обращая внимания на жирные и волосяные линии, как требовалось по образцам прописи. Может быть, даже, я написал как раз наоборот – там, где надо волосяную линию, – жирную, а где надо жирную – волосяную или сплошь одни жирные, их как-то легче писать. К тому же я торопился, мне очень хотелось бежать во двор, играть в пароход, который я построил еще вчера из досок, чурбаков, старого кровельного железа и самоварных труб.
И вот – двойка! И еще – «без обеда».
Казалось, что большего бесчестья быть не может, и если я не ревел в открытую, как говорят, – белугой, то глаза мои плавали в слезах, в горле все время саднило, и тайком от Вари, отворачиваясь к окну, я вздыхал и утирался. «Без обеда» – это еще хуже, чем «садись на заднюю парту!». Страшное место, подобное скамье подсудимых, где с первых дней этого трудного солнечного сентября бессрочно обитали три наших второгодника – Курицын, Нохрин и Шашмурин. Курицын – никогда не мытое, равнодушное ко всему существо с липкими руками, Нохрин – тихий мальчик с лицом в виде большого белого огурца и такой голубизны светлыми глазами, точно сквозь его голову всегда виднелось летнее небушко. Шашмурин – беспризорного вида мальчишка с белыми пятнами на остриженной темной голове, вертлявый и гримасничающий, как обезьяна. Ребята эти сидели поодиночке. И к ним на урок, на два, в зависимости от тяжести проступка, Марья Васильевна ссылала провинившихся.
Девочки от такой ссылки рыдали, точно их отправляли в пещеру циклопов, а Курицын, Нохрин или Шашмурин – глядя по тому, к кому вселяли опального, – несколько оживлялись, хоть и было в их оживлении что-то паучье. Я не боялся попасть в компанию второгодников, уже дважды побывал там у Нохрина и Шашмурина, и в общем все обошлось хорошо. У Шашмурина я выменял на старинную марку и рублевку в придачу очень нужную мне рогатку, сделанную с большим мастерством, а с Нохриным мы просто тихонько дружески толкали друг друга в бок: он толкнет – я толкну, он толкнет – я толкну. Я был бы счастлив, если б меня сослали на заднюю парту, хоть бы к кому, хоть на все уроки…
А теперь все пропало. Дома, конечно, хватятся. Бабушка по часам ждет меня из школы. А часы у нас замечательные: с медными гирями, с боем, с календарем, с узорным маятником. Они тихо живут в своем длинном темном от времени резном футляре и знают много-много. Иногда, когда бабушки нет дома, я ставлю на стол табуретки, залезаю на них, боясь упасть, и заглядываю в темное боковое окошечко часов, затянутое паутинами: там видно в полутьме неподвижные пыльные колеса, зубчики и всего одну, мерно двигающуюся взад-вперед штучку – так странно и безвременно живет время. Часы подскажут бабушке, что со мною что-то приключилось, бабушка пойдет в школу…
А сколько же будет это самое «без обеда»? Наверное, очень долго, ведь Марья Васильевна – сам видел – уходит из школы, уже когда улицы закатно горят стеклами, и на них тепло и солнечно-грустно. Я увидел, как Марья Васильевна в своей шапочке-скуфье неторопливо идет по тротуару, в одной руке старинная сумка, в другой сетка с тетрадями. Когда Марья Васильевна уходит пораньше, у нее нет сетки, а позади идут, как оруженосцы, отличники, несут тетрадки. В общем-то, Марья Васильевна старая, и ей, наверное, в самом деле тяжело носить две пачки тетрадей (но об этом я как-то тогда не думал… Ого, старая, а как выхватила Черезова из парты, когда он там зажигал спички, – так Черезов как пробка выскочил). Марья Васильевна живет ведь недалеко от нас, через пустыри в улице-одинарке. А вдруг она, оставив меня без обеда, зайдет к бабушке и все расскажет: и как я двойку получил, и как не слушал, когда меня ссылали к Нохрину и Шашмурину, и как теперь вот оставлен без обеда – ужасное наказание… Что мне теперь делать?
Очень долго тянулся этот страшный день. Кажется, время потеряло свой привычный смысл, каждый урок длился невыносимо… И я ждал и не ждал конца уроков. Что толку? Все пойдут домой, а я-то ведь останусь, неизвестно на сколько. Куксясь и шмыгая, я машинально писал, зарабатывая, наверное, новую двойку.
Но вот уроки все-таки кончились. Пробрякал последний звонок, по коридору грохотали отпускаемые классы, а мы даже не шевелились, сидели как сидели, потому что очень редко отпускала нас Марья Васильевна первыми, только когда была особенно довольна нами, а это случалось редко, или когда торопилась в какой-то там методкабинет, о котором она всегда упоминала торжественно-благоговейно, приходила в тот день в новой белой кофте с кружевами, с новой брошкой и в длиннейшей шуршавшей черной юбке, и мы уже знали: сегодня Марья Васильевна в методкабинет – и радовались…
Счастливчики со счастливыми лицами покидали класс. Для них за дверями была прекрасная свобода – что может быть лучше этого слова. Свобода – когда беги куда угодно и куда хочешь – хоть направо, хоть налево, хоть домой, хоть по улице, все время ощущая теплое солнце, даль неба – все-все, что и входит в понятие свобода и что дорого в нем вместе с ощущением освобожденности, самостоятельности и счастья быть самим собой. Наверное, в мире все устроено справедливо. Сколько раз уходил я так, пусть не очень злорадно, но все-таки оглядываясь на потупленно сидящих, грешно сознавая свое превосходство над ними, и вот теперь на месте их сижу сам и на меня теперь оглядываются, уверенные в том же неизмеримом превосходстве.
Впрочем, не один я: в опустелом классе осталась еще маленькая Катя Помелова. Оказывается, ее тоже оставили без обеда, как и когда – я не слыхал, занятый своими горькими мыслями. Марья Васильевна, строго глянув на нас, велела сесть за первые парты, а когда мы перебрались со всем скарбом, вышла, строго стуча каблуками. Дверь захлопнулась, точно подтверждала наше заточение и обреченность. Мы заплакали, не сговариваясь, – Катя громче, я – тише. И опять мне показалось, что случилось нечто ужасное, непоправимое, все кончено, все пропало, и никогда уже не будет так чисто и радостно, как было мне всегда, и что я самый обиженный несчастный человек на всея земле. Но в то же время я слышал и плач Кати. Мы ведь остались двое. И вдруг я почувствовал теплую братскую любовь к этой девочке, размазывающей слезы по щекам грязным худым кулачком. Катя Помелова. Я никогда не обращал на нее внимания, точно ее и не было в классе. Она в самом деле такая незаметная, что можно, наверно, десять лет проучиться и не знать ее совсем. Много ли мы помним тех, с кем учились? Из тридцати-сорока одноклассников – пять-шесть фамилий, пять-десять лиц. А остальные? Но сейчас за соседней партой плакала Катя Помелова, маленькая светловолосая девочка с желтыми ленточками в жидких косичках и с отстегнувшимся сползшим чулком. Наверное, и она почувствовала ко мне то, что я к ней, потому что, всхлипывая и заикаясь, потянула мою тетрадку.
– З-з… Зза что-о т… т…. тте-бя-а-а?
– За м-м-м… Зза бу-уу-ук-ву-у-у… А тте-бя-а-а? Хм?
– Мм… По арих… По архиме-е… По архиме-тике-е-е. Мн… Хм…
Проплакавшись, мы придвинулись поближе, не перелезая, однако, через ряд, и стали смотреть тетрадки.
Катины примеры показались мне пустяковыми (ведь я умел считать до ста). Ну как это можно ошибиться – из семи отнять три, получится – пять? Из десяти отнять четыре и получится – четыре? Или к пяти прибавила два – у нее восемь?!
– Давай, я за тебя буквы перепишу? – сказала вдруг Катя.. – Я чисто перепишу.
– А Марья Васильевна?
– Она не узнает!
Вот уж сколько раз в жизни убеждаюсь, что женщины храбрее мужчин.
– А я тебе решу примеры…
– Ага!
– Только…
– Ничего. Услышим, как она идет по коридору. Она знаешь как топает.
– Ну давай…
– Скорей, бери тетрадку…
Через минуту очень старательно – не моя ведь тетрадка-то, Катина, – я выводил цифры, для верности проверял по пальцам, писал ответы. Катя, видимо, тоже старалась, даже мизинцем придерживала тетрадку и забрала обе промокашки, чтоб не испачкать как-нибудь.
– Ты только немножко похожее на мое пиши – а то она сразу догадается, – сказала Катя.
– Ясно… – Я об этом подумал, выводил цифры такие, как у нее в тетради. Я, например, тройку совсем не так пишу, а тут стал писать по-катиному, с гребешком.
Мы успели как раз вовремя. В коридоре послышался цокающий шаг Марьи Васильевны. Быстро передали тетрадки, и учительница застала вас согбенными, усердно пишущими. Иная бы учительница умилилась, так старательно мы трудились, гнулись за партами, а она ведь еще ничего нам не задавала. Значит, осознали вину, сами поняли… Но это была Марья Васильевна!.. Мы оба притворялись изо всех сил. Все было написано. Да как чисто, красиво выведена каждая буква – ай да Катя! – буквы со всеми нажимами и волосяными линиями и все-таки похожие на мое письмо, тот же наклон, величина, даже кое-где нарочно закругление сделано…
Дверь отворилась, и в класс неожиданно зашла Софья Васильевна.
– Опять у тебя грешники, – сказала она, с улыбкой поглядев на нас и сестру.
А я изумился, как это можно так свободно говорить с нашей учительницей, с Марьей Васильевной! Даже называть ее на «ты» и как бы оспаривать ее деяния…
– Давай-ка отпускай их, – сказала Софья Васильевна.
Наверное, Марья Васильевна ощутила недопустимую вольность обращения сестры, потому что строго взглянула на нее, как царь Иван Грозный на своего сына, но ничего не сказала, подошла к парте и взяла мою тетрадь.
– Ну? Можешь ведь писать? Можешь… – сказала она. – Все вы можете учиться… Лентяи… Только бы по улицам бегать, камнями лукать (она почему-то всегда употребляла это странное слово). И ты тоже давай свою тетрадку… Написала? Ладно уж. Идите! Да чтоб впредь у меня… Поняли?
Забрала тетрадки!! О счастье, счастье! Значит, и двойку я не понесу домой! Значит, никто ничего не узнает! А бабушке скажу, что просто зашел поиграть к Мыльниковым. И все будет хорошо…
Наверное, и Катя думала так же, потому что, когда она вышла следом за мной, глаза у нее сияли, косички торчали, и она сказала, пристегивая чулок:
– Хорошо, что мы остались вместе…
– Хорошо, конечно, – поспешил ответить я.
И мы пошли домой.
ПОДОЗРЕНИЕ
У Нины Силантьевой потерялась красивая ручка. Не первый это был случай в нашем классе, и, в общем-то, все мирились, забывали – ну, потерялась и потерялась. Ручка – не шуба, которую, например, подменили у Алеши Чижикова: взяли хорошую, а оставили драную; ручка – не сапожки, которые украли у Лены Фоминой, и было целое разбирательство, а потом оказалось, что Лена забыла, пришла в школу в туфлях, а сапожки остались дома. Это еще ничего, а вот одна девочка из первого «Б» пришла в школу без платья, а я, например, один раз так торопился, что прибежал в разных ботинках, один черный – новый, а другой коричневый – старый. Пришлось мне тогда целый день сидеть за партой, будто зуб болит, ведь больше всего я боялся, что Марья Васильевна вызовет меня к доске – и что тогда?
В общем, потерялась-то ручка не чья-нибудь, а Нины Силантьевой. Силантьева – некрасивая худая девочка с кукольными волосами, и волосы у нее так причесаны, что ни один волосок не выбьется. Нина такая аккуратная, что даже ходит будто по одной половице, тетради у нее чистые-пречистые, в обложечках, с наклейками, промокашки на шелковых ленточках – по арифметике ленточки желтые, по письму – розовые. Руки Нина моет каждую перемену, а когда пишет, на парту стелет клееночку. Марья Васильевна всем ставит Нину в пример по чистоте и аккуратности, даже отличникам. Отличников у нас трое: Гриша Несмеянов, Валя Шумкова и Вера Малкова. А Нина хоть и не отличница, но все-таки любимица Марьи Васильевны. Ручка потерялась на последней перемене, и Нина тотчас это заметила, подошла к Марье Васильевне, которая сидела за своим столом, проверяла тетрадки, и сказала ей что-то потихоньку.
– Посмотри под партой, – приказала Марья Васильевна.
– Я уже там смотрела, – сказала Нина и стала платочком вытирать слезы, так осторожно, будто слезы у нее хрустальные.
– Сядь! – сказала Марья Васильевна. Она не любила слез.
Последний урок начался. Было природоведение, и мы ждали, что нас поведут в парк собирать листья и делать осенний гербарий, как в прошлый раз. Тогда это был очень веселый урок. Тепло было, как летом, и мы радовались, что не сидим в школе, солнце греет, небо синее, а листьев – красных, желтых, оранжевых, голубоватых и розовых – хватает всем. В парке благостно пахло теплой спокойной осенью, и ее умиротворенность, вместе с необычной свободой, возможностью совсем скоро отправиться домой, идти тихими, солнечными и по-осеннему пустыми улицами, настраивала мою душу на счастливый и тоже безмятежно-спокойный лад. Хорошо тогда было,, очень хорошо. И даже Марья Васильевна подобрела, не казалась, как всегда, карающей и грозной, просто сидела на скамейке, на солнце и, если б не ее шапочка-скуфья, показалась бы ветхозаветной старушкой, вспоминающей свое прошлое.
Сейчас мы томились, ждали, когда Марья Васильевна кончит проверять тетрадки и скажет строиться. Марья Васильевна никогда не торопилась, она часто заставляла нас сидеть и всю перемену, и целый урок, и мы уже были приучены не роптать. В таких случаях я научился развлекаться фантазиями, смирно сидел, положа руки на парту, а сам представлял себя то путешественником, идущим по темному тропическому лесу, то мореплавателем в океане, то полководцем на манер Суворова, и что только не чудилось мне в этих мечтаниях – какие-то волны, острова, берега, пальмы – обязательно пальмы! – мокрые борта парусных шхун, бочки с солониной, пиратские пушки, канаты, в которых поет ветер, солдаты в киверах и в белых лосинах, марширующие с примкнутыми штыками-багинетами, кавалерия, несущаяся пыльной лавой, – мало ли что еще… Иногда я так глубоко уходил в свои фантазии, что не слышал, как Марья Васильевна разрешала идти, и надо мной хохотали.
Наконец-то Марья Васильевна кончила проверять тетрадки. Она встала и, строго глядя на всех нас, сказала:
– Кто взял ручку у Силантьевой, пусть положит ее на стол.
Все стали оборачиваться туда, где сидел четвертый наш второгодник – Миша Болботун. Один раз его уже поймали на краже, когда он стащил у отличницы Веры Малковой два пирожка с повидлом, и теперь, как что потеряется, смотрят на Болботуна. А Болботун – он и есть Болботун. Учится плохо, на уроки опаздывает, и вид у него – точно по фамилии: голова стриженая – яйцом, уши торчат, глаза маленькие, рот большой, и все время он что-нибудь лопочет, хохочет, вертится, кому-нибудь мешает или сбоку, или спереди, потому что позади него сидит Курицын, а Курицыну помешать невозможно, он ни на кого не обращает внимания и разговаривать с ним – как со стеной. Получив замечание, Болботун говорит всегда одно и то же:
– А чо я сделал?
– Опять «зачокал»?! – вскипает Марья Васильевна. – Сейчас же к доске!
– А чо я сделал? – говорит Болботун и, встав у доски, строит рожи, показывает язык, едва только Марья Васильевна отвернется.
– Встань к той стене! – шумит она.
– А чо я сделал? – бурчит Болботун, идет от доски к противоположной стене, так, чтоб Марье Васильевне было видно, однако и тут стоять он не может, переминается, сует руки в карманы, вытаскивает монеты, пуговицы, роняет их, поднимает, незаметно дает щелчка Нохрину, тот молча, кривясь, трет затылок, потом дает Болботуну тычка.
– Вон из класса! – выходит из себя Марья Васильевна. – Сейчас же вон!
– А чо я сделал? – медленно говорит Болботун и плетется к двери.
– Стой тут! – одумывается учительница. Выгоняет она очень редко, только за чрезвычайнейшие проступки. Она не любит выносить сор из избы, не таскает никогда к директору, и за это мы благодарны Марье Васильевне, хотя боимся ее пуще всякого директора.
– Стой и не вертись! Вертушка… – говорит она.
– А чо я сделал…
С Болботуном все время что-нибудь случается. У него уже три раза было сотрясение мозга. Наверное, оттого он и есть такой дурной. Один раз он выпал из окошка – сотрясение. Второй раз на него свалились парты, сложенные в углу коридора до потолка, – опять сотрясение. В третий раз он разодрался с нашим знаменитым на всю школу хулиганом Бучельниковым, и Бучельников так его толкнул, что Болботун, растворив двери своей яйцеобразной головой, вылетел в коридор, и вот вам опять пожалуйста – сотрясение. Сотрясения на него, однако, не влияют. В первом и во втором классе он только вертелся да болтал, а сейчас…
– Болботун, ты взял ручку? – сразу приступила Марья Васильевна.
– Не-е… – сказал он. – А чо я сделал?
– Шашмурин?
– Не я…
– Нохрин?
– Чо-о…
– Курицын?
– …
– Не брал, Курицын?
– …
– Ну садись, вижу, что не брал… А кто все-таки взял ручку у Силантьевой? Кто?! Пока ручка не найдется – никуда не пойдем.
Молчание. Угроза-то основательная. У Марьи Васильевны характер крепкий – это мы знаем предостаточно. Уж если скажет – выполнит. А солнышко светит! А синички звенят! А день такой голубой там, ясный, тихий, туманный. Бабье лето. Солнышко прощается. Сейчас бы выбежать из школы, подышать бы вольным последним теплом, ощутить, как оно греет плечи и затылок. Хочется на улицу. Ой, как хочется на улицу! А тут – сиди теперь…
– Если ручка не найдется – останетесь и после уроков. Кто-то один подводит всех. Умеет подводить – пусть и выручит. А я прощу. Мы все простим. Да?
– Да-а-а, – нестройно прокатилось по классу.
Что это с Марьей Васильевной? Неужели ей тоже хочется на улицу?
– Ну взял случайно, – продолжала она. – Ручка, конечно, валялась, а ее и подобрали. Так ведь? Так – я спрашиваю?!
– Та-а-а-к…
Но никто не вышел. Все только переглядывались. Я сижу и вижу, как Марья Васильевна, точно следователь, прощупывает взглядом каждого. Острый у нее взгляд, пристальный, и я опускаю глаза, смотрю на парту, краснею, будто бы я взял. А я и не брал. Не видал даже. Уши начинают гореть. Неужели она на меня подумала? И Варя тоже ежится. Не по себе ей. А Варя-то уж точно не брала. Осторожно взглядываю на Марью Васильевну. И опять она смотрит прямо мне в лоб, даже словно бы усмехается. А я не брал. Нет…
Вот так же было у меня в детском садике. Я туда ходил недолго, в старшую группу. И отличался от всех тем, что никак не спал днем – я был несадиковый, просто отдали меня, пока болела бабушка. Я никогда вообще не спал днем и сейчас не сплю, а там был тихий час, который вовсе и не час, а много больше. Легко ли лежать так, не двигаться, когда кругом сопение и похрапывание (был у нас там такой Тарсуков, мальчик в тесных штанах на лямочках, который всегда все съедал и еще просил добавки, – вот он и храпел). Лежишь, лежишь, а потом вытянешь перо из подушки и начнешь тихонько щекотать по носу соседа. Он чихнет – проснулся, тогда вместе будим других. Мои фокусы подсмотрела воспитательница, и меня перевели спать отдельно в игровую комнату. Мучился там я еще больше, лежишь один, разбудить некого и встать боюсь, даже в уборную не отпросишься. Вот и смотришь, как движется солнце, ползут его желтые, веселые пятна по розовой стене, медленно ползут, невидимо, а все-таки двигаются. Я даже такую игру придумал: закрою глаза и считаю дыхание: сто раз дохнешь – солнце должно доползти до выключателя, еще сто раз – до точки, где был вбит гвоздь, еще сто раз – до картины «Три поросенка». Там они приплясывают, строят дом, а из-за угла выглядывает волк.
В игровой комнате была круглая стойка, куда мы вешали халатики, у каждого вместо номера была картинка, у меня, например, земляника. Как раз перед Новым годом раздали нам всем подарки, и в каждом подарке по маленькой куколке. Когда все пошли на тихий час, халатики сняли, а куколок положили в карман. На другой день кудрявый мальчик Бобка Иванов сказал воспитательнице, что я украл его куколку из кармана. Это было так неожиданно несправедливо, что я ничего не мог сказать. Я вообще всегда теряюсь, когда слышу несправедливое. А тут я глупо молчал, моргал и смотрел на воспитательницыны туфли и на Бобкины тапочки. Тапочки переминались. Туфли были спокойно расставлены – носки врозь. «Это он, он, он украл! Украл мою куколку», – торопливо и горячо говорил Бобка, так возбужденно, что я еще более растерялся, онемел. А потом я заплакал и сказал, что никакой куколки не брал, что могу отдать ему свою, зачем она мне – я в куклы не играю…
– Вот видите, свою отдает, а мою себе оставит! – наседал Бобка.
– Не брал я! – уже рыдая, кричал я, и воспитательница стала меня успокаивать.
Все же тяжкое обвинение гнуло меня целый день. Я не знал, что делать, как защититься, как доказать свою правоту. Меня сторонились, как отверженного, никто мне не верил, и все на меня поглядывали с усмешкой, в глазах у всех было: «Ага! Это ты! Мы знаем, знаем. Это ты…» Самое страшное, что под этими взглядами, обвиняющими, осуждающими и радостно-любопытными, я тоже съеживался, краснел, и со стороны, конечно же, был похож именно на того, за кого меня принимали. О следователи, следователи, как, наверное, порой ошибаетесь и вы… День до тихого часа тянулся бесконечно, и, когда я стал одиноко раздеваться, я уже совсем решил положить свою куколку в карман Бобкиного халата. Куколки-то были одинаковые. И мне ее было не жаль. Но все-таки ведь я не брал, не брал – за что же я должен отдавать?
В коридоре послышались шаги воспитательницы, она ходила на высоких каблуках. Я кинулся к постели, так и не успев выполнить своего намерения.
Воспитательница села возле моей кровати и, глядя насмешливо-ласково (как-то сходно глядели на меня сегодня все), опять спросила:
– А может быть, ты тогда не сказал? Ну, скажи теперь… И никто не узнает. А куколку мы ему отдадим, скажем, что нашлась в игрушках. Ну?
– Да не брал я ее! Не бра-ал! – заходясь плачем закричал я, вскочил с кровати и куда-то побежал. Куда? Не знаю. Наверное, домой, домой, к своей единственной справедливости. Думаю, если б меня не удержали, я побежал бы, как есть, раздетый и босиком, по морозу, лишь бы только уйти от этой проклятой несправедливости, которая мучила меня хуже всякой боли. Воспитательница поймала меня уже на лестнице у дверей и кое-как увела, заставила лечь. Я и до сих пор помню ее руки, крепко державшие меня, и живот, в который я упирался носом, от платья пахло одеколоном.
Куколка не нашлась, но доверие постепенно возвратилось ко мне, может быть, просто поверили, может, слышали, как я тогда кричал. А мне и сейчас горько за ту несправедливую обиду…
– Сумки на стол! – приказала. Марья Васильевна. Уже был звонок. Урок мы просидели. Теперь начался обыск. Есть ли что-нибудь более унизительное, противное, чем обыск, когда тебя осматривают, подозревают, уничтожают одним только подозрением. Но я с радостью вынул книги, даже вытряс сумку. Нате, смотрите, ничего у меня нет. И многие поступали так же, а Нохрин, Болботун и Шашмурин даже вывернули карманы. Ручки не было. Марья Васильевна и сама, видимо, понимала, что обыск – мера крайняя, для того лишь, чтоб хоть как-нибудь убедиться в отсутствии ручки и воров. Поэтому она приказала девочкам идти домой. А сначала отпустила отличников. Обыска они избежали. Все трое.
Валя Шумкова и Вера Малкова сразу поднялись, расстегнули свои портфели, поставили их на стол, но Марья Васильевна только сердито посмотрела. Смуглый Гриша Несмеянов сумку не раскрыл, к столу не подошел. Это был очень тихий мальчик, иногда он плакал, даже если получал четверку, жил он бедно, в большой семье, в подвале, окна которого выходили на людную улицу; из этого подвала, когда я проходил мимо, всегда пахло Гришиным запахом. Думаю, что Марья Васильевна скорее из жалости к тихому мальчику, из-за его постоянных слез, а не за действительные успехи, выставляла ему круглые пятерки. У Марьи Васильевны было странное правило: если уж ты попал в отличники, так тебе все равно – пять и пять, а если ты троечник, попробуй-ка заработай у нее пятерку, тут семь потов с тебя сойдет, и все равно в лучшем случае – четыре. На пятерку же надо было так выучить, чтоб, как говорила Марья Васильевна, от зубов отскакивало! Именно так отвечали Малкова и Шумкова. А Гриша? Он и есть – Гриша, такой действительно – Несмеянов.
Вот и сейчас он тихонько брел к двери с портфелем под мышкой (портфель у него старый-престарый, ручка оторвана).
– Погоди-ка, – сказала Марья Васильевна, когда Несмеянов был у самой двери, – дай-ка сюда портфель…
– Он не возьмет, – обратилась она к нам. – Но уж раз всех – так всех…
(И тут я понял: все-таки не настоящий он отличник, правильно я догадывался.)
Она запустила худую руку в портфель сумрачно стоявшего отличника, и все увидели, как меняется ее лицо: сначала оно было даже благодушно добрым, потом по нему разлилось удивление пополам с недоверием, потом глаза учительницы засветились, и, наконец, потрясенная, словно бы напуганная и торжественная, она достала ручку Нины Силантьевой.
– В подкладку затолкал! – воскликнула она, поднимая эту черную ручку и возмущенно хлопая свободной рукой по столу. – Не-сме-я-нов??! Да это ты ли? Гри-ша?! Ай-яй-яй… Просидели весь урок… Обыскали всех… Подозревали всех…
Голос и лицо были словно и не Марьи Васильевны.
Мы молчали.
И голос обрел привычную интонацию Ивана Грозного:
– Сейчас же домой… За матерью!






