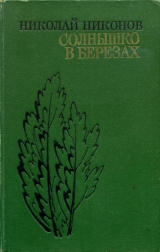
Текст книги "Солнышко в березах "
Автор книги: Николай Никонов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 27 страниц)
«Перестань мазать за Лидкой. Будет хуже. Получишь сегодня».
Один почерк ровный, красивый, словно бы здоровый. Другой – прыгает, буквы вкривь, вкось.
Записка торчала, воткнутая в щель между откидной крышкой парты. Кто ее принес? В классе уже было много ребят. У доски, как водится, боролись. У окна шло соревнование – поднимали стул за одну ножку. Там верховодил Дормидонт. Мышата легко делал стойку на краю парты. Сережа Киселев повторял по учебнику, тонкие губы сжаты, глаза отрешенно уставлены сквозь очки. Айболитик молится богу зубрежки.
Я опять перечитал записку, заметил, как Пермяк – он что-то рассказывал-толковал Лисовскому – краем глаза косит сюда. Вот кто почтальон, сволочь лисомордая. Он и передаст о впечатлении. Кто же другой? Из записки я сделал голубя, пустил по классу, уселся с наиболее невозмутимым видом. Научился сохранять показное спокойствие давно. А в общем невесело: бояться вроде бы не боялся, но было ощущение – запиской не отделаются. Спасибо, хоть предупредили. И похоже, не сами будут бить, ведь Лида говорила: у Кузьмина – «ребята». У меня же, как известно, никого. Ну-ка, кто в классе восстанет за меня? Гуссейн? Толку от него, и вообще он не от мира и никто никогда его не трогает. Тартын?.. Смешно. Ему я и говорить не буду. У нас с ним добрые отношения, но ведь такие же отношения у меня почти со всем классом, друзья не друзья, а просто однокашники, нас не трогай – мы не тронем, в крайнем случае кто-нибудь сойдет за секунданта, вот хотя бы Васька Бугаев или Гипотез. Ей-богу, позавидуешь Гуссейну или Кудеснику – Седому. Сидит себе тихонький, спокойный, моргает красно-голубыми глазами в белых ресницах, о девочках, кажется, думать не думает, не встревает никуда, и самому ему безопасно. Вспомнил, как недавно на уроке русского языка повторяли знаки препинания при обращении, Нина Васильевна вызвала Кудесника к доске. Он вышел, одергивая серый пиджачок, остановился у доски, сгорбленный и внимательный.
«Скажи мне, кудесник, любимец богов», – начала она диктовать. Мы грохнули так, что у Нины Васильевны слетело пенсне. Она вскочила, красная и непонимающая: «В чем дело?! В чем дело!» – «Его же – Кудесник… зовут», – давясь хохотом, еле сказал кто-то. Она хлопала глазами, потом поняла, извинилась. Неслыханное дело: учительница – перед учеником, а Седой пошел на место вроде бы очень довольный – героем стал.
Ничего путного и на уроке не придумал. Даже не смотрел на Галину Михайловну, то есть смотрел, конечно, но не видел ее так, как видел обычно, и, может быть, это ее задело – неужели может задеть мое невнимание Галину Михайловну? – она сделала замечание, что я не слушаю, я и вправду не слушал. Я думал. Прятаться от них? Вспомнил, как удирал не то в четвертом, не то в пятом от своих врагов, спускался из уборной на втором этаже по водосточной трубе, один раз спрятался в чулане технички, под лестницей, там стояли метлы, швабры и помойные ведра. Сейчас, что ли, прятаться? Такому лбу? Оставить Лиду? Нет, не дождетесь… Значит, выход один – драться. Что я сумею один против двоих (хорошо, если еще двое)? Взять нож или цепь? Да ведь все равно я не ударю ножом – и кулаком-то не хочу… Проверещал звонок. Урок кончился. Дежурные снимали карты. Галина Михайловна, недовольно глянув, отчужденно пошла к двери, а ее прекрасная фигура богини плодородия выражала неприязнь ко мне. Голубь-записка опять упала на парту. Кто бросил – не видно в толчее у дверей. Я порвал записку, пошел курить. Исполнение угрозы могло быть именно там, и немедленно, и все-таки я пошел, иногда поступаю вопреки здравому смыслу, а этот смысл подсказывал: «Не ходи, не ходи…»
Однако Кузьмина, Любарского, Пермяка с Лисовским в курилке не оказалось. Зато был Мосолов. «О-о! Здорово! – закричал он, улыбаясь. – Продолжаешь? Знаем. Слыхали. Молодец! А Вовка-то с Генкой – трухнули. Они тебя бить хотели, а я им сказал, что батя у тебя генерала получил. Они так и заморгали. Не поверили. А я им говорю: у тебя был, сам видел. Любарский сразу скис, смотался, и Кузьмин с ним. Вот, брат, как! Ха-ха-ха. Ну, дела…» Я смотрел на его беззаботное свежее лицо мальчика из хорошей семьи, и мне было стыдно, гадко, тяжело, чуть я не убежал. Да что это? Что это? Как нечаянно брошенный комочек наворачивает, катясь, гору снега, обрушивается безудержной лавиной – так и мое слово обрастает все новой ложью… Правда, сейчас ложь вроде бы спасает, избавляет от новых синяков. Надолго ли? Не лучше ли, чтоб было все так, как раньше, и не требовалось изворачиваться, краснеть, придумывать правдоподобное и опять лгать, уже против воли, ненавидя себя. Может быть, и Лида со мной только потому, что узнала – я сын генерала, а был бы просто Толя Смирнов, и… Эта ужасная мысль передернула, потрясла меня, и, хотя я не поверил ей, все во мне вдруг потемнело, невпопад отвечал Мосолову и рад был звонку.
Я шел по мокрому черному тротуару с остатками желтого раскисшего снега. Была оттепель с южным ветром, сырыми улицами, влажно-синим небом. Среди зимы привольно и мягко пахло весной. На крышах вокзала полошились галки. Залезь на крышу и будешь щупать тучи, погружать руки в их пасмурно-теплый холод. На вокзальной улице по-весеннему шаркали лопаты, дворники торопились убирать, я обходил этих раскрасневшихся женщин и вдруг опять наткнулся на та объявление о приеме в юношескую школу «Локомотив», только теперь оно висело у спортзала. «Зайти, что ли?» – подумал я и быстро пошел туда неожиданно для себя. В зале заполошно бегали баскетболисты, бухал мяч, свистела сирена судьи. Старуха уборщица с лицом из одних продольных морщин погнала меня обратно вытирать ноги и стояла над душой, смотрела, как вытираю. Я вытирал и думал, что, наверное, из-за одной этой бабушки никто не идет записываться. Наконец получил разрешение подняться наверх, провожаемый и сопровождаемый непрерывным: «Вот ведь до чо изварначились… Эдак-то кажного заставляй… А кто мыть должен… Сколь росту велик… Ума нету…» и т. д. В скучной полупустой комнате с двумя обшарпанными канцелярскими столами у окна стоял черный, высокий, стриженный бобриком парень в солдатской гимнастерке без ремня и в таких же брюках галифе. Вид у парня был пьяно-заспанный. За столом сидела женщина из тех, что похожи на мужчин, с мужской прической, с папиросой в зубах и даже в какой-то полумужской одежде. Над нею висел лозунг: «Возродим былую славу «Локомотива»!» Лозунг был новый, а слава, должно быть, действительно былая. «Былую славу…» – повторил я про себя.
– Зачем? – не отвечая на мое робкое «здравствуйте», спросила женщина.
– В секцию… бокса…
Почему я сказал бокса? Я же хотел играть в волейбол и даже хотел сказать «волейбола», а сказал «бокса». Удивительно!
Женщина поглядела оценивающе, кривя рот, или что-то ей там попало в зуб. Взгляд говорил: «Рост – ничего… Сила вроде есть… Руки длинные… Плечи подходящие… Только не очень-то ты боек, должно быть. Попробовать можно, а все-таки, наверное, зря. Ну, ладно уж…»
– Сколько лет? Сева, записывай.
Черный Сева, по-видимому, чрезвычайно ленивый, разленившийся до безобразия, почесал за ухом, вздохнул и, не отходя от теплой батареи у окна, кисло спросил:
– Откуда?
Я назвал школу.
– Не железнодорожная? – несколько оживился Сева.
– Нет.
– Иди обратно. Только из железнодорожных записываем.
– Там у вас не сказано… в объявлении.
– Понимать надо… «Локомотив» – значит, железнодорожники.
Где ты, спасительная ложь?
– У меня отец…
– Чего отец?
– Железнодорожник.
– Где работает?
– В управлении.
– Справку принеси.
– Какую справку?
– Севка! – строго сказала женщина. – Какого ты черта парня мурыжишь? Записывай без всяких… А-а, давай сама запишу, черт ленивый.
Севе, видимо, этого только и надо было – он продолжал подпирать батарею и сонно улыбался, а женщина, морщась и выдувая дым, вдавила папиросу в забитую окурками пепельницу, выдвинула ящик стола, нашла меж бумаг мусоленый журнал с чернильными пятнами, положила его перед собой и, крепко цокая ручкой в непроливашку, поглядывая всякий раз – не зацепилось ли что на перо, – записала, кто я, где живу, сколько лет, в каком классе учусь.
– Все! – сказала она, сердито шмыгнув вздернутым носом без переносицы. Закурила. Посмотрела опять сквозь дым. – Сорок рублей неси на форму и три за билет. Получишь майку, трусы, спортивки (сорок рублей за форму – это было очень дешево, и я обрадовался). На тренировку приходи завтра. Тренер – вот, – указала на Севу.
– Расписание пэ-эсмотри, – зевая, сказал он. – Внизу… Уээх-ха-ха-а-а, нне выспалсау…
«Ну, – подумал я, спускаясь вниз. – Что он может, Кощей?.. Тоже мне, тренер». Заглянул в зал. Зал был хороший: высокий, голубой, чистый и светлый. По свежевымытому полу бегали баскетболисты, мяч бухал по корзине, отскакивал, а иногда проходил с ловким шорохом, точно корзина глотала его. Ушел я, сопровождаемый воркотней все той же бабушки в глубоких продольных морщинах, она напоминала дистрофийную бегемотицу.
Оказывается, Сева был старшим тренером и по совместительству зам. директора спортивной школы – той женщины, которая меня записывала. А настоящим тренером оказался приземистый одутловатый парень с типичным волнистым боксерским носом на бульдожьей равнодушной физиономии. Когда я радостно облачился в новую красную майку, голубые трусы и пахнущие резиной белые спортивки, вышел в зал, настроение у меня было праздничное, я уже чувствовал себя боксером, чуть ли не чемпионом, грозным мастером перчатки, которую еще и не держал в руках. В одном углу зала был отгорожен ринг, в другом на деревянное помосте со звоном бухала блинами штанга, в центре прыгали, тренировались волейболисты – вот бы куда мне – шевельнулась недобрая мысль. Тренер – фамилия его была Лежняк – оглядел меня с кислым видом, спросил, как зовут, велел всем становиться. Я встал в ряд с такими же и еще меньшими ребятами. Началась разминка. Бегали по кругу, выполняли какой-то комплекс, прыгали просто так и со скакалкой (тут я очень преуспел, все детство ведь играл с девочками). Потом Лежняк разделил нас на пары, примерно одинаковые по росту и весу. Моим партнером оказался только что подошедший парень, которого я сразу узнал и испугался. Ведь это был тот самый Коробков, с которым я когда-то недолго учился и который был тогда в парке, вместе с Чащихой. «Вот тебе на! – перепуганно думал я. – Встретились»… Похоже, и он меня узнал, а может быть, и нет. У него были светло-рыжие волосы, золотящиеся по краям, мелкие бледные веснушки на узком, злобном, уверенном лице с прямым от лба носом. Руки у него были белые и тоже обрызганы веснушками, густеющими на плечах. Я вспомнил, что много раз видел его, беспризорно шатающимся по улице в одиночку или в компании таких же друзей в грязных футболках, в брезентовых штанах. Он был, наверное, не сильнее меня, но явно бойчее, настырнее, чувствовалось, наторел в разных уличных стычках и драках.
Я приглядывался к тому, как он надевал перчатки, как ему шнуровал их один из младших пацанов, видел, как он постукивает ими, размахивает вхолостую, и лицо хулиганского, склада становится жестко непобедимым.
Перчатки мне понравились, оказались неожиданно легкими, несообразно с их видом, кисти вложились в них надежно, и это несколько подкрепило меня, но все-таки я трусил, злился на себя и ничего не мог поделать. Противник внушал мне страх, подлый страх, который внушают хулиганы, бродяги, жулики и пьяницы даже совсем взрослому, но мирному, так сказать, травоядному человеку. Наверное, человечество испокон делилось, подобно животному миру, на хищных и таких вот, как я…
– Отрабатываем стойку… Позицию. Ноги! Ноги у боксера значат не меньше, чем руки… Ноги в движении. Вперед, назад… Вперед, назад. Прыжок, прыжок. Нет, нет… Что ты, как козел. Где тебя так учили? Вот так… Вот так… Ноги – пружина… Не так, не так… Что за балет! Ба-ре-ли-на… Так вот… Так… Правильно… Опять нет… Нет-нет. Гляди все.
Лежняк закрутил перчатки, пошел такой бойцовой поступью – любо-дорого. Еще полчаса отрабатывали поступь, прыжок. Всем этим ребята, начавшие раньше, владели хорошо. Замечания Лежняка относились главным образом ко мне. Он вообще словно был недоволен моим появлением. Есть люди, с которыми я не лажу с первого взгляда. И так, наверное, бывает у всех. Не нравился мне этот Лежняк, и все тут.
Приближалось главное – бой.
– Один раунд, по минуте, – объявил Лежняк, выводя на ринг первую пару. – Не сторонитесь. Пожмите руки. Вы не враги. Спортивные противники. Противника надо уважать.
Говорил он бесспорные слова, но как-то казенно, заученно, и верить не хотелось.
Два самых маленьких, щуплых, в огромных перчатках выглядели карикатурой. Мартышки в болтающихся до колен, не по росту трусах. Бились они, однако, настырно. После первого же удара у одного под носом зачернела кровь. А я понял, что спорт этот не из легких. Моя очередь была предпоследней. Мог бы и отказаться от боя на правах новичка. Но зачем-то сказал тренеру, что уже занимался боксом… Помню, как пролез через веревки на ринг. Пожал перчатки Коробкова. Лежняк брякнул в гонг. И началось… Я увидел на мгновение только рыжие уверенные глаза противника, его бледный большой нос, и тут же в глазах у меня знакомо блеснуло. Удар был хорош. Я и закрыться не успел и хотя ответил, но слабо, едва достал. Коробков прыгал, как бес, бил меня расчетливо, точно, уверенно, я беспомощно отступал, закрывался, махал впустую, лицо и грудь чугунели от ударов, пытался парировать, ничего не получалось. В уши лез хохот сидящих ребят. А я думал об одном, лишь бы додержаться. Наконец бухнул гонг. Мы разошлись по углам: за эту бесконечную минуту я страшно выдохся, запыхался, сердце трепыхалось, в горле спирало, першило и было солоно. Кто-то расшнуровал мне перчатки, подал мокрую тряпку. Только тут я обнаружил – губы, шея, подбородок в соленой крови. Она капала на колени.
– Умойся! – проворчал Лежняк. – Подержи голову назад. Плохой из тебя боксер. Машешь впустую. Где тебя так учили? Что у тебя – не руки, что ли? Вон – бицепсы… С такими бицепсами в нокаут укладывать надо. Наверное, не выйдет из тебя боксер. Почти точно… Я вижу… Хочешь – брось…
Коробкова похвалил:
– Так работай… Суетись меньше…
Домой брел донельзя усталый, вымученно обессиленный… Лицо горело. Нос – не дотронешься. Ладно бы хоть без синяков обошлось. Бросить, что ли? Брошу. Ну его к черту, этот бокс… Еще добровольно чтобы лупили. И почему я тогда не сказал – в волейбольную, кто за меня так решил? Теперь не перейдешь – засмеют.
Через два дня снова был на ринге, и почти все повторилось, с той разницей, что от одного удара я едва не упал, в голове протяжно зазвенело. Нокдаун. Такое английское слово… Хорошо звучит, так же, как звон в голове. Это еще не нокаут. Но уже кое-что… Спас меня гонг. Про расквашенный нос не говорю. Мелочь…
И были те же обидные мысли. Как так? Я же – сильный. Я сильнее этого Коробкова даже с виду. Я восемь раз жму ту двухпудовку, которую легко бросал отец, ведь я не расставался с ней с раннего детства, когда еще только ее едва ворочал. Двухпудовка с высветленной гладкой ручкой – ее и мужчина не всякий жмет… А Коробков засыпал меня ударами. Лежняк каждый раз только хмыкал, с неудовольствием смотрел. «Зачем ходишь», – было в его хмуром взгляде, но уйти больше не предлагал, считал, само собой этим кончится. Так длилось половину ноября и весь декабрь. Все это время Коробков выбивал из меня робость и медлительность. Думаю теперь, что я должен быть благодарен этому светло-рыжему парню, избивавшему меня всякий раз методично и, как видно, с удовольствием. Не из-за этого ли подчас идут в бокс? Ну, ладно, будем все-таки считать бокс спортом, тяжелым, но спортом… А Коробков уже настолько проникся превосходством, что едва здоровался, разговаривал одними смешками и позволял себе во время боя поиграть со мной, как кошка с мышью, – иногда он раскрывался, шел на прямой удар, даже отступал, чтобы потом обрушиться с бешеной яростью удалого уличного бойца и насладиться победой. На один мой удар он отвечал серией, он блестяще чувствовал расстояние, а меня спасали от нокаутов только длинные мои руки и захваты, когда он прорывался в ближний бой. Захваты Коробков не любил, здесь я был сильнее его, он не мог сдвинуть меня и бодал головой, плечами, бил ниже пояса, на что сквозь пальцы смотрел разнимавший нас Лежняк.
Не знаю, росло ли мое мастерство – если и росло, то очень медленно, – зато все больше испарялся мой детский страх перед противником, перед кулаком (пусть и в перчатке), перед ударом и разбитым носом. На ринг я выходил спокойнее, уже не просто отмахивался как попало от бешено наседающего противника – все-таки кое-что соображал, начинал его, как говорят боксеры, «видеть», защищался, отводил удары и попадал сам, но бить по-настоящему, во всю силу, никак не мог. Удар не получался, он был как во сне. Бывают такие сны – может быть, снятся одним боксерам? – когда чувствуешь, бьешь и в ударе нет силы, той силы, которая начисто сметает противника, той силы, которую чувствуешь, которую постоянно видишь в кино. Какие там удары! Ведь их слышно даже по звуку. Какие хлесткие, всесокрушающие крюки, нокауты справа и слева в челюсть. Как валятся противники, летят вверх ногами. Правда, нокаутированные в кино всегда почти вскакивают и продолжают бой, хотя, казалось бы, не только челюсти, а все кости лица должны быть сломаны, вдавлены таким «хьюком». Здесь было не кино – ринг, прыгающий Коробков, удары точные, быстрые, переходящие в оглушительные серии, был я, ребята, которые смотрели на этот обидный бой, и Лежняк со всезнающим, мрачным тренерским молчанием.
Как соединить силу с ударом? Дома я соорудил подобие боксерской груши из мешка с опилками. Подвесил мешок к потолку, тренировался, отбивая кулаки. Я крутил гирю, изготовил себе гантели из кирпичей (не смейтесь, больше было не из чего), привязал кирпичи накрепко к железным стержням. Установил себе норму поднятия тяжестей – утром сто пудов, вечером – столько же… Почему сто? Я бы и не объяснил. Просто – сто пудов! Наверное, от нормы веяло геркулесовыми подвигами, палицей Ильи Муромца в сорок пуд, у меня же резко болело в животе, словно бы что-то рвалось, но потом постепенно болеть перестало, и норму я даже увеличил. Я приглядывался к парам бойцов, внимал всякому указанию Лежняка. Он был неплохой боксер, призер, чемпион, а тренер, похоже, никудышный. Набор азбучных истин бокса все мы давно усвоили наизусть, заранее знали, что он скажет, тем более что был он немногословен. Мы учились теперь подобно художникам из клубной студии, где больше глядят на работы друг друга, чем слушают какую-нибудь маститую бездарность в бархатной куртке, а куртка, убедившись, что ученики давно ее раскусили, едут сами, – ходит меж мольбертами, делает суровое глубокомысленное лицо, иногда ткнет пальцем в картонку, иногда похмыкает, иногда скупо похвалит. Такие не любят хвалить или уж, наоборот, величают своих учеников Серовыми, Гогенами, восторгаются шумно, прочат великое… Тренером, наверное, надо родиться, и далеко не всякий чемпион – хороший тренер. Этого простого правила я еще не знал, хотя повседневно его чувствовал.
X
Лида пригласила меня на день рождения. Он приходился на тридцать первое декабря – значит, на Новый год. И Лиде исполнялось шестнадцать лет. Это было так неожиданно, что я растерялся, не знал, что ответить, потом поблагодарил, краснея, сказал, что, конечно, приду. Честное слово – я боялся ее отца (видел тогда, и он мне никак не понравился), боялся, а лучше сказать, стеснялся матери, помнил ее строгие глаза. Идти к Лиде – это одно, идти к Лиде домой – совсем другое, идти к Лиде на день рождения… Теперь у меня не было заботы, что надеть, знал – буду выглядеть хорошо, но ведь я должен принести ей подарок, я должен как-то по-новому вести себя среди новых людей, и как обрадовать девочку, у которой папа – начальник орса (отдела рабочего снабжения). О таких начальниках, даже о заместителях, в войну рассказывали сладкие сказки, к тому же ты сын генерала – звание обязывает. И обрадовать Лиду хочется… И опять – ну если б хоть были у меня деньги… Сколько ни думал – ничего путного не приходило, и уже с отчаянием решил: не пойду, позвоню и скажусь больным. Опять лгать? Но что же делать? Что же делать… И вдруг осенило! Подарю картину! Вот эту, висит в моей комнате – единственная ценность, которую пощадила война. Картина в широкой багетной раме. Пейзаж. Река под осенним небом, пасмурный свет, лишь белеет горизонт, березы на засыпанном снегом берегу. Кусты, еще не растерявшие листья. Первый снег. Картину подарил мне дядя, брат матери, художник, который живет в Москве. Я любил эту картину. Она рождала во мне то же грустно-отрадное, что было там, ведь нельзя же, наверное, не любить осень, ключевой холодок первозимья, березы, полевую даль и тяжелое стекло осенней воды… Я не мог просто так сам отдать эту картину, хоть она и считалась моя, надо было спросить у матери, и я тотчас это сделал.
Мать чистила картошку, сначала не поняла меня: «Какую картину? Зачем? Кто эта девочка? Почему ты ни разу ее не пригласил к себе?..» Объяснять я не хотел. И она, коротко взглянув, вдруг устало улыбнулась: «Как хочешь… Значит, хорошая у тебя девочка. Не жаль?» Посмотрел исподлобья, и она засмеялась. «Картину надо привести в порядок», – сказала она. Это у нее любимые слова: «не вымой руки» – а «приведи свои руки в порядок». Мать, пока училась в институте иностранных языков, работала делопроизводителем, и канцелярия давала себя знать.
На другой день она принесла из своей школы от художника бронзовой краски и какого-то совершенно прозрачного лака. Целый вечер я тщательно реставрировал кое-где побитый и засиженный мухами багет, покрыл его тонким слоем бронзы, а картину промыл, протер, когда высохло, покрыл лаком, и она засияла, засветилась так, как не сияла даже новая, все краски проступили свежо, словно бы задышали и пробудились. «Не жаль?» – опять спрашивала мать, но я только мотал головой. Ведь это было ей, Лиде… И пусть река висит у нее, пусть видит Лида этот первый снег, понимает его так же, как я, тем более новая сверкающая картина совсем не подходит теперь к выгорелым, желтым и рваным обоям моей комнатушки.
Я поднимался по лестнице с подарком под рукой. Почему-то я запыхался. В груди сильно колотилось, и я долго стоял на темной лестничной клетке, отдыхал, старался взять себя в руки, приобрести тот вид и взгляд, какой было нужно, а это никак не получалось. Из-за двери доносились голоса, музыка, звяканье посуды. Не найдя звонка в темноте, постучал. Были быстрые четкие шаги, в такт им екало мое сердце. Открыла Лида. Она, видимо, ждала меня. Здоровался, поздравлял, смущался, как всегда в этих случаях, с радостью увидел лицо Кости Мосолова, потом кубышечку Нэлю и Олю Альтшулер, она вышла откуда-то, по обыкновению прекрасная и спокойная, – этакая герцогиня Ла Вальер. Я обрадовался Мосолову, а потом испугался до озноба: а вдруг он сказал, что я учусь не с ним, и в восьмом, а не в девятом? «Проклятье, зачем тогда так машинально соврал про девятый? Теперь вот выкручивайся. Незадача… А ведь просто побоялся, что Лида не станет дружить, узнав, что я восьмиклассник». Это думал, пока вытирал ноги, снимал пальто, приглаживал волосы.
«Слушай, кажется, он целую Третьяковку принес», – говорил Мосолов, обращаясь больше ко мне, чем к Лиде. Картину начали разворачивать, ахали, хвалили, меньше всех кубышечка Нэля, больше всех Лида, и я понял, что подарок мой не понравился. Это сразу понимаешь, как ни стараются от тебя скрыть за улыбками, благодарностями, всякими добрыми словами.
– Ты не сам нарисовал? – спросила Лида, видимо, в чем-то сомневаясь.
– Что ты… Это художник и очень хороший…
– А как называется?
– Первый снег.
– Первый снег, – повторила она. – Очень красиво. Очень… Ну, проходи…
Из гостиной выглядывала колючей зеленью, ветками огромная, до потолка, пушистая елка. Слышался громкий смех, пахло дорогими папиросами и елочной хвоей. Явилась Лидина мама в красивом переднике с каким-то блюдом в руках, зимние глаза ее посмотрели внимательно, чуть-чуть потеплели, но не сильно, когда я поздоровался, старомодно поздравил с праздником и с именинницей. Не заходя в гостиную, я разглядывал елку, мне вообще никуда не хотелось идти, я бы лучше побыл здесь, в прихожей, или бы сейчас же ушел. Отличная была елка. Я такой никогда не видел. «С шишками, – хвастала Лида. – Папе всегда привозят только с шишками». – «Нну, само собой», – усмехнулся, подмигнул Костя, но Лида не поняла, была она как-то сегодня рассеянна или скрывала плохое настроение, а оно, правда, часто бывает именно в день рождения, у меня, например, так, и я ее хотел понять, мне было горько, что подарок мой не произвел того впечатления, какое я ждал. Пусть бы Лида совсем не восторгалась – я бы понял. Но тут появилась Лидина мама и пригласила нас к столу.
Что это за стол и что за люди сидели за ним, – сначала я ничего не разобрал, ибо краснел, смущался, поздоровался глухо и стал пробираться, куда указала Лидина мама. В глазах рябило от блеска скатерти, посуды, приборов, блюд, бутылок, лысин, от всех этих пиджаков, платьев, взглядов, запахов – всего, что было в ярко освещенной, несколько тесноватой для такого огромного стола комнате. Я оказался между Лидой и очень полной дамой в жестяном платье бронзово-золотого цвета. Дама – иначе не назовешь – благоухала пудрой, на лице у нее были красные выпуклые родинки, а волосы казались париком – так были накрашены, завиты, уложены. Дама посмотрела на меня, с удовлетворением раздвинула в улыбке крашеные длинные, суховатые губы. «Ах, вот кто будет за мной сегодня ухаживать». Я сел, не зная, куда деть руки. Лида устраивала других гостей, Мосолова и Олю, а я потихоньку стал оглядываться. Во главе стола сидел Лидин отец – тот большой мужчина со скучно-властным прямоугольным лицом, виски у него седые, волосы тоже седые, через волосок, цвета железной проволоки, глаза не то насмешливые, не то просто хитрые – отдаленно он напоминал какого-то вельможу с портрета в картинной галерее, может быть, князя Голицына работы Брюллова. Справа и слева от папы-вельможи полные лысые люди в достойных костюмах, сером и коричневом, один даже с толстой серебряной цепочкой по жилету, выглядывающему из-под пиджака, с ними кислые женщины в ярких крепдешиновых платьях – наверное, жены круглых толстяков, потом женщина, похожая на Лидину маму, с такими же зимними глазами, только старше, суше, может быть, сестра, ее муж (так я предположил), желтолицый мужчина с крепковолосой седой головой и серыми усиками. Видимо, он любил выпить и ему не терпелось: вот он, не дожидаясь тостов, быстро налил из графина, дернул рюмку, страдательно сморщился, отдулся, чувствовалось – страдание вовсе не страдание, просто притворяется, выпил и рад, жена осуждающе поглядела на него, толкнула коленкой, а он уже улыбнулся и подмигнул мне. Он мне понравился, что-то в нем было сухое, крепкое, густо-мужское, такое же, как черно-седые волосы. Дальше за столом сидела молодая пара, противно занятая друг другом, какая-то бабушка и другие люди – не успел рассмотреть, потому что соседка слева сказала громким капризным голосом: «Младой человек, бути дабры, балычка и салатику». Она протянула мне тарелку. О, если бы я знал, что такое «балык», слыхать-то слыхал, конечно, но никогда не пробовал, у нас и до войны его не бывало, пища у нас была тогда хорошая, простая: щи, котлеты, гречневая или пшенная каша, макароны с маслом, по праздникам пекли пироги, редко бывала колбаса или сыр, икра – это когда мать с отцом ходили в кино или в театр и на обратном пути заходили в гастроном. И где этот салат? Его я тоже не видел. В центре возвышалась фаянсовая миска, по-моему, с винегретом. У нас салатом называли зеленую безвкусную траву, которая сама себе росла в углу огорода, и бабушка иногда приготовляла ее с кисло-сладким молочным соусом. Балык – наверное, что-нибудь рыбное? The boy’s a savage…
Скорее по интуиции я положил на тарелку копченые, розово просвечивающие пластики. Подумал, что надо и самому бы попробовать. А салат? The boy’s a savage… «Лида, где у вас салат?» – «Ты что?! Вот, перед тобой!» Ничего не оставалось, как изобразить рассеянного Паганеля, хлопать глазами. Сошло. Все посмеялись, особенно Костя – он был смешливый, когда не играл свою привычную роль. Салат – это как раз то, что мы дома всегда называли винегретом. Краснея, накладывал его соседке, просыпал на скатерть, испугался. Неуклюж… Тьфу. Услышал наконец манерное; «Спа-си-ба…» И совсем разозлился на эту даму. Все бы ведь могла сама взять, самой даже ближе… Играет в маленькую капризную девочку, и хорошо играет, если б скинуть лет пятьдесят.
Все еще что-то ждали, и вот появилась Лидина мама с огромным длинным блюдом, из которого торчали куриные ножки и стегнышки. Господи, куда же его? Стол и так, как говорят, ломился. С боязливым восторгом обозревал его: колбасы, ветчина, рыба, этот самый балык, похоже и не одного сорта, потому что был и красный, и розовый, и такой – жемчужный, всякая икра, фаршированные яйца, консервы – все благоухало, источало ароматы, и запахи, и флюиды, и подумал – никогда еще не сидел за этаким роскошным столом. И не представлял, что начальник орса может жить так здорово, ну, думал, конечно, что живет получше нас, то-другое достать может, хлеб, наверное, всегда есть, а тут… Сколько же все это стоит, если купить на рынке, без карточек?.. Без карточек? Ха, и по карточкам где же возьмешь? Эта мысль вдруг засела во мне, и я почувствовал, как весь темнею, холодно стало внутри, точно во мне стало вдруг смеркаться, как бывает днем, во время полного солнечного затмения. Откуда у них все? Без карточек??? Тогда как же? Может быть, и без денег? Нет. Нет. Деньги, конечно, заплачены (успокаивал себя). А сколько стоит хоть вот эта коробка с американской колбасой? На рынке за нее платят сотню… И я испуганно, наверное, смотрел на Лидиного отца, проникаясь к нему не уважением, а чем-то заменяющим это ощущение, не завистью, еще и не презрением, не подозрением, а чем-то таким другим…
– Ну-с, дорогие мои и наши… – поднялся, уловив взгляд мамы, желтолицый Лидин дядя с бокальчиком, который он когда-то успел налить. – По коням? За здоровье доброй именинницы Лидии Николаевны, то бишь Лидочки. Ура!
– Ураа-а! – громко и манерно закричала моя бронзовая соседка, оглушая меня и других. Я никогда не пил водки, а вино один раз на материных именинах до войны – налили после долгих просьб полрюмки темного сладкого кагора. Кагор оказался невероятно вкусным, и на другой день, когда я обнаружил в шкафу недопитую бутылку (а я ее и искал, надеясь, что там есть хоть капля на донышке), я не устоял перед искушением – был дома один, – налил кагору немного, выпил, потом еще немного, потом – треть чашки. Помню, как кругом пошла голова, я опьянел, хлопал глазами, улыбался своему отражению в зеркале, потом пошел освежиться на улицу, и так там было хорошо на ветерке, так весело и тревожно, что я запел песню, полез на забор, чуть не свалился, нашел свою саблю из ржавой железной полосы и с гиканьем вылетел на пустырь в бурьян, от меня метнулись облепленные репьями козы, а я рубал, обжигаясь, крапиву и лопухи, мчался рысью, пока не налетел в траве на проволоку, растянулся, ссадил колени и рассек лоб – шрамик над бровью есть и сейчас, только стал очень маленький. Хмель у меня там прошел, колени я залепил пыльными листьями подорожника, смочив их слюнями, рассеченный лоб объяснил кознями соседских мальчишек, но долго жил с ощущением своей вины и страха перед возможными последствиями первого пьянства… К счастью, все обошлось, никто ничего не заметил, и грех мой, если не считать рассеченного лба, остался без расплаты, что, в общем-то, редко бывает в жизни.






