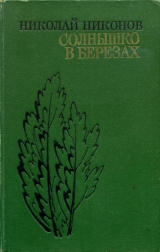
Текст книги "Солнышко в березах "
Автор книги: Николай Никонов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 27 страниц)
XV
Осенью я поступил учеником электрика на завод транспортного машиностроения. Почему электрика – сам не знаю, показалось проще всего остального, хоть электричество я не любил, побаивался после воспоминаний о разных прошлых детских экспериментах с розетками, лампочками и выключателями. Теперь моя жизнь усложнилась и упростилась одновременно. Каждое утро вставал рано (пригодилась летняя тренировка), нехотя завтракал, потому что никогда не хочу есть утром, надевал спецовку и телогрейку, уже пропитанную особым заводским запахом, выходил на деручий холод осени, и мне было тяжело-тяжело, что не могу, как раньше, неторопливо пойти нашими тихими переулками, слушая осенний шум листьев, благодатно упиваясь их запахом. Листья шумят под ногами, холодной зарей грустит восток, солнышко едва встает, на запотелых окнах розовый свет и тучевой северной печалью пронизано все, везде: она в небе, в заборах, в далях, в крышах домишек, в паровозных гудках, в бурой, прихваченной инеями лебеде на пустырях. Раньше я опаздывал, а то и вовсе не шел на первый урок, если утро было такое и соответствовало моей душе, спокойному счастью, растворенному в ней – жить, дышать, любить, надеяться, – все было там не определенное и не разрешенное словами, а просто только одним чувством, что ты не зря на земле, на вот этой, обыкновенной, донельзя родной, моей, с колеями, с битыми стеклышками, камушками, потерянной кем-то шпилькой… Я любил эту свою землю спокойной и непреходящей любовью бродяги и скитальца, любил до того, что иногда мне хотелось ее гладить, неудержимо тянуло коснуться ее. Теперь же, скованно и определенно, я шагал к трамвайной остановке, ждал пятерку или восьмерку, повисал где-нибудь в компании таких же дышащих, давящих, наступающих на ноги, ехал, мелькали дома и строения, заборы заводов тянулись бесконечно далеко, здесь был край заводов, немало виднелось пленных немцев и японцев, то лениво работающих, то идущих куда-то непрочным строем.
Иногда, чтоб продлить свою свободу, я вставал еще раньше, ходил к парку, перелазил забор, как бывало прежде, сидел где-нибудь на старом черном пне от давно спиленной липы, слушал тишину, осень, рябины, птичек.
Я вспоминал близкое прошлое, и опять долили-одолевали сомнения: зачем ушел из той школы – вдруг бы все поправилось, забылось постепенно и Лида поняла бы меня – вдруг?
Мысль о возвращении приходила ко мне часто. Нет, я не верил в возможность такого, просто я думал, а думать ведь можно о чем угодно… Чего только человеку не хочется: и бессмертным быть, и чтобы все тебя знали, и чтобы у тебя девушка была такая, что… О многом мечтается скрытно от всех, и никому об этих мечтах неизвестно и дела, в общем-то, нет. Тем более что человек в жизни поступает очень часто вопреки раздумьям и намерениям. Почему так? Тут уж никто не объяснит, если и сам не можешь. Вот, скажем, я ведь случайно пошел в электрики… Ну что, скажите, такое ученик электрика? Тут помоги. Там подержи. Это принеси. То подай. Нечего подавать-помогать – слоняйся так. Опять я словно бы оказался как в первые дни в мужской средней… А я ведь думал: завод, работа!
И в то же время надо работать. Надо! Не могу я смотреть, как мать выбивается из сил. Иногда она сидит уже сгорбившись и безучастно глядя в окно и словно бы стареет, старится на глазах. Продавать у нас больше нечего – вот почему надо мне работать, зарабатывать, помогать хоть как-то, хоть на шее у матери не сидеть.
Озлобленно даже вспоминаю, почему раньше-то плохо все это понимал. Почему? Все мы, что ли, такие в пятнадцать, словно бы бесчувственные иногда? Что я делал? За чем гнался? Тяжело мне, как вспомню, и не знаю – может быть, через эту боль рождается во мне что-то, а что-то сходит, отпадает навсегда. Я уже совсем не тот, кто шел на вечер с коробкой «Гвардейских» в кармане бостонового костюма, и не тот, кто был за столом на Лидином новогоднем дне рождении… День рождения… Сколько у человека таких дней…
Гудок с ближнего завода напоминает мне о времени. Пора. У меня ведь нет теперь «швейцарских» – остановились совсем; но и этим часам спасибо – они научили меня странно интуитивно определять точное время почти до минуты. Как это? Я не объясню. Наверное, самое точное время мы всегда носим в себе. Гудок только напоминает мне, и вот я уже иду, как автомат, полупустынной улицей к трамваю, а мысли все еще не отпускают меня, грызут и давят, и возвращаются – никогда еще я не чувствовал себя так беспомощно, неуверенно и непонятно…
Ну – завод. Ну – работаю. Вроде бы даже гордился немножко. Особенно в первые дни. Помню, как мать провожала меня за ворота, какая была заплаканная и все всхлипывала, вздыхала и улыбалась одновременно, как все, наверное, женщины, а я топорщился, глядя сурово, и старался не оглядываться, потому что глаза были тоже на мокром месте. И весь первый день тот – как я толкался по цеху, робел перед кранами, не мог привыкнуть к гулу, зудению, баханью и дзиньканью, не мог примениться к запаху металла, масла и окалины, – этот день все время был со мной и сейчас со мной. Даже ощущение то, когда вышел после смены и меня словно бы покачивало с непривычки, кружило голову, так что я не заметил трамвайную остановку и почему-то пошел домой пешком…
Рабочий я теперь человек. Встреться мне кто-нибудь из тех ребят, хоть Лис, хоть Любарский, – не посмотрел бы… Кто они? Тто-то… И все-таки… Я ведь хотел-то, как Дарвин, как Уоллес… Уоллес… Даже тех книг своих я теперь не касаюсь. Некогда вроде бы, а скорее, как будто стыдно перед ними…
Делать бы что-то большое – непременно большое и новое, не открытое никем. Не делать – так хоть готовиться к этому. Раньше, когда сидел за столом, читал и выписывал в тетрадки из Брема и Пузанова, зубрил английский с немецким, думал: готовлюсь, пригодится…
И радостно мне было, днями сидеть был готов. Конечно, я понимаю, глупости это все были, почти детство, младенчество… Какой там Дарвин… Все давно открыто-переоткрыто. Уже и не веришь – как, неужели можно было плыть куда-то совсем в неведомое, на бриге или на фрегате, на клиппере. Всего каких-то двести-сто лет назад еще была неоткрытая земля, неведомые карты, неизвестные острова.
Какие счастливцы были Колумб и Магеллан, Веспуччи и Кук, Головнин и Лаперуз. Счастливцы – пусть погибали, пусть голодали. И я ведь впроголодь прожил уже пять лет, а что открыл? Можно и голодать, если надо…
Или все-таки еще есть такие острова? Ну, хоть самые небольшие, только бы неоткрытые… Или как Земля Санникова.
Я читал эту книгу и едва не плакал, когда описывалось, как земля эта гибла. Гибла, как мечта. Несбыточная, конечно.
Я ведь почти взрослый и все понимаю, с виду, наверное, и вообще на двадцатилетнего похож. А так же остро еще, по-детски тянет меня в мечтах куда-то в Гималаи, в пустыни и горы, в леса. Жить бы бродягой… Бородой обрасти… Искать золото или руды какие-нибудь. Землянка… Печь из камня… Ручей… И я мо́ю золото в том ручье. И много уже нашел. Алмазы еще попадаются. В самом деле – почему не быть золоту вместе с алмазами, они как-то и представляются вместе. А потом бы я сдал это золото-алмазы и снарядил бы экспедицию в океан к тем островам, как Дарвин и Уоллес…
…Еду в трамвае… Сам все еще там, в каких-то голубых лагунах, среди пальм, кактусов и скал и словно просыпаюсь, когда трамвай скрежещет на повороте. Сейчас начнется забор нашего завода и вдоль него черным потоком люди – смена.
Так шло до самой зимы. А к зиме я, кажется, приобвык в своем новом рабочем положении. Учителем моим был молодой парень с усиками и с лицом балтийского матроса – Витя Гребнев. Помогая ему то в одном, то в другом, я довольно скоро усвоил все, что требуется мало-мальскому электрику-ремонтнику. Раза два тряхнуло током, и я перестал его бояться. Научился ленивенько ходить на вызов, посылать подальше, если причины были пустяковые – не довернута лампочка, а ума не хватает крутнуть – попробовать, – научился играть в домино, выпивать после получки у дощатого ларька, там зиму и лето торговал толстый человек с лиловым лицом, в шапке, в несвежем халате. Человека именовали все не то по имени, не то по фамилии – Маркович. Я научился заменять обмотку моторов, ремонтировать пускатели, обзавелся хорошим личным инструментом в резине, проверенным под напряжением. Владеть им учил Гребнев, и у него я перенял уважение к инструменту, оно есть у всякого хорошего рабочего – плохого рабочего как раз и узнают по тому, какой у него инструмент. Потихоньку учился и шутить с девчатами, обнимать их в узком цеховом проходе, подстраивать всякие шуточки, на которые горазда заводская ребятня. Уже заслуженно, спокойно ходил в школу, в десятый класс, и это наполняло меня такой гордостью, какую я еще не испытывал. Подумать только, учусь в выпускном классе, не за горами аттестат зрелости, и сам я – рабочий, самостоятельный человек, получаю рабочую карточку – восемьсот граммов, и сам себе зарабатываю на хлеб. Впрочем, с хлебом становилось все легче. Поговаривали об отмене карточек…
Отец вернулся неожиданно. Было воскресенье, и мы с матерью пили чай, когда во дворе мелькнула шинель и мать, привстав, вдруг стала странно оседать, белея и закрывая лицо руками. Я опрокинул стул, не зная, что с ней, и еще отказываясь все понять, а она уже поднялась и, как во сне, оттолкнув и опередив меня, сунулась в сени. И там я услышал плач, смех, мужской голос и снова плач. И наконец-то понял – что это, и увидел. Отец входил в комнату, в шинели, без фуражки, с поседелой головой и все-таки словно бы не изменившийся, не постаревший. Когда он обнял меня, по дрожи его рук, по какому-то оттенку прислонения ко мне я понял, что он удивлен куда больше меня: ведь он оставил меня, когда я был мальчишкой, а вернулся, когда я вырос выше его на полголовы. Надо ли, да и слишком долго описывать все – и радость, и удивление, и снова радость, ордена и медали, непривычно позвякивающие на его гимнастерке, погоны с четырьмя потемневшими звездочками…
Впрочем, я и раньше привык видеть отца военным, чуть не каждое лето в самый разгар уходил он на сборы, а возвращался осенью, и помню запах его шинели, ремней, островерхого шлема и крепких яловых сапог.
Прошло с месяц, пока мы привыкли к его возвращению и жизнь потекла спокойно, как река, вошедшая в свои берега. Отец опять вернулся на стройку. Я по-прежнему работал на транспортном, но отец не принял как-то эту мою работу и даже журил за самовольство. Он очень боялся, что в школе рабочей молодежи плохо учат, что там я разленюсь, выйду неучем, поругивал мать – как она это все допустила. Откуда им было знать, отчего я ушел и почему… А я все более привыкал к своей профессии и все более разочаровывался в ней. Было в работе моей что-то скучное, ненастоящее, томившее меня этой не то чтобы ненужностью, а так, какой-то приземленностью. Конечно, без электрика в цехе никуда не денешься. Цех-то весь – электричество, куда ни сунься, но все-таки на бригадира, на дежурных и на моего учителя Витю Гребнева, а тем более на меня рабочие-станочники поглядывают сверху вниз. Мы, мол, лошадки, а вы так: пришей-пристебаи. Оно и действительно, не всякий раз что-то ломается, бывает, и смену проболтаешься туда-сюда, там поторчишь, тут позубоскалишь. Самое большое удовлетворение, если оживет станок, загорит лампочка или найдешь скрытое замыкание, восстановишь кабель. Учиться на станочника, однако, что-то не хотелось, и я «тянул резину», благо рабочий день у меня, несовершеннолетнего, был меньше: всегда находилось время на работе почитать учебник, иногда решить что-нибудь из домашнего задания – иначе некогда. Придешь домой, умоешься, поешь – в школу, вернешься – слипаются глаза, только бы до кровати. Не успеешь заснуть – отец будит: «Вставай!»
Как-то за вечерним чаем, в свободный от школы день, он спросил:
– Ну, как работается, работник?
– Плохо, – ответил я.
– То-то и оно. Вижу. Учился бы в школе-то, кто тебя оттуда гнал?
– Сам.
– Вот, конечно, разболтались тут без меня, и матери не слушаешь… Что молчишь?
– А что мне говорить? Я сам ушел…
– Разболтаешься ты на этой работе, знаю я электриков…
– А я бы хоть завтра ушел, а куда?
– Хм… Иди-ка, друг, ко мне на стройку. Хочешь? Каменщиком?! Ну, сперва подручным, научишься – тогда и каменщиком поступай.
Мать слушала нас с тревогой: «Какая еще стройка? Десятый класс… И вообще не будет пока работать – не беда. Чего еще выдумали…»
На другой же день я пошел к начальнику цеха.
– Выучили… – сказал он, кривясь. – Спасибо. Значит, уходишь… Ищешь, где глубже… – Но заявление подписал.
А Гребнев пожалел, ругал:
– Ну куда тебя черт тащит? Сидишь в тепле, работа не пыльная, уроки учишь. Куда?
А я и сам не знал, но уходил.
Первый день на стройке обескуражил и напугал меня. Было холодно. Декабрь. На объекте, большом многоэтажном доме, поднятом где до второго, где до третьего этажа, в пустых проемах окон свистел ветер, курилась поземка. Ветром мотало кое-как прилаженные к столбам времянки-лампочки, безжизненно упирался в ночное небо подъемник, и кое-где, меж штабелей кирпича, ходили какие-то заспанные унылые люди. Совсем не так было у нас на заводе. Туда к началу смены текла бесконечно живая река, и в ней было приятно идти, сознавая себя частичкой этой реки, завода, хоть я и очень не любил проходную, где бойкие бабы-вахтеры с нелепыми наганами на толстых животах ощупывали нас глазами, проверяли пропуска. Было в этом что-то унижающее. А за проходной по заводу, гремела музыка, висели портреты ударников, Доски почета, все было оживленно – не так, как тут… Но десять дней назад мне исполнилось шестнадцать, и я молчал, ничего не говорил отцу.
Он подвел меня к низенькому бригадиру татарину Усмангулову, сказал:
– Вот тебе начальник, – кивнул нам и ушел.
– Сдарова, – усмехнулся татарин, оглядывая меня. Темное желто-смуглое лицо разошлось черными лучами морщин. – Большой выросла… Учитса у миня будишь? Хороша. Тавай, иди подвал, ниси метелка, стина разметай. Чичас раствор будит. Все снег замило…
Понравилось, как он говорил «снег замило». Под стеной загудела бетономешалка. Подходили рабочие, каждый со своим мастерком. Сперва показалось, рабочие поглядывают недружелюбно, а может, так и было. Чужака везде так встречают. В бригаде были парни постарше меня, двое пожилых мужчин и четыре женщины, не разберешь какого возраста – так закутаны, но вроде бы не старые.
Я принес из забитого снегом подвала метлу и лопату, поднялся по сходням на этаж. Все было завалено снегом, и так уныло лежал он на строительных развалинах под фиолетовым предрассветным небом, что я опять горько вспомнил привычный уже завод, цех, тепло, запах окалины, масла, металла и стружки, гул моторов, лязганье железа, дзиньканье молотков в слесарной мастерской, тяжелое перемещение крана над головой, удивительно круглый зад крановщицы Нади, на который все у нас косились – от меня, ученика, до начальника цеха, особенно, когда Надя поднималась в свою кабину, вспомнил девчонок-токарей, моряка Гребнева и мало ли что еще. И на черта я сюда пошел! Сидел бы на месте… Но ведь не нравилось? Все мы так устроены, все куда-то надо, все надо – больше! Сперва бы попробовать, поработать день-два… Ну ладно. Держись, чего там… В крайнем случае – вернусь, кажется, сказал это вслух.
Тем временем зашумел подъемник, первая ванна с раствором прошла над моей головой, опустилась рядом. С непривычки разинул рот, не знал, что делать. Крановщица звонила.
– Чиво стоишь. Атцыпляй давай, – сказал, появляясь. Усмангулов.
Я неловко стал отцеплять крюки-карабины, державшие ванну, а по стене уже натягивали шнуры. Кирпич был тут. Бригадир размешал раствор сверху, потом разогнал лопатой, шлепнул первый совок на кладку, разравнивал мастерком. «Поехала, – сказал он, – кирпищ давай…» Я подал кирпич, и Усмангулов ловко втиснул его в раствор, пристукнул ручкой мастерка, протянул руку за следующим. И мы действительно «поехали». Я едва успевал за этим шустрым, наторелым в работе человеком. Скоро две «версты» лежали во всю длину нашего участка стены, ложок между ними заполнялся «боем» и «половинником», потом подняли шнуры, и так пять раз, на шестом «ложок» перекрывался торцовой «перевязкой» из кирпичей, кладущихся поперек стены. «Только-то и всего? – подумал я. – Ну, это проще, чем ремонтировать пускатели, менять мотор или кабель».
– Ну-ка, сама давай! – сказал Усмангулов, словно угадывая мои мысли.
В чужих руках кирпич укладывался куда как ловко – в моих он не слушался, лез по раствору вправо и влево, вылезал за шнур.
– Ничива, – ободрял Усмангулов… – У миня тоже так было сынащала.
Кое-как прогнал версту, потом вторую. Усмангулов шлепал раствор, поправляя мои огрехи, велел шов давать тоньше – крепче кладка. Потом сели отдохнуть, закурили. Рассветало – не заметил как, и стало тепло. Снег слегка порошил с темного неба, на кране трепетал флажок, Усмангулов снял шапку, огладил потные жидкие волосы, сказал:
– Кирпищ понимать нада. Он ведь как живая. Своя характер имеет. Вот етот – видишь? Етот жесткий – темно-красный. Ето пережог – не расколешь, мастерок сломаишь… А ето вот опять желтай кирпищ. Она плахой, в стене вымокает. Самай лучшай розовай – вот кирпищ. Ето лучшай. Клади сразу – ша! Ни ерзай… Эта глазамер… Он будит у тебя… Будит… Вижу…
В обед я уже полноправно пошел с рабочими в столовую. Кормили здесь не хуже, чем на заводе, а есть хотелось пуще. Я в момент прибрал свой хлеб, суп, какую-то там котлету, чай и горько подумал: «Повторить бы…» Усмангулов ел со мной за одним столом и не торопился. Увидев, что я кончил, сказал:
– Ну, по еде хороший ты работник будишь. Кто быстра ест – быстра работает. Ни наелся? Эта поначалу… Машя! – позвал официантку. Подошла красивая черноглазая татарочка, Усмангулов сказал ей что-то по-татарски, и она, улыбаясь, ушла, принесла мне еще тарелку. Я смущенно отказывался.
– Ешь давай, – просто сказал Усмангулов. – Ты маладой – расти нада. Ешь. – И подвинул мне кусок хлеба.
Через два месяца я уже работал каменщиком. Стоял февраль. Теплые задумчивые дни перед весной. В полдень уже капало на свесах и что-то угадывалось весеннее в цвете неба, в самом воздухе, в повлажнелом снеге. Дом наш вырос до четвертого этажа, и вместе с ним как бы рос я сам, а когда взялись за пятый этаж, хорошо стало видно город. Машинально, привычно уже я клал кирпичи, ровнял раствор, покрикивал на девчонку-подручную – работал с ней недавно, – а сам поглядывал в ту сторону, где виднелись серые и желтые коробки домов у вокзала. Где-то там жили Лида, Костя Мосолов, Тина. Где-то работала сорок пятая школа, теперь уже не казавшаяся ни грязной, ни противной. Хотелось даже заглянуть туда, увидеть директоршу, и учителей, и ребят… Что такое прошлое? Какой странной властью обладает над нами, и почему всегда мы к нему тянемся, даже если было горьким, холодным, как лед. Да нет, не было оно таким, не верю, да его и не вернешь, точно было все давным-давно, и вовсе не я это шел в курилку с коробкой «Пальмиры», и не я был Уоллесом, и фельдмаршалом, и сыном генерала. Вот теперь я работаю, растет мой дом, его складывают мои руки, по кирпичику, и когда ухожу домой, всегда оглядываюсь, хочется посмотреть, как сделано, и ладно ли, и всякий раз удовлетворенно думаю: «Ладно, вроде бы ничего…»
Так постоянно говорит бригадир Усмангулов.
Учусь в десятом, мне – шестнадцать. Кажется, теперь совсем взрослый рабочий человек, и работа моя – настоящая. С хлебом стало хорошо. Отец дома. Жизнь пошла совсем ладная. И только временами, когда выдается свободное воскресенье и не надо идти на консультации, которыми замучили нас математик и литераторша, я возвращаюсь к забытым книгам, сидя за своим старым столом, тяжело и остро задумываюсь: как будет дальше? Куда поведет моя дорога, где найду то, к чему беспокойно и таинственно, точно стрелка компаса, тянется сердце…
И жизнь впереди кажется океаном, в котором надо плыть, и плыть долго, пока приплывешь к самым счастливым островам, и я не сомневался, что они есть и что я до них доплыву…
* * *
В старинных книгах всегда было послесловие, где о героях сообщалось хотя бы, как они благополучно дожили свой век. А мои герои, наверное, все живы, и дай им бог жизни долгой и счастливой. Многих я не видел, но все-таки встречал кое-кого и десять, и двадцать лет спустя. Об одной такой встрече хочу рассказать.
Совсем недавно зашел в новое большое кафе обедать, уселся в угол, люблю сидеть за угловыми столиками, к счастью, он не был занят. Пока не подошла официантка, просматривал газету. Время тревожное. В мире все еще едко пахнет взрывчаткой и войной, она, как огонек, ползущий по бикфордову шнуру, и что сделать, чтоб затоптать, погасить навеки этот опасный огонек, то едва тлеющий, то вспыхивающий… За столик кто-то грузно сел, я оторвался от газеты – взглянуть. Мужчина был одних лет со мной. Но как-то и старше, с той осанкой, выражением устало-волевого лица, которое приходит с солидной должностью, немалой властью, еще большей ответственностью. Лицо мужчины длинное, с черными глазами, с выступающими надбровными дугами напомнило кого-то, но отдаленно, неясно. Поначалу он только отдыхал, морщился, принял меню от официантки, смотрел, потом спросил: «А рыбы у вас нет?» – «Щука», – ответила официантка, нетерпеливо постукивая огрызком карандаша по блокноту. Официантки не любят разборчивых посетителей. «Хорошая?» – осведомился он. «Откуда я знаю…» – нагло ответила она. «Ну ладно, – согласился мужчина. – Принесите рыбу и кофе. Покрепче…» – «Все?» – «Стакан коньяку… Лимон…» Официантка черкнула, ушла, бодро вертя раскормленными бедрами.
Мужчина сидел некоторое время, щурился, как бы рассматривая через меня стену с какими-то казаками, лихо отплясывающими гопака.
– Тихон! – сказал он. – Ты?..
Я уронил газету. Вгляделся.
– Юрка? Тартын?!
И вот она – знакомая желтозубая обезьянья улыбка – подтвердила, кто передо мной.
И началось сразу: «Ну как? Ну что? Ну где? Где ты? А – ты?»
– А, в самом пекле, – сказал Тартын.
– Именно?
– Да ты ведь знаешь…
– Нет. Ей-богу, нет.
– Знаешь, – сказал он. – Ну-ка, кто директор… – назвал он самый большой завод, который известен на весь Союз и всем от мала до велика. – Кто директор?
– Мартынов, – сказал я.
– Ну вот…
– Ты??!
Он по-лошадиному помотал головой.
– Такие дела, брат. Директор… А ты не подозревал? Ха-х… Жизнь наша. Все мы во что-то превращаемся: кто в жучка, кто в бабочку, кто в стрекозу…
– Дела… Ты ведь у нас тихий был. А?
– Чего там… – усмехнулся он и велел официантке вместо стакана принести бутылку.
– Слушаюсь, – сказала эта сочная розовая баба уже совсем вежливо.
– Выпьем за сорок пятую. Дикую… – сказал Тартын. – Выпьем. Ах ты, батюшки, Тихон…
– Ну а о других-то знаешь? Я ведь очень, очень мало. Ездил, учился, мотался по белу свету…
– Знаю, – сказал он, морщась от лимона. – Костя Мосолов – деканом в Н-ском университете. Гипотез – подполковник, в Ленинграде видел. Лис где-то в угольщиках, по отцовым следам пошел. Своя «Волга». Женат на той толстухе, Нэлечке. Гуссейн, брат, высоко – уже доктор, а может, сейчас член-корреспондент. Живет в Киеве. Физик с именем. И Сережа Киселев – живехонек, здоровехонек. Брюшко. Работает в институте охраны труда. Воробьев – у меня на заводе. Так себе, заурядный инженер. О других – не знаю.
Мы допили бутылку. Еще поговорили.
– Пора, брат, – сказал Мартынов. – Служба. Ну, – протянул крепкую жесткую директорскую руку. – Жене привет передать? Чего удивляешься? Она тебя знает. Хорошо. Вот сейчас удивишься. Это – Оля. Альтшулер – помнишь? Она… С ней в институте учились… Вот так, брат… Ну, звони, заходи, коль придется. Рад тебе. Эх ты, старина…
Он ушел. А я остался еще. За широким стеклом окна видел, как он садится в новую блестящую черную «Волгу». «Совсем по Андерсену, – подумал я. – Сказка «Гадкий утенок»… А интересно бы взглянуть на Олю. Какова-то она теперь…»
Казаки по стенам все так же лихо плясали гопак.
Была и еще одна встреча, которая удивила не меньше первой. Произошла она так же неожиданно. В кухне засорился водопровод. Я позвонил в домоуправление. Примерно через час в дверь постучали. Пьяный голос сказал: «Водопроводчик…» Я отворил. Вошел очень низенький человек, обдав устойчивым запахом спиртного, не глядя спросил: «Где?»
Я провел его на кухню.
«Бросили, наверное, чего-нибудь», – ворчливо бурчал он. Достал некий снаряд вроде резиновой присоски с ручкой. Быстро прошуровал раковину. Профессионально отвернул краны. Закрыл. «Полтора рубля… за засор…» – строго сказал он. Я выдал деньги, несколько удивляясь столь высокому поминутному заработку… Он улыбнулся, густо дохнув «Солнцедаром», направился к двери. Я шел за ним и вдруг начал понимать, кто это был, – понял окончательно, когда дверь захлопнулась. Толька Бабушкин! Мышата… Как же сразу-то не узнал…
Когда я приезжаю в тот город моего детства, живу там, брожу по улицам, по его раздавшимся проспектам – иногда встречаю худощавую красивую женщину с зимними глазами. Я встречаю ее уже равнодушно, – только смотрю, она ли, и, провожая ее взглядом, всегда думаю, что же такое – время…






