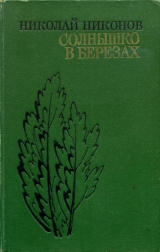
Текст книги "Солнышко в березах "
Автор книги: Николай Никонов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 27 страниц)
XIII
Иногда в теплые предвесенние дни и вечера я не покупал билетов ни в театр, ни в кино – просто предлагал Лиде погулять. Она соглашалась, без особого, впрочем, желания и энтузиазма. Мы бродили по городу, но не по главной людной и надоевшей улице – где Лиде как раз нравилось, – а сворачивали в малознакомые улицы, в, переулки и проезды. Мне всегда хотелось забираться туда, где еще не был, потому что люблю разглядывать дома в большинстве своем старые, с резьбой, с разнообразными окнами и наличниками, с «парадными», с флюгерами на крышах, с воротами и оградами из чугунных узорных решеток – глядишь и думаешь: каждый дом – своя судьба, история, люди, его населяющие и населявшие, лицо и характер его хозяина. Особенно интересно в улицах за городским прудом: здесь остался не тронутый временем старый город, – город бывших торговцев, купцов всех гильдий, зажиточных мещан, адвокатов, врачей, присяжных поверенных, полицмейстеров и частных приставов, ростовщиков, офицеров, кисейных барышень, священников и благочинных. Здесь же был и город дворников, горничных, лакеев, извозчиков, мелких торгашей, шарманщиков, золоторотцев и бродяг. Я очень любил Горького, читал его взахлеб, а здесь прошлое, то самое нижнегородское, глядело из каждой подворотни, каждой завитушкой нарядного и уже потемнелого перекошенного крыльца, ржавой биркой страхового общества «Феникс», прибитой над воротами, старушечьей «файшенкой» – в такой моя бабушка всегда ходила в церковь, – даже особым видом этих улиц, с толстыми, наклонно растущими тополями и предвечной неспешной тишиной. Был интересен этот ушедший мир, я любил раздумывать о его судьбе, глядя на дома.
Вот, например, большой кирпичный дом-замок с зубчатыми коронами башен и с чешуйчатыми куполами. На куполах заржавелые ажурные флюгере безмолвно показывают в прошлое. Теперь тут черная вывеска ОБЛОНО. Но его как-то не воспринимаешь всерьез в этом дворце. ОНО должно быть где-то не тут. А тут просто кирпичный замок, решетки-копья, триумфальная махина кирпичных ворот, запертая створами с такими же копьями, кирпичные стены на гранитном основании – и что это за кирпич, нисколько не постарел, не разрушается, лишь в одном месте, где сорвана железная кровля, бежит по стене вода и торчат какие-то сухие прутики-былинки. Кто здесь жил? Богатейший ли торговец из крещеных татар, владетелей многих магазинов, лабазов, мельниц, хлебных ссыпок, или именитый князь, вся гордость которого в его родословной, восходящей к первой русской династии, а настоящее пошло, подло и скучно, или просто «человек со средствами», наследник, который весело проживал состояние, скопленное отцами, – здесь вечерами пела музыка, палило шампанское, изящные дамы выходили из сверкающих лаком ландо, опираясь на руку полусветского хлыща, плыли, повиливая турнюром, к роскошному крыльцу, где им, кланяясь, отворял ласковый швейцар в достойных бакенбардах…
В доме с множеством окон, глядящих в небо как-то пасмурно-изумленно, жил ростовщик. Конечно, это был одинокий высохший старичок, и при нем раздвоенная от харчей экономка-домоправительница. Он в жилете, в пиджачке со старинными ажурными пуговицами, и в каждой пуговице капелькой крови темно-красный рубин. Руки у старика цепкие и промытые – созданы, чтобы считать золото, серебро, бумажки. На входящего глядит испытующе поверх очков, из-за дубовой крепкой конторки, и в верхнем ящике лежит большой заряженный смит-вессон с желтой или перламутровой ручкой. Глядя по посетителю, старик предлагает или кресло, или тонкий венский стул. И всегда непроницаемо лицо старика, когда он подает просителю гербовую бумагу и тот бережно, каллиграфически, придерживая ее кончиками пальцев, выводит: «Сего 20 февраля… повинен я заплатить…»
– Ты где? – спрашивает Лида. Я вздрагиваю, просыпаюсь, смотрю на нее виновато, у нее румяное сердитое личико, и это, конечно, не от холода.
А еще я люблю смотреть закаты. Они всегда необыкновенны, потрясают меня всякий раз, как многоцветная исповедь дня перед лицом ночи. Люблю замечать, как садится солнце, оно опускается странно незаметно и в то же время очень быстро: вот вошло в морозный дымный туман, сделалось огромным, красно-бронзовым, словно бы накалилось от этого, а потом стало медленно остывать, розоветь, уходить вниз за городские крыши, вот уже только край, красно-яркие, фиолетовые снега на крышах, вот и край погас, солнце ушло, и один только закат с волной золотых облачков от потонувшей золотой ладьи. Солнце ушло, ушел вместе с ним день моей жизни, куда и зачем, в протекающую вечность времени или просто в ту неизбежность, которой подчинено все – и я, и муравей, и этот город, и вся Земля в бесконечном космическом движении, и даже Солнце, заурядная звездочка нашей Галактики, – или все это ерунда, а просто солнце светит сейчас другой стороне Земли, и где-то еще только встают, просыпаются, отворяют окна, пьют воздух нового утра, и так оно длится бесконечно – бегущее утро, день, вечер и ночь. Когда часто спрашиваешь себя «почему», становится трудно жить. Почему поворачивается эта махина – Земля, почему движется вокруг Солнца и кто двинул эту систему, набросал в пространство звезды и галактики, что это за тайна – от этих мыслей становится трудно, точно мозг отказывается служить, напряженно буксует, как машина, засевшая с неподъемной тяжестью, и один путь назад, к реальному. Неужели у меня под ногами где-то на той стороне Бразилия, течет Амазонка, спит ночной лес и лишь самые высокие вершины в чудовищной цепи Анд розовеют предбудущим утром? Неужели там это же самое солнце беспощадно жарко? Не верится. А закат уж ослаб, вишневее, зеленее вечерний горизонт, и думаешь, как быстро все меняется, вот только что цвело золотым сиянием и плавленой медью, и хочется быть художником, чтоб это останавливать, стремительно писать и открывать кому-то. Ведь вот никогда не обращал внимания, что закат похож на радугу, а он похож – все цвета радуги живут в нем, а в его красном свете деревья кажутся черными. Закат похож на гаснущую улыбку, на затихающую музыку, на смолкающую песню. Вот и совсем сине и темно, только едва-едва тлеет вдали. Веет оттуда доброй мирной сказкой. Жили-были. Жили-были. Там, под тихим закатом… Кто-то там жил и был…
Лида редко разделяла мои восторги. Наверное, мы были очень разные люди: театральные закаты и рассветы восторгали ее куда больше. Обычно она недолго стояла у парапета набережной, откуда лучше всего был виден закат, переминалась в своих аккуратных черных валенках и в конце концов говорила устало сердитым голосом: «Ну, пойдемте же!» Сердясь, она всегда переходила на «вы». Странно, что, кроме первых самых счастливых дней, мы никак не могли найти с ней один ровный и постоянный тон. Сбивался и я тоже, то называл ее на «ты», то на «вы» в зависимости от того, какой она мне казалась, а казалась она или наивной девочкой, простодушной, хохочущей, ласково-шутливой (такой я ее очень любил) или рассудительной, холодной девушкой, словно бы много старше меня, увереннее и умнее. Расставались, подержав друг друга за руки, потому что, когда я робко попытался обнять ее снова – тот раз не в счет, тогда я был, наверное, пьяный, – она строго убрала мои руки, вывернулась и сказала: «Не надо… Не вздумай…» Но я ведь упрямый… И тогда она вывернулась снова, сказала уже совсем строго: «Что вы?» Впрочем, тут же и рассмеялась, едва я убрал руку, стала, как бы задабривая меня, наступать мне на ноги. Вот и пойми ее. А в общем она стала строже, и я никак не мог преодолеть, растопить эту строгость, думал, уж не рассказала ли она обо всем матери, и женщина с зимним глазами посоветовала ей, как держаться, может быть – отругала…
Наши отношения застыли на одном месте, не лучше и не хуже, и это тяготило меня, я начинал бояться, что она не верит мне, подозревает, что я обманываю. Она все спрашивала, когда поставят у нас телефон, однажды пошла провожать меня, и я, краснея, весь холодея внутри, довел ее до какого-то дома рядом со штабом военного округа и сказал, что живу здесь. «А квартира?» Пришлось назвать первый подвернувшийся номер – четырнадцать. Наверное, она ждала, что я приглашу ее, ведь я показал даже окна, но я молчал, не мог же я вести ее в чужую квартиру, мне было очень тяжело, поверьте, очень, тысячу раз я покаялся, что получилось так, но что ж из этого – все равно не находил смелости сознаться ей во всем и продолжал ехать как бы по инерции. А может быть, Лида ждала чего-то большего, чем походы в театр и в кино, даже, наверное, ждала каких-то необыкновенных знакомств, вхождения в мою семью, поездок на машине – у моего отца, конечно же, была «Победа», в то время они еще только появились, и все знали, первая голубая «Победа» была у Мосолова, – или не в меру замкнутый, робкий в проявлениях своих чувств, я мало говорил ей такого, что обычно говорят бойкие на язык ребята своим девушкам, а ведь девушки любят слухом… Может быть…
Блуждания по улицам и переулкам, столь интересные для меня и томительные для Лиды, прервались неожиданно. Однажды поздно, когда мы возвращались к главной улице и не дошли до нее всего квартал, из проулка вышли двое и встали на дороге. Тротуар в этом месте был узкий, слева забор, справа сугроб. Они же стояли посередине, и сердце у меня противно дрогнуло. Это поняла и Лида, но я почему-то шел вперед, увлекая ее, и подошел к этим двоим вплотную.
– Пропустите, пожалуйста, – срывающимся голосом сказала Лида.
– Да ты не таррапись, пташечка, – блатным ласковым голосом сказал один – он был постарше и кивнул младшему. – Пальто?
– Ас этим? – спросил тот.
Я понял, что это не какие-нибудь пьяницы, а настоящие и, видимо, опытные грабители. Лица их было не разглядеть из-за надвинутых шапок, что-то темное, страшное, хуже любого зверя.
– А девочка-то вполне, – сказал младший. – Даже жалко такую… – Он потянулся к Лиде и взял за подбородок.
– Оставьте меня! – крикнула она. – Что я вам сделала?
– Ишь, брухливая, – заметил старший.
– Снимай пальто и молчи, – сказал, младший. – Видишь? – В руке жутко блеснуло.
Я точно окаменел. Я ничего не понимал и не мог двинуться. Я даже не попытался бежать, да и не убежать было от этих двух в коротких полупальто и в подвернутых валенках. «Сейчас разденут», – подумал я с замораживающим душу безразличием, страх парализовал мою волю, мои руки.
– П… пропустите… – кажется, едва выговорил я.
– Погоди… – спокойно-буднично сказал старший, глядя, как напарник расстегивает на Лиде пальто.
– Что вы делаете! – крикнул я.
– Ну, ты, мальчик, ты успокойся… Не кашляй, развяжи-ка ушки у шапки.
Я наконец увидел его глаза, хищные и беспощадные, они не улыбались, хотя губы тянулись в улыбку. Где я его видел? Где? Да это же он играл… Химия… мумия. А… А если…
Я помню только звук удара, который освободил мне дорогу, потому что вторым я сбил и того, кто раздевал Лиду и оторопело скрылся. Нет, я даже не вспомнил, что я боксер, не знаю сам, как это все вышло. Мы бежали до главной улицы, но никто не гнался за нами. Наверное, нокаут был вполне – ведь ударил-то я без перчатки… Не помню, как добежали до остановки, как кинулись в подошедший трамвай… Лида плакала. Я молчал, посасывая разбитый кулак, было страшно, стыдно, радостно – все вместе. Был на волосок от ножа, от того ужасного, что могло последовать дальше. Конечно, это счастливейший случай, что я снова ухожу целым, меня спасла моя же робость. Они ничего не ждали, кроме покорных слез, слов о пощаде, в крайнем случае какого-нибудь жалкого мышиного сопротивления. Все-таки бокс – вещь! И что, если б я не владел этим замечательным ударом, которому научил меня Сева…
Лида была так напугана, что плакала, вздрагивала и бежала к дому бегом, и я едва успевал за ней. Почему-то она никак не оценила ни этот удар, ни то, что мы спаслись все-таки благодаря мне. На крыльце своего подъезда она сказала: «Ну ладно… Хорошо… Только больше я никогда не пойду с вами… Никогда не пойду. Это все ваша выдумка… И вот… Как могло…» – «Не сердись. Не плачь…» – пытался я уговорить ее, еще более обескураженный всем этим, теряясь и сам чуть не плача… «Ну ладно, – сказала она, немного успокаиваясь. – Идите… Иди домой… До свиданья…»
– Послушай, говорят, уже есть билеты к экзаменам, – сказала Лида. Мы возвращались из очередного похода в театр.
– Не знаю… – неуверенно и рассеянно ответил я.
– А Оля Альтшулер уже достала… Через Костю, – улыбалась она, а когда она улыбалась…
– Ладно, достану, попробую, – вполне уверенно ответил я, хотя вовсе не знал, как это я сделаю.
– Ой, милый, правда достанешь? – Она посмотрела так, словно я пообещал ей миллион.
– Конечно, – ведь я любил, когда она радуется.
Я не пошел в школу и целый день ездил по книжным магазинам – искал эти проклятые билеты за девятый класс. Их нигде не было. Их надо было действительно «доставать». Я ненавижу это слово и сейчас, так же как все эти «блаты», «найдем», «устроим», «вы нам – мы вам» (сейчас это называют «принципом пилы»), «что-нибудь сделаем», «отоварим»… Я ненавидел эти слова, и все-таки надо было «что-то сделать», как-то «достать», хотя Лида могла бы, конечно, списать билеты у той же Оли Альтшулер. Мне даже показалось, что Лида нарочно придумала такую задачу, чтобы проверить – действительно ли мои возможности «доставания» равновелики возможностям Мосолова. На другой день на перемене я поделился с Мосоловым своей заботой.
– Нну, проблема! – улыбаясь, сказал он. – У меня еще одни билеты есть… Заходи – возьмешь… Пойдем прямо после уроков.
Вот оно что значит – настоящий генеральский сын.
XIV
Дом, где жил Мосолов, я знал давно. Он внушал почтение. Он был тяжелый, темно-серый, с цоколем из полированного красного гранита, даже подъезды были с полуколоннами, портиками и какими-то барельефами вверху в виде гранитных завитушек. Он стоял вдали от улицы, загороженный тополевым садом, летом здесь, должно быть, очень зелено, поют птички и в газонах растет немятая трава. Только торцом дом примыкал к Лидиному двору и этим как бы еще подтверждал свою особенность и важную уединенность. На чистых лестничных клетках были плиточные полы в мелкую шашку. Здесь слегка пахло хорошей едой и дорогими вещами. Мы поднялись вдоль дубовых сплошных перил на третий этаж, и Мосолов позвонил у обитой новым коричневым ледерином двери. Дверь была тоже самая генеральская. Послышались в ответ грузные и в то же время ловкие женские шаги. Открыла дверь румяная, розовая, беловолосая девушка, похожая на молочницу или на добротную русалку, в коротком ситцевом платье-халате, которое удивительно шло к ней, к ее лицу, волосам, толстым сильным ногам в домашних, опушенных мехом, мягких туфлях. Я мгновенно влюбился в эту девушку. Да. Влюбился. Только не так, как в Лиду. Можно, оказывается, влюбляться и не в одну, и по-разному. Любил же я соседку, Галину Михайловну, Олю Альтшулер, еще каких-то женщин и девочек, которые мне ненадолго встречались, и всех как-то неодинаково и непохоже. А девушка уже поняла мой оторопелый взгляд и, ласково улыбаясь, посторонилась. Мы оказались в высокой прихожей с тем же воздухом солидной, богатой и спокойной квартиры. На вешалке слева висели две генеральские черные шинели с широкими серебряными погонами – словно бы ведь и не люди носят такие погоны, – на полированной тумбочке с телефоном стояла черная каракулевая папаха, сверху с потемнелым серебряным галуном.
Розовая девушка подала мне мягкие шлепанцы и ушла, сильно двигая очень выпуклым и широким задом, улыбаясь и оглядываясь через плечо. Я с трудом заставил себя не смотреть ей вслед. От нее оставалось чувство безысходной зависти, смешанной еще с чем-то непонятным, тяжелым. Кажется, даже Костя ощущал это, потому что подмигнул и покраснел. Непривычно ступая по ворсу ковровой дорожки, робея, я проследовал в светлую небольшую столовую с блестящей полированной мебелью, какой я еще никогда не видывал. Столовая с красивыми старинными часами в футляре красного дерева, с фарфоровыми конями, всадниками, обнаженными купальщицами на роскошном буфете, за стеклами которого сверкал хрусталь, стопы тарелок, цветные фужеры и вазы. На стене над столом картина в широком багете – плоды, фрукты, серебро… Даже представить не мог, что такая картина запросто может висеть дома – самое место ей где-нибудь в галерее. За столом, под картиной, сидел в расстегнутой рубашке, серых брюках с лампасами сам генерал Мосолов, пил чай из тонкого стакана в тяжелом литом подстаканнике, а перед ним на белейшей скатерти стояли корзинка с печеньем, сахарница, полная сахару, масло, хлеб, сыр и нарезанная тонкими ломтиками темная копченая колбаса. Мясистое лицо генерала, неуловимо похожее на Костю, было в испарине, глаза смотрели с важным благодушием. Как это так – у генералов и лица самые генеральские…
– Папа, это мой товарищ, Толя Смирнов… Отец у него тоже генерал… – представил меня Костя.
Я не знал, куда деться, глупо, почтительно улыбался.
– Ну? – Мосолов отставил стакан. – Добро пожаловать… Смирнов… Смирнов… Что-то не слыхал… Не в МГБ?
– Он в штабе, – за меня ответил Костя.
– В штабе округа? Смирнов? – генерал снова потянул стакан, прихлебнул раздумчиво.
– Ему недавно присвоили, – продолжал Костя.
– А-а… Ну, тогда может быть… Смирнов… Ну-ну…
И генерал еще раз улыбнулся, допил стакан.
У Кости была очень уютная, довольно большая комната с окнами на тополя. Много книг в полированном шкафу. Медвежья шкура на полу, лохмато густая, запомнились длинные черноватые когти. Ковер на стене. Вместо кровати – тахта. Новенькая длинная радиола возле на полированном столике. У окна был письменный стол, настоящий, с ящиками, с телефоном, с письменным прибором и толстым настольным стеклом.
Мы сели на тахту. Она мягко пружинила. Я был не в состоянии говорить, удрученно молчал, хотя делал вид, что такая обстановка для меня привычна. Чтобы скрыть смущение, подошел к окну, глядел на макушки тополей. Да, это была настоящая генеральская квартира. И я подумал, что люди, вырастающие в таких квартирах, наверное, очень крепко уверены, что жизнь устроена именно так, как им нужно и желательно. Эта квартира показала жалкую сущность моей лжи, и я чуть было тут же не сказал Мосолову…
Сказать или нет? Сказать или нет? Сказать… Я струсил. Нет. Не здесь, не сейчас, не среди этих апартаментов, медвежьих шкур и полированных шкафов – здесь не повернется язык.
Мосолов, видя мою скованность и по-своему ее истолковывая, шутил, смеялся, рассказывал, как сегодня на уроке литературы кто-то положил под ножку стула взрывчатый капсюль и Нина Васильевна «подорвалась» на нем, когда села. Урок сорвали. Многих таскали к директору. Кто подстроил – неизвестно. Никто не сознается.
Понемногу я освоился. Включили радиолу. Пластинок у Кости было много, и все отличные. Просматривая их, я окончательно овладел собой. Закрыли дверь. Закурили моей «Пальмиры». Это была последняя пачка, на последние деньги от костюма. Деньги эти оказались очень неспорыми, их не хватило на половину того, что я рассчитал про себя сперва. Масса мелких нужд, которые оставлял без внимания, и вот результат – последняя коробка «Пальмиры». А дальше что? Чувствовал, как близится все это, рано или поздно придет, откроется, и, может быть, лучше раньше, скорее… Курили. Костя умел пускать дым кольцами. Я не умел. У меня никак не получалось, чтобы так же – колечко за колечком: больше, меньше, меньше, еще меньше. «Батя знает, что я курю, а делает вид… – посмеивался Костя. – Тина не выдаст».
– Кто? Кто?
– Тина. Домработница. Хорошая?
– Что говорить… Я думал – ваша родственница. Не девка, а…
– Я ее иногда прихвачу – грозится: «Отцу скажу!» А не говорит. Она хорошая, добрая.
«Эх, какое у нее имя – Ти-на, такое очень к ней подходящее, прямо засасывающее», – подумал я, представив пышную русалку. И как все-таки странно: соседка, та, что уехала, казалась мне очень красивой женщиной, но пришла Галина Михайловна, и соседка померкла, поблекла. Галина Михайловна заняла ее место, и казалось, уже не может быть на земле более тяжелой совершенной женской красоты, но… вот – Тина, которую я увидел впервые, в сто раз прекраснее Галины Михайловны, и неужели еще может быть что-то более красивое, чем сама красота?
– Откуда она?
– С дороги… Работала проводницей. Отец ее любит.
– А где у тебя мать?
– Мамы, брат, нету. Умерла. Рак. Четыре года прошло. Четыре года… – Костя помрачнел, а мне стало стыдно за этот вопрос, и я опять увидел простого, доброго, опечаленного мальчишку.
Помолчали.
– Э-э, слушай, что я тебе сейчас покажу! – Костя улыбнулся, полез в стол, осторожно достал большую фотографию. Оля Альтшулер.
– Как? – улыбался Костя.
Ослепительная Оля на фото была невероятна, как кинозвезда. Даже лучше. У звезд много косметики, а Оля ведь была натуральная от ресниц до губ. И я вспомнил, как танцевал с ней у Лиды.
– Что говорить… Она у тебя бывает?
– Конечно. Почти каждое воскресенье. Или я к ним, или она ко мне. Приходи с Лидкой. Весело будет. Потанцуем. Или давай у тебя соберемся, послезавтра как раз выходной. Даже интереснее. Квартира большая?
– Меньше… У нас сейчас ремонт. Известка… Краска…
– А-а, нну, тогда отпадает. Только почему ремонт зимой?
– Да мы недавно переехали.
– Надо бы до переезда ремонт, – сказал он.
Я согласился:
– Надо бы…
Посидел еще немного, послушал какой-то новейший вальс.
Нелегкой походкой матросской
Иду я навстречу врагам,
А после с победой геройской
К родимым вернусь берегам…
Слова не нравились, было в них что-то грубо хвастливое, известное: «врагам, берегам», «с победой геройской…»
Припев был лучше, особенно музыка, сопровождение на аккордеоне:
А волны и стонут, и плачут,
И плещут о борт корабля…
Но слова-то, слова: «о борт корабля…» Пластинка кончилась.
Я взял билеты, поблагодарил и ушел. Генерала в комнате уже не было. Дверь за мной закрывала розовая Тина. Она показалась мне еще прекраснее и моложе. Я нарочно медленно надевал ботинки, чтобы подольше на нее посмотреть, побыть возле нее, а в общем видел только ее ноги в светлых непросвечивающих, но шелковистых чулках и подол ее простого халата. Распрямился, красный от волнения, смущения, какого-то детского стыда. Она подмигнула мне, и лицо ее, наполовину скрытое в прядях светлых, разведенных надвое русалочьих волос, осветилось такой улыбкой с ямочками, что я, не помня себя, выскочил за дверь, прогрохотал по лестнице и остановился только внизу, прислушался с гулко тукающим сердцем. Ах, какая… Ти-на… Даже много лет спустя я помню ее как сейчас, хоть никогда больше не видел.
Я пошел по улице как-то тяжело удрученный всем этим, повернул за угол дома, и все не проходило впечатление подлинности этого дома, его подъезда, лестницы, комнат, квартиры, двойных лампасов на генеральских брюках, фарфоровых коней и купальщиц, медвежьей шкуры с черными коричнево-просвечивающими когтями и этой женщины, такой сказочной и простой, ослепившей меня, как внезапный удар молнии. Постоял, потрогал гранитный цоколь дома и повернул обратно, зачем-то прошел еще раз мимо подъезда, а потом решил пройти Лидиным двором. Может быть, встречу Лиду… Но Лиды, конечно, не было, хоть шел я очень медленно и, поглядывая на окна, пересек двор, зато на входе встретился Лидин отец. Он шел в красивом новом кожаном пальто с каракулевым воротником, такой же новой каракулевой шапке, в теплых меховых сапогах. Не узнавая, холодно скользил по мне взглядом маленьких глаз. Следом за ним торопился один из тех лысых толстяков, что были на вечере-именинах, в обеих руках, отдуваясь, он нес по большой продуктовой сумке, набитой битком.
Я голодно поглядел им вслед.
– Слушайте! Я вчера заходила к вам, и мне сказали… Мне сказали, что вы тут не живете, и никогда не жили, и никакого генерала… – Лида стояла на черном мокром тротуаре. Была уже совсем весна, везде таяло, вид у Лиды был негодующий, щеки горели, шапочка торчала, глаза сузились…
Я молчал. Что было говорить? Оправдываться? Удивляться, как долго она это открывала?
– Зачем вы меня обманывали? Зачем??! – голос Лиды становился почти рыдающим.
А что я мог ей объяснить? Что любил ее как первое живое воплощение моей мечты о девушке и подруге? Что ради нее пошел на все, переступил через стыд, презрение к себе и тяжелые угрызения совести? Я молчал… Давил ботинком снег, и он расползался в кислую водянистую жижу. Ботинок «Батя», ты дожил до весны и был свидетелем моего триумфа, а теперь стал похож на опорок, где твои белые ранты, которые я так берег, когда шел на тот вечер, шел без шапки, в американском пальто с коробкой «Гвардейских» в кармане… Да, я виноват, но скорее не перед ней, а перед собой, перед ребятами, перед Костей, и не все ли равно ей, Лиде, кто я, чей я сын – или в этом-то как раз и все дело?
Она повернулась, быстро пошла оскорбленной ненатуральной походкой. Я смотрел, как она обгоняет прохожих, как закинутая назад шапочка появляется то справа, то слева, и вот она скрылась совсем, ее заслонили чьи-то головы и спины. Мне было едко тяжело, и, наверное, я морщился, кривился, потому что люди глазели, проходя мимо и обходя меня. Но одновременно было и чувство большого облегчения, освобождения, точно я вдруг сбросил некий груз, который долго, обреченно нес, зная, что все равно брошу его, только вот – когда…
«Если женщина уходит – не удерживай ее…» – сказано в одной доброй старинной книге.
Вечером я один бродил по теплому предвесеннему городу. Теперь меня давила, угнетала тоска. Какой тяжелый был вечер с мокрым асфальтом, мокрыми облаками, мокрыми крышами и теплым красным закатом… Я шел по ярко освещенному проспекту, заполненному с виду беззаботной, говорливой, улыбающейся, бесконечно текущей людской рекой, я прошел этот проспект и раз, и два, точно искал кого-то, потом свернул в боковую улицу, вышел на другой проспект, уже не столь оживленный, шагал все дальше и дальше, потом вернулся, пошел к набережной и только тут понял – привычно повторяю маршрут, каким мы ходили всегда. С ней… А теперь я был один и готов был плакать – так мне было тягостно и одиноко. Встреться мне сейчас Лида, я, наверное, умолил, упросил бы ее простить, нашел бы такие слова, которые всегда берег для нее ли, для кого-то другого, точно жадный, жадный скупец. Наверное, многие так берегут эти крайние, труднейшие и нежнейшие слова. Я не говорил их. Все чего-то ждал и жду, а тут – сказал бы…
По набережной с коньками на плече и в руках шли парни и девчонки. Каток еще работал, там гремела музыка. У чугунных решеток стояли парочки, сидели на скамейках. Почему-то раньше я почти не обращал на них внимания, когда был с Лидой, а теперь я смотрел, и от этого было еще тяжелее. И опять спрашивал себя: что это было? Любовь? Или просто одна потребность любви, та самая,-над которой когда-то смеялся. Потребность любви… Вечна она, и даже глубокие старики, истратившие свою жизнь, втайне, наверное, все-таки живут ею. Потребность – это ведь еще не любовь. И, если разобрать все строго, у нас ничего такого не было – мы не сидели обнявшись, ни разу не поцеловались, если не считать того новогоднего поцелуя на лестнице. Мы просто «ходили», ждали чего-то, узнавали, и, если говорить, начистоту, больше всего я любил Лиду, когда еще не знал, как ее зовут, не был с ней знаком, а только думал о ней, ждал ее и к ней тянулся. Конечно, теперь уж – все… Все рухнуло безвозвратно, и напрасно ждать возобновления наших отношений. Расстались ведь как враги… А почему? Почему? Скажите?! Какие мы враги? Неужели это так оскорбительно, что я не… Даже не хочу повторять. Как же можно просто так уйти, бросить, порвать – или она тоже ничего не ждала? Непостижимо это. Теперь она уйдет далеко. Еще год – и аттестат зрелости. Поступит в институт. Она студентка – я школьник. Студентка… Лида, И как я теперь буду в школе? Ведь Лида все расскажет Нэле, та – Лисовскому, а Лис? Да разве он будет, молчать, да и никто не будет… А она не вернется. И не любила она меня никогда – раз так просто ушла. Она даже не поздоровается теперь со мной, если встретится. Уж я-то знаю… Лида упрямая и в то же время вроде бы мягкая – странно сочетаются в людях противоположные качества. И мягкость ее была ведь какая-то словно бы деловая, с подкладкой. Ведь я это чувствовал, чувствовал, а не понимал. Да так же было с первого вечера… Что говорить… Наивный дурак. Горе-кавалер. Нет, не таких, не таких они любят… Любят уверенных, спокойных, холодных, нахальных, берущих свое без оглядки… Черт знает кого они любят, им словно нравится, когда ими помыкают, их презирают, им изменяют… Перехватил – зол, обижен, отринут, брошен – и все-таки, все-таки в чем-то прав…
В курилке, как всегда, было тесно, дымно. И когда я пришел сюда, закурил «Беломорину» – остатки прежней роскоши – и отдулся после первой сладкой затяжки, ко мне, ныряя в толпе, пробился Мосолов, странно, растерянно глядя, сказал:
– Слушай, может ты трепанул про генерала? Тут про тебя черт знает что болтают, а батя сказал, генерала Смирнова в штабе нет… Он-то знает… Или? – Мосолов замолчал, посмотрел на меня. Добрый парень, кажется, очень ему хотелось, чтоб я был настоящим и чтобы мой отец тоже был настоящий генерал.
– Да, – сказал я спокойно. – Отец не генерал и не полковник… Я это выдумал, нарочно… А ты поверил?
Я понял, что ему больно. Он моргал, кусал скривленную губу – не знал, как поступить: посмеяться или оскорбиться.
Он был добрый парень, и его хотел бы я видеть своим другом. Но не теперь… Теперь нас разделяло все случившееся, и разделяло накрепко, навсегда.
– Да он же все брешет, – сказал вдруг, широко улыбаясь во всю свою рыжую рожу, Лис… – И баксер, и все… Ты, трепло… Ги-не-рал… Бак-се-р…
К нам поворачивались, подходили. Они, видимо, уже все знали. И я не различал со стыда, кто тут, – одни улыбающиеся, презрительные, насмешливые лица. Эти лица проступали спереди, с боков, сзади, а за ними были любопытные и ждущие. В этих лицах было презрение ко мне, кого еще вчера почтительно сторонились, негодование по поводу собственной глупости и торжество, уже не скрываемое – вот, теперь-то мы покажем тебе. А впереди стояли Лис и вынырнувший откуда-то тихоня Кузьмин.
Они надвигались, приближались. Я смотрел одиноко и затравленно. Не знал я, что мне делать. Что-то зазвенело во мне как бы натягиваясь, и сам я пригибался, отступал, горбился, теперь-то я знаю себя и знаю, когда это приходит. Из потерянного ягненка, стоящего перед кучей волков, я мгновенно сам превратился в ощетиненного злобного волка.
– Не боксер? – сказал я затихающим голосом. – Не боксер? Да… А вот! – Лис полетел головой в угол. – Вот! Вот! Вот! Вот!






