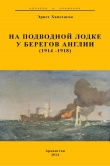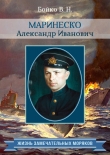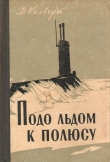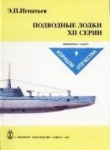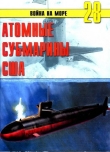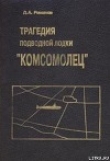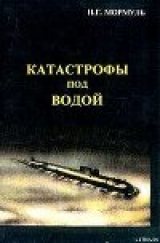
Текст книги "Катастрофы под водой"
Автор книги: Николай Мормуль
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 40 (всего у книги 45 страниц)
Причины аварийности
Причины аварийности
Атомный флот СССР по количеству кораблей превосходил все атомные подводные флоты мира. Погибло атомных субмарин и людей у нас тоже больше, чем у США. Поэтому естественно, что большая часть этой книги посвящена аварийности ВМФ в России. Я был участником или свидетелем многих из описываемых событий. И, обладая этой информацией, стремился показать правду о создании и развитии атомного флота в основном с точки зрения его эксплуатации.
Темой аварийности я начал заниматься давно, сразу после гибели “Трешера”. А гибель нашей “восьмерки” еще больше убедила меня в том, что эта тема не должна быть скрыта от специалистов, иначе катастрофы будут повторяться. Аварийность же в ВМФ СССР была столь велика, что анализ всех происшествий потребовал бы многолетней работы целого института. Еще в 1974 году я предложил заместителю Главнокомандующего ВМФ адмиралу В.Г. Новикову срочно издать книгу об авариях и катастрофах, которая бы находилась на каждом корабле и входила в комплект учебной документации. Адмирал ответил, что существующей информации об аварийности и так достаточно, а “черная книга” ВМФ не нужна. Поэтому в 1989 году я стал инициатором написания книги “Атомная подводная эпопея”, которую удалось издать во Франции в 1992 году. Но и после, по мере снятия грифа секретности с тех или иных событий, я вновь и вновь возвращался к теме аварийности. В 1994 году моя книга вышла в России. Ее арестовали, но “разглашения” не обнаружили. Боль за погибших товарищей, возможности, новых для нас, свободы слова, открытости и гласности, возвращали меня к этой теме. Ведь имена многих погибших по-прежнему неизвестны – и не только подводников. Памятники погибшим если и существуют, то находятся на территориях закрытых гарнизонов, не доступных российским гражданам. Семьи, потерявшие кормильца, как правило, испытывают тяжелые материальные проблемы. Расхожая фраза: “Родина должна знать своих героев!” так и остается лишь фразой. Неизвестные общественности факты скрыты, как и в былые годы, И потому трагические ошибки экипажей повторялись, не были исправлены упущения при создании кораблей и подготовке личного состава на берегу. Мертвые ничему не научили живых...
Общие причины аварийности отечественных подводных лодок, которые неоднократно подтверждались статистикой, на мой взгляд, следующие:
– На стадии создания и разработки кораблей аварийность повышалась из-за технологического отставания СССР в таких областях. как информатика, обеспечение скрытности плавания, средства обнаружения. Играли свою роль и конструктивные недоработки, связанные, в первую очередь, с множественностью разработчиков различных систем. Сказывалось также низкое качество металла и некоторых других материалов.
– На стадии строительства аварии были вызваны несоблюдением технологической дисциплины и требовании конструкторов, срывом сроков поставок отдельных узлов и систем, а также нарушением очередности проведения операций. Само собой, это снижало качество работ, поскольку плановые показатели завышались, а сами работы проводились неритмично,
На стадии испытаний и приемки тоже нередко нарушался график из-за несвоевременных поставок и монтажа. Под нажимом заинтересованных организаций корабли принимались с заведомо неисправными системами, причем недостатки предполагалось устранять в процессе эксплуатации.
– Наконец, на стадии эксплуатации росту аварийности способствовали запущенная система базирования (береговое обеспечение, судоремонт, снабжение), нарушение инструкций по эксплуатации, несвоевременные осмотры и профилактическое обслуживание техники, а также халатность. Сказывались и недостаточная выучка личного состава (особенно в вопросах борьбы за живучесть), слабая оснащенность спасательных служб, и отсутствие должной координации поисковых работ, в том числе на международном уровне. Формальный характер выводов по результатам аварий и отсутствие информации у всех заинтересованных лиц и организаций замыкает этот печальный перечень причин, способствовавших трагедиям.
Запрограммированные трагедии
Существующий порядок разработки, выпуска и поставки военной техники и вооружения регламентирован не законом, как это естественно было бы предположить. Он регламентирован постановлениями несуществующих ныне организаций – ЦК КПСС и Совета министров СССР. а также актами военно-промышленного комплекса (ВПК) и совместными решениями Минсудпрома и ВМФ. Административные органы ВПК, возглавляемые заместителем премьер-министра СССР, сами издавали нормативные акты, сами их исполняли и контролировали. Эта порочная практика сращивания функций отодвигала на вторые роли главное заинтересованное лицо – заказчика. Вздумай заказчик проявить характер при приемке заведомо неисправной техники, его легко могли поставить на колени с помощью “совместных решений”.
Шлейф таких ведомственных решений, утвержденных вышестоящими инстанциями, десятилетиями тянулся за каждой вступившей в строй лодкой. Чтобы победно рапортовать к установленному сроку или праздничной дате, ряд работ и испытаний сокращали, упрощали, переносили на потом... Более того, требования нормативных актов и договорных спецификаций впоследствии постоянно корректировались – разумеется, в сторону упрощения и снижения характеристик. Проследим эту тенденцию на примере спасательной камеры, которая в нужный момент не захотела отделяться от тонущего “Комсомольца”.
По первоначальным спецификациям, камеру должны были испытывать с аварийным креном корабля и на предельной глубине. Однако совместным решением промышленности и ВМФ испытания провели в более простых условиях – на малой глубине и при спокойном плавании. Правда, даже в этой ситуации выявились конструктивные недоработки: камера отделялась раньше времени. Поэтому камеру закрепили, да так, что в нужный момент оторвать ее от корабля оказалось невозможно. К сожалению, лодки до сих пор принимаются в эксплуатацию без осуществления полной программы испытаний спасательной камеры.
Ресурс оборудования, установленного на атомных субмаринах. настолько низкий, а эксплуатация его столь интенсивна, что судоремонтные предприятия не в состоянии постоянно поддерживать боеготовность кораблей. Но так как значительная часть их должна в любой момент быть в боевой готовности, обнаруженные недостатки скрывались, а отдельные ремонтные работы производились только на бумаге. Сроки же эксплуатации или ресурс оборудования продлевали просто – волевым решением. Тем более, что стоимость заводского ремонта непомерно велика. Ремонт одного подводного стратегического ракетоносца, например, в ценах 1993 года обходился в 20 миллиардов рублей.
Важен и такой факт: в США фирма, построившая корабль, обеспечивает гарантийный и все прочие виды ремонта в течение всего срока эксплуатации. В СССР же кому только не поручался ремонт атомоходов!..
Серийное производство недоработок
Порочная система, при которой аварийность стала правилом, сформировалась в момент зарождения атомного подводного флота. “Ее корни уходят в пятидесятые годы, – пишет Николай Черкашин, – когда на стапелях страны закладывалась великая подводная армада, Темп, ритм, сроки – все определял азарт погони за новой владычицей морей – Америкой, провозгласившей: “Кто владеет трезубцем Нептуна, тот владеет миром”. В штабах, в КБ, в заводских бытовках ревниво итожили – кто и на сколько недель раньше спустил на воду очередной атомный левиафан, насколько быстрее провел швартовые, ходовые, глубоководные испытания, у кого и насколько больше ракетных шахт, разделяющихся боеголовок... Дальше, глубже, быстрее! И скорее, скорее, скорее...”
Однако воюют, как известно, не числом. Советские атомоходы первого и второго поколений создавались на скорую руку и лишь для того, чтобы хоть как-то ответить на вызов идеологического противника. К тому же, если американцы запустили в серийное производство лишь три типа атомных ракетоносцев, то мы расстарались аж на девять.
Ясно, что разумнее было строить многоцелевые лодки двух-трех типов, а не специализированные. Последние сложнее снабжать запчастями. Возникает и масса трудностей с подготовкой, взаимозаменяемостью экипажей. По циничному замечанию одного британского эксперта, большинство советских лодок устарели и представляют угрозу не для НАТО, а для собственных экипажей. В 80 процентах случаев аварии были связаны с электрооборудованием. На 24 атомных лодках имели место 24 взрыва, причиной которых явилось попадание в систему воздуха высокого давления масла – в результате неправильной эксплуатации компрессоров. Известны два случая разрушения главных турбин (“К-74” Северного флота и “К-462” Тихоокеанского флота), а также более десяти случаев засоления питательной воды из-за негерметичности главных конденсаторов и других теплообменных аппаратов. Частые течи парогенераторов, особенно в первое десятилетие эксплуатации лодок, связаны с так называемой межкристаллитной коррозией применяемого в то время материала. Нередко происходили и течи крышек реакторов.
Минимум в трех случаях типовые отказы свидетельствовали: необходима массовая замена оборудования на соответствующих лодках. Так, из-за растрескивания стали, использовавшейся для строительства легких корпусов, на целой серии подводных лодок корпуса пришлось полностью заменить. Для этого, помимо металла, потребовались дополнительные доковые площади, заводские мощности и т.п. Замена обошлась не в одну сотню миллионов рублей и длилась десять лет. Впрочем, проблема металла и его качества остается актуальной и по сей день. Отечественную сталь для легкого корпуса, по определению главного инженера одного из судостроительных заводов, нельзя варить, гнуть и опускать в соленую воду.
Через несколько лет после вступления в состав ВМФ второго поколения атомных подводных лодок начались серьезные нарушения прочных корпусов типа “Чарли” и “Виктор” (по западной терминологии). На боевой службе в подводном положении возникали трещины в вварышах, предназначенных для прокладывания коммуникаций. Чем это грозило? Во-первых, пожаром, если будет залито электрооборудование. А во-вторых, затоплением. Однако командиры неохотно докладывали с моря о течах, так как это было чревато срывом боевой службы и соответствующими “оргвыводами”. Командиры обычно ограничивались тем, что просили рекомендаций у специалистов береговых служб и тем самым как бы снимали с себя ответственность. Первоначально наука и промышленность пытались объяснить трещины “единичным нарушением технологического маршрута плиты при ее обработке на заводе”. Когда же при обследовании прочного корпуса лишь одной из лодок были обнаружены сотни трещин, стало понятно: нужно произвести массовую замену плит и вварышей корпусных конструкций.
Снова были задействованы дополнительные средства, специалисты, доки. Снова экономика страны напряглась, искупая в очередной раз ошибки так и оставшихся неназванными виновных лиц и организаций. Да и невозможно этих “злодеев” отыскать, поскольку корни зла заложены в самой системе.
Еще одна операция по массовой замене оборудования касалась уже не корпусов лодок, а реакторов. В начале 70-х годов, после пятилетней эксплуатации лодок второго поколения (“Чарли”. “Янки”, “Виктор”) при выгорании ядерного горючего примерно на 30 процентов стали интенсивно выходить из строя активные зоны реакторов. После чего следовало повышение активности первого контура.
Происходило это из-за растрескивания тепловыделяющих элементов, В очередной раз были созданы комиссии по расследованию причин, отправившиеся искать “стрелочников” в КБ, на заводах-изготовителях и флотах. Как обычно, конкретных виновников не нашли, поэтому решили увеличить прочность стенок тепловыделяющих элементов и уменьшить энергозапас реакторов. По моему твердому убеждению, аварии эти происходили из-за того, что активные зоны реакторов второго поколения атомных лодок изготавливались так же, как для первого. Между тем реакторы первого поколения имели ограничение по мощности до 80 процентов, а их общий энергоэапас был в три раза (!) меньше.
В середине 70-х годов возникла необходимость в ремонте кораблей второго поколения. Министерство судостроительной промышленности потребовало 62 миллиона рублей за ремонт одной лодки типа “Янки-1”, что превышало стоимость нового серийного корабля этого типа. Оговорило министерство и срок ремонта – несколько лет... Промышленность предлагала из 2100 наименований оборудования, смонтированного на корабле, оставить лишь несколько единиц, а все остальное – заменить. Но если бы мы пошли по этому пути, стране пришлось бы раскошелиться не только на ремонт субмарин, но и строительство новых индустриальных гигантов типа “Электросилы” или “Уралмаша”.
Срочно создали межведомственную комиссию, председателем которой стал автор этих строк. Более 800 предприятий и КБ выступили единым фронтом против Северного флота, пытаясь доказать обоснованность предлагаемого решения и необходимых для его реализации затрат. После многомесячного противоборства стоимость намечаемых работ сократилась в три раза, а их продолжительность – вдвое.
Я упомянул этот случай, чтобы показать, как часто причиной аварийности является противоположность интересов тех организаций и ведомств, которые связаны с созданием и эксплуатацией подводных лодок. Бюрократическая проблема зачастую порождает половинчатые решения, а найденный компромисс приводит к авариям и гибели людей.
Ряд технических сложностей в эксплуатации вызван тем, что возможное использование подводных лодок не было полностью продумано при их создании. Так, советские атомоходы прекрасно чувствуют себя в полярных водах. Когда же в период конфликта между Ираном и Ираком направили несколько многоцелевых атомных подводных лодок для патрулирования в Индийском океане и Персидском заливе, возникли затруднения при кондиционировании воздуха на борту. На одной лодке во время похода вышла из строя рефрижераторная установка. Температура в отсеках поднялась настолько, что вахту можно было нести лишь в течение сорока минут вместо положенных четырех часов. Физически менее сильные подводники получили тепловой удар. Поэтому при отправке нового отряда лодок нам пришлось всеми правдами и неправдами доставать малогабаритные японские кондиционеры “Хитачи”, чтобы установить их на постах, где температура особенно высока.
Многие возможные решения проблем подводного флота мы уже обсудили. Однако необходимы и глобальные меры, без принятия которых любые усилия по предотвращению аварийности обречены на провал.
В первую очередь, требуется реформа органов управления военно-промышленным комплексом – разделить законодательные, исполнительные и контрольные функции ВПК. Разработка, производство и поставка военной техники должны быть регламентированы законами, а не волевыми решениями.
Другим, на мой взгляд, первоочередным мероприятием следует считать переход на профессиональную армию и флот. Одним из факторов в обеспечении безаварийности на атомных субмаринах является система подготовки экипажей. И в этом смысле у нас есть чему поучиться у американцев.
В первые годы вступления в строй в ВМС США атомных подводных лодок командиры, как правило, назначались из числа опытных офицеров-подводников, имевших боевой стаж службы на дизель-электрических лодках. Предпочтение отдавалось участникам второй мировой войны.
Еще до вступления в должность офицеры проходили переподготовку. Они изучили атомную энергоустановку на подземном прототипе реактора в штате Айдахо (г. Арко). Срок обучения в то время составлял шесть месяцев. Будущим командирам читали курсы по атомной физике, электро– и электронному оборудованию подводных лодок, корабельным системам и оборудованию, вооружению и оружию. Преподавателями были представители фирм-строителей и поставщиков оборудования. Все офицеры ВМС США, будущие атомщики, проходили также шестимесячную подготовку на офицерских курсах в Нью-Лондоне или Мэр-Айленде, причем при поступлении требовалось знание математики и физики в объеме первых двух курсов университета.
Для поступления в кадровое училище ВМС США в Ньюпорте или Аннаполисе нужно было представить рекомендации от президента, вице-президента, министра обороны или министра ВМС. Программа обучения здесь была рассчитана на четыре года.
Офицерский корпус ВМС США в середине 80-х годов насчитывал более 90 тысяч человек, из них 48 процентов составляли выпускники системы вневойсковой подготовки. Служить на флоте было большой честью для каждого американца, ведь пять президентов страны были флотскими офицерами – Д.Кеннеди, Л.Джонсон, Р.Никсон, Д.Форд и Д.Картер. Разрешено служить на флоте на офицерских должностях и женщинам. Девяти из них, кстати, присвоены высшие офицерские звания, в том числе двум – адмиральские.
Командиры кораблей, а их на флоте США около 900 человек – продукт тщательной, многолетней селекции. Элита флота – группа командиров ракетных подводных крейсеров стратегического назначения. Таковых всего около 300 человек, что не превышает 0,1 процента общего числа офицеров. Им доверена половина носителей стратегического ракетно-ядерного потенциала Америки.
Путь на командирский мостик обязательно предполагает прохождение профессиональной переподготовки, чередование службы на берегу и кораблях, причем служба в море раза в три продолжительнее, чем на берегу.
Вот пример кандидата в командиры подводного ракетоносца: не менее 10-15 выходов на боевое патрулирование в самых разных должностях (старпома, интенданта, вахтенного инженер-механика, связиста, штурмана, ракетчика), полтора-два года службы на атомных подводных лодках. Общий стаж службы в офицерских должностях к этому времени составляет 13 лет.
Высшее и среднее звено командования флотом США имеет опыт военных операций во Вьетнаме, на Кубе, в Ливане и Гренаде, службы в 6-м американском флоте на Средиземном море и 7-м на Дальнем Востоке и Индийском океане. Так, командующий 6-м флотом вице-адмирал Мартин и командир авианосца “Нимиц” К.Игл, в прошлом морские летчики, были сбиты над Вьетнамом и несколько лет находились в плену.
Главной фигурой на атомной подводной лодке считается инженер ядерной силовой установки. Большинство командиров атомных подводных лодок США вышли из инженер-механиков, занимали должность главного инженера-ядерщика. На советских атомных лодках коллегой инженера-ядерщика является командир БЧ-5. Но ему дорога к командирскому мостику закрыта, а в силу каких аргументов – никому неизвестно. (За мою 33-летнюю службу на флоте известны две попытки инженер-механиков войти в командирское звено – В.Кулик и В.Машин, обе закончились неудачей.) Безусловно, офицерский корпус ВМС США состоит из профессионалов, а их преданность делу подкрепляется отличной материальной основой. В печати США широко рекламируются корабли, не имеющие многие годы аварий и чрезвычайных происшествий, поднимаются на щит их командиры и офицеры, обладающие высокой личной подготовкой. В 1993 году вице-президент США А.Гор совершил поход в Арктику на атомной подводной лодке “Парго”. Лодка подо льдами перешла к Северному полюсу и там всплыла. Что и говорить – отличная рекламная поддержка правительства своему флоту!
Экипажи первых атомных подводных лодок США комплектовались за три-четыре года до вступления кораблей в состав ВМС. Все это время они напряженно учились и отрабатывали навыки по специальностям. Скомплектованный экипаж из старшин и матросов на курсах отбирается за 48 недель.
Однако основная подготовка матросов и старшин начинается все же с приходом на корабль. Руководят ею старшие по званию и более опытные моряки того же профиля. Курс длится 10-12 месяцев, а занятия – по 12 часов в сутки. Изучаются системы и механизмы корабля с последующей сдачей зачетов. Отрабатывается взаимозаменяемость личного состава на боевых постах: каждый член экипажа должен профессионально действовать на том боевом посту, где его застал сигнал аварийной или боевой тревоги. В этом – залог живучести лодки.
Общая продолжительность подготовки специалиста подводника в США составляет 3-3,5 года. Операторы реакторной установки, ракетчики, электронщики обучаются в течение двух лет на курсах при университете. После освоения определенного объема теории выпускников направляют на годичную стажировку на флот, затем снова возвращают на курсы, где они заканчивают теоретическое обучение и получают диплом техника.
Непосредственно на флоте также имеются краткосрочные курсы для переподготовки экипажа по новой технике. Занятия по теории и практике баллистических ракет организовала фирма “Локхид”. Кроме того, для обеспечения боевой подготовки экипажей атомных лодок в США создано два учебных центра, в Нью-Лондоне и Чарлстоне. Они профилируются по следующим направлениям боевой подготовки: ракетному, штурманскому, вспомогательным механизмам, водолазному делу, сварке, станкам и приборам.
После отработки слаженности экипажа в плавании и выполнения задач боевой подготовки личному составу ракетных атомных подводных лодок предстоит:
– 60-суточное патрулирование в районе стартовых позиций и возвращение в базу;
– передача подводной лодки второму экипажу и проведение межпоходового ремонта за 12-15 дней;
– 30 суток отпуска для всего экипажа с выездом на родину, поскольку ракетоносцы США базируются в Англии (Холи-Лох). Испании (Рота) и на Тихом океане;
– 30 суток усиленных тренировок в учебных центрах на тренажерах и других установках;
– возвращение в базу, прием материальной части подводной лодки от пришедшего с моря экипажа, межпоходовый ремонт и выход на боевое патрулирование.
При 90-суточном патрулировании общая продолжительность отпуска и отработки в учебном центре также равна 90 суткам. Смена экипажей и тренажеры позволяют содержать в боевом составе большое число кораблей, беречь ресурс их оборудования и проводить обучение, не отвлекая корабли от выполнения основных задач.
Еще в 60-х годах ВМС США построили комплексные тренажеры для отработки навыков подводников. Вычислительный центр тренажера помогает имитировать все виды деятельности атомной лодки под водой и на водной поверхности. Пульты управления на тренажере точно копируют размеры и расположение ключей, кнопок и приборов на пультах подводной лодки. Преподаватель” ведущий подготовку, находится за таким же пультом, как стажер, и следит за правильностью его действий. Он может немедленно прервать неправильные действия или дать дополнительную вводную, имитируя аварию или изменение режима. На тренажере имеется купол звездного неба и перископы, облегчающие подготовку штурманов и ракетчиков. Комплекс имитирует также обстановку современного боя с параметрами движения целей и воспроизводит их на индикаторах в соответствии с видимыми размерами и естественной окраской.
Для обучения ракетчиков в период боевого патрулирования на ракетоносцах установлены тренажеры, имитирующие ситуации, возникающие при пуске ракет, в том числе и неисправности, К настоящему времени десятки тысяч человек прошли указанную систему подготовки.
Экипажи первых атомных подводных лодок СССР готовились на подземных стендах (аналогах атомных подводных лодок), построенных на первой атомной электростанции в Обнинске. Экипажи “К-3” и “К-5” формировались в течение 1954-1956 годов. Лекции им читали представители Института атомной энергии им. И.В.Курчатова, Минсредмаша и других ведомств. Личному составу этих экипажей платили 50-процентную надбавку к месячному денежному содержанию. Хотя экипажи “К-3” и “К-5” числились как самостоятельные войсковые части, офицерский состав БЧ-5 совместно нес вахту по своей специальности на первой атомной подводной лодке. Разделение произошло после спуска на воду лодки “К-5” в 1958 году.
Командиры первых атомных подбирались с дизель-электрических подводных лодок, как, впрочем, и старшие помощники, и командиры БЧ-5. Предпочтение отдавалось специалистам, имевшим большой опыт подводной службы и участникам Великой Отечественной войны. Так, на первую лодку были назначены: командиром – капитан 2 ранга Л.Г.Осипенко, старпомом – капитан-лейтенант Л.М.Жильцов, командиром БЧ-5 – капитан-лейтенант-инженер Б.П.Акулов. На вторую атомную субмарину командиром назначили капитана 3 ранга В.С.Салова, старпомом – капитан-лейтенанта В.Д.Зерцалова, командиром БЧ-5 – капитан-лейтенант-инженера И.А.Агаджаняна.
Ныне в России имеется одна военно-морская академия, три военно-морских училища и одно Нахимовское училище, все они расположены в Санкт-Петербурге. Альмаматер флотских офицеров – бывший Морской кадетский корпус, ныне Высшее военно-морское училище им. Фрунзе и Высшее военно-морское инженерное училище им. Дзержинского. Последнее основано в 1798 году императором Павлом I, как специальное училище корабельной архитектуры для Санкт-петербургского и Черноморского адмиралтейств.
При назначении на атомную подводную лодку офицеры, как правило, в составе экипажа проходят подготовку в учебных центрах, а после выполнения боевой службы и отпуска – переподготовку на тренажерах.
Среднее звено специалистов готовится в школах старшин-техников Срок обучения – два года. После ее окончания вручается диплом по соответствующей специальности и присваивается звание мичмана. В свою очередь, выпускники обязаны заключить с военно-морским флотом контракт на службу на атомной подводной лодке на пять и более лет.
Рядовой состав проходит обучение и подготовку после призыва на флот в течение года в учебных отрядах подводного плавания (подплавах), затем почти год обучается под руководством старшин и офицеров на лодке. Сдают зачеты на допуск к самостоятельному обслуживанию своего боевого поста. В этот же период изучаются необходимые системы и механизмы, прививаются навыки по обеспечению живучести отсека и подводной лодки. Обязательно отрабатывается взаимозаменяемость на боевых постах.
Офицерский состав ВМФ при занятии определенной должности и наличии стажа может поступать учиться в Военно-морскую академию им. Н.Г. Кузнецова по своей специальности. Для будущих командиров существуют командирские классы.
У нас в ВМФ глубоко внедрился такой принцип, как ответственность командира за все ошибки подчиненных. Даже в том случае, если личная вина подчиненного не вызывает сомнения. Организация службы на субмаринах такова, что офицеры работают постоянно в условиях физических и нервных перегрузок, при ненормированном рабочем дне и нерегулярном отдыхе. Это в немалой степени сказывается на безопасности эксплуатации своего заведования.
Печально и другое – приоритет на занятие должности командира атомной подводной лодки имеют офицеры всех специальностей, кроме инженер-механиков. Я считаю, что эту традицию надо менять. В первую очередь, уклон должен быть инженерный. Командирские качества проявляются индивидуально, а прививаются в процессе прохождения служебной лестницы.