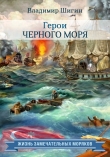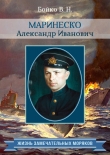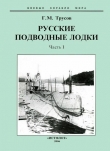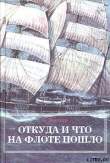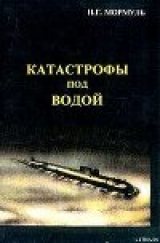
Текст книги "Катастрофы под водой"
Автор книги: Николай Мормуль
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 45 страниц)
«Холодная война» на море
С позиций силы
Соединенные Штаты Америки с давних пор стремились к экономическому мировому господству, а после окончания второй мировой войны – и к политическому. Единственной реальной силой, способной сдерживать эти устремления, долгие годы оставался Советский Союз. Конфликт двух сверхдержав, разумеется, в немалой степени подогревался также идеологическими расхождениями.
По существу, “холодная война” между союзниками антигитлеровской коалиции началась еще в период боевых действий против фашистской Германии. Об этой, подспудно протекающей, пока еще никем не объявленной войне свидетельствовало многое: и постоянно отодвигаемые нашими союзниками сроки открытия второго фронта, и усиленная борьба научных, конструкторских идей в сфере военной техники и вооружения. Особенно тех идей, которые позволяли использовать в милитаристских целях атом.
После разгрома Германии и Японии противостояние США и СССР стало более ощутимым. Во время Потсдамской конференции Гарри Трумэн торжественно сообщает Сталину об успешно проведенном американцами испытании сверхоружия XX века -атомной бомбы. Президент США полагает, что с этого момента союзники могут диктовать свои условия сталинской военной машине. Ему ведь известно, что Иосиф Сталин собирается оставить себе всю захваченную Восточную Европу и Балканы – никаких обещанных “процентов влияния”! Лишь единый и могучий лагерь социализма, противостоящий Западу... Но теперь, когда Америка первая обзавелась атомной бомбой, на встрече в Потсдаме от СССР ожидают куда большей уступчивости.
Однако Сталин удивительно равнодушно отнесся к сообщению Трумэна. Дело в том, что “вождь всех времен и народов” обстоятельнейшим образом информирован об этой, ведущейся в Штатах разработке. За “бэби”, как любовно называли американцы свою атомную бомбу, Советский Союз давно уже вел довольно результативную слежку.
Руководство этой операцией было поручено Лаврентию Берия. Интересно, что в качестве шпионов СССР зачастую использовал не платных агентов, а идеологических соратников из последнего, распущенного в 1943 году Коминтерна. Известный писатель-историк Эдвард Радзинский в своей книге “Сталин” рассказывает о принципах, которых придерживалась советская “верхушка” в вопросах вербовки и шпионажа. О них, этих принципах, поведал писателю весьма авторитетный свидетель: Василий Ситников, генерал бериевской разведки:
“Как-то я встретил его на улице, – пишет Радзинский. – Он нес старый журнал “Иностранная литература”. Здесь, сказал Ситников, напечатана документальная пьеса “Дело Опенгеймера”. Мы разговорились...”
Нет, вовсе не личностью Опенгеймера заинтересовала старого генерала пьеса. Привлек прежде всего образ бывшего “шефа” – Берии. Ситников стал рассуждать, насколько убедительным получился сценический Лаврентий Павлович и незаметно для себя втянулся в воспоминания. Они оказались весьма откровенными... Например, Берия часто повторял слова Сталина: “Нет такого буржуазного деятеля, которого нельзя подкупить. Для большинства это – деньги. Если деятель остался неподкупен, значит вы просто пожадничали. Но и там, где не пройдут деньги, пройдет женщина. А где не пройдет женщина, там пройдет Маркс”.
– Лучшие люди на нас работали из-за идей!.. Если бы написать все, что я об этом знаю! – говорил генерал. – Думаю, напишу...
Однако написать свои мемуары Ситникову так и не довелось: он умер вскоре после разговора с Радзинским. Наверное, все тайны, канувшие в Лету вместе с современниками сталинской эпохи, мы сможем теперь узнать лишь тогда, когда с “Особых папок товарища Берии” будет снят гриф совершенной секретности. В этих папках, хранящихся ныне в Центральном архиве Октябрьской революции, и собраны материалы о создании советского атомного “аргумента”.
– Атомная бомба должна быть сделана в кратчайший срок! Во что бы то ни стало. – именно так сформулировал Сталин задачу советских ученых после своего возвращения из Потсдама. Этот наказ вождя Берия и передал физикам, пригрозив суровыми репрессиями в случае неудачи.
Вероятность репрессий оказалась бы несравненно выше, если бы наши “идейные шпионы” еще в 1943 году не начали передавать сведения об американских разработках. Но поскольку данные о “бэби” в Советском Союзе на протяжении почти четырех лет получали исправно, реальная возможность создать ядерное оружие у нас, безусловно, имелась. Руководитель проекта Игорь Курчатов, обладая обширнейшей информацией о технологии и конструкции бомбы, мог одновременно вести разработки сразу двух атомных первенцев: и “позаимствованного” у союзника, и отечественного.
Учитывая нетерпение вождя, Курчатов предпочел не искушать судьбу и пошел по американскому пути. 29 августа 1949 года в СССР успешно прошло испытание атомной бомбы. После взрыва Сталин щедро наградил ученых и сказал: “Если бы мы опоздали на полтора года, то, наверное, попробовали это оружие на себе”.
Безусловно, появление ядерного вооружения и в арсеналах Советского Союза, как нельзя лучше соответствовало стратегическим сталинским планам. Вячеслав Молотов, в тот период второе лицо в государстве, позже вспоминал: “После войны на дачу Сталина привезли карту СССР в новых границах. Он приколол ее кнопками на стену: – Посмотрим, что у нас получилось... На Севере у нас все в порядке: Финляндия очень перед нами провинилась и мы отодвинули ее границу от Ленинграда. Прибалтика, эта исконно русская земля, снова наша. Белорусы у нас теперь все, и украинцы, и молдаване тоже вместе... Итак, на Западе у нас нормально. Сталин перешел к восточным границам: – А что у нас здесь?... Курильские острова наши, Сахалин – полностью... Посмотрите, как хорошо – и Порт-Артур наш! – он провел трубкой по карте – Китай, Монголия – все в порядке...”
Разбухшие границы империи окружали безропотные страны-сателлиты. Начиналась эпоха “лагеря социализма”. Этот лагерь обладал гигантскими человеческими и материальными ресурсами. Но, чтобы безраздельно править им, требовались тотальный страх внутри и военная мощь извне. Сталин прекрасно понимал, что жестко “закрутить гайки” и покончить с играми в демократию очень помогла бы решительная ссора с Западом. Образ нового врага, дыхание новой опасности стали бы прекрасным поводом для решительных действий.
На помощь пришел... сам Запад. А именно, Черчилль. Выступая в Фултоне в 1946 году, он произносит свою знаменательную речь, в которой призывает Запад “стукнуть кулаком”, поскольку Сталин не понимает слабых. Бывшего премьера Великобритании тревожит, что Советы контролируют не только всю Восточную, но и Центральную Европу.
Как известно, в это время Черчилль уже не у дел, следовательно, его речь носит как бы частный характер. Да и официальные лица, президент США Трумэн и премьер-министр Великобритании Эттли, немедленно отказались от заявлений своего предшественника. Однако слово – не воробей. И в средства массовой информации полились потоки информации “об угрозе империализма” и “поджигателях войны”...
У Сталина развязаны руки. С 1946 по 1949 годы формируется могучий “лагерь социализма” – Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, Румыния, Чехословакия, Югославия, Албания. Правда, в октябре 1948 года из этой компании изгоняют югославов во главе с Иосифом Броз Тито, зато в октябре следующего, 1949-го, войска Мао Цзе Дуна занимают Пекин и на карте мира появляется необъятная восточная держава коммунистов. Вскоре, при помощи китайских войск, появляется и коммунистическая Северная Корея.
Таким образом, послевоенное формирование закончено. В противовес друг другу идеологические противники сколачивают военные блоки. “Холодная война” объявлена и она начинает раскручивать маховик невиданной гонки вооружений...
Карибский урок
Проведя в 1949 году успешные испытания атомной бомбы, сделанной по американскому образцу, мы не только догнали Америку. Менее двух лет понадобилось советским ученым, чтобы форсированными темпами завершить работы и над своей собственной “выкройкой”. Причем отечественная бомба, взорванная в 1951 году, получилась вдвое мощнее по боевому заряду, а по весо-габаритным показателям – наполовину меньше американской. В августе 1953 года мы первыми испытали водородную бомбу, и это водородное “детище” СССР было в 20 раз мощнее того атомного “бэби”, что взорвали над Хиросимой американцы...
С начала пятидесятых годов Советский Союз осуществляет и ряд других военных программ, в том числе и в области морских вооружений. Невиданными темпами ведется крупносерийное строительство мощных крейсеров и эсминцев, дизельных торпедных подлодок. Одних только субмарин было заложено тогда более двухсот единиц! В 1958 году у нас появилась первая атомная торпедная лодка, а годом позже – и ракетная.
Наши весьма дорогостоящие заботы по укреплению оборонной мощи были оправданы и объяснимы: международные отношения тех лет развивались крайне противоречиво. Внешнеполитический курс Соединенных Штатов базировался на их явном военном превосходстве. Америка осознанно и откровенно балансировала на грани развязывания войны. Национальная же стратегия СССР предполагала политическое или военное присутствие во всех “горячих точках” мира. В исключительных случаях, если дружественному государству угрожала “агрессия поборников империализма”, допускалось и активное вмешательство в конфликт. Рано или поздно, это не могло не привести к открытому столкновению политических интересов обеих сверхдержав. Что и случилось в 1962 году, когда США предприняли попытку силой подавить революцию на Кубе.
Наша страна не могла остаться безучастной к судьбе молодой социалистической “сестры”. Уверенные в собственной военной мощи, на угрозу американцев мы ответили также угрозой: на Кубу были доставлены советские ракеты и самолеты, способные нести ядерное оружие.
США в ответ организовали блокаду Кубы, сосредоточив у ее берегов до 180 кораблей с десантом в 100 тысяч человек. По всему миру – в воздухе, на воде, под водой и на суше была объявлена повышенная боевая готовность. Американские войска в Европе, шестой и седьмой флоты, авианосные ударные соединения вошли в Норвежское, Японское и Охотское моря. На боевое дежурство в небо было поднято двадцать процентов стратегической авиации США.
Советские сухопутные силы и ВМФ также были приведены в повышенную боеготовность. В районы конфликта руководство страны направило четыре дизельные подводные лодки 4-ой эскадры Северного Флота “Б-4”, “Б-36”, “Б-59” и “Б-130”. Возглавил этот жестокий поход к берегам Кубы сорокалетний капитан 1 ранга Виталий Агафонов. Надо было преодолеть блокаду американского флота и базировать лодки западнее Гаваны в порту Мариель.
Это было самое яростное противостояние за период всей холодной войны. Бедным “дизелюхам” пришлось пересечь несколько морей и Северную Атлантику с их противолодочными рубежами, штормовыми погодами, периодически всплывая для зарядки аккумуляторных батарей. Руководство страны считало, что в зону конфликта ушли атомные ракетные подводные лодки. Но в 1962 году у нас был один ракетный атомный крейсер, который потерпел аварию с ядерной энергоустановкой и находился в ремонте.
До Азорских островов мучили штормы, после, к Багамам, поднялась температура до 25-30°С. В прочном корпусе началось пекло, люди исходили потом, плавился пайковый шоколад и сыр. Но главное препятствие впереди – Саргассово море – противолодочная система “СОСУС” – наблюдение и оповещение под водой. “Нас постоянно слышали под водой и обнаруживали при всплытии” – рассказывали участники похода.
Первой пострадала “Б-130” – командир Н.Шумков. Из-за поломки дизеля с разряженной до воды аккумуляторной батареей ПЛ всплыла. На нее набросились со всех сторон американские корабли. Спасло срочное погружение, но они начали сбрасывать гранаты, повредили носовые рули, появилась течь забортной воды. Глубина 5500 метров, до поверхности 160. Дышать нечем. Надо всплывать. Всплыли в позиционное положение, вертолеты США уже висят над рубкой, вокруг чужие корабли. В Москву дана неслыханная по дерзости шифровка: “Вынужден всплыть. Окружен четырьмя эсминцами США. Имею неисправные дизели и полностью разряженную батарею. Пытаюсь отремонтироваться. Жду указаний. Командир Б-1ЗО”. Этот текст передавался 17 раз, т.к. не проходил из-за организованных янками помех. Они стояли вокруг лодки и одетые в белые панамки и шорты с хохотом смотрели на наших полуголых чумазых, но героических подводников, хватающих свежий воздух. Исправили один дизель и двинулись на NORD-OST навстречу спасателю “СС-20”.
Через несколько суток, разрядив АБ, на радость американцам всплыла “Б-36” (командир – капитан 2 ранга А.Дубивко). Преследовали, тренировались в наведении орудий, опасно пересекали курс. Самолеты имитировали атаки. Дубивко зарядил батарею, срочно погрузился и оторвался от преследователей.
Следующей всплыла “Б-59” (командир – капитан 2 ранга Савицкий). Самолеты пикировали, разряжая свои пушки по носу и корме. Только “Б-4” не была обнаружена.
Карибский кризис вплотную поставил мир перед угрозой термоядерной войны. Лишь в самый последний момент Хрущев и Кеннеди успели договориться. Мы вывели с Кубы свои ракеты и самолеты, а Соединенные Штаты сняли блокаду и обязались не проводить интервенцию.
Этот горький урок не прошел бесследно. Он вынудил СССР и США быть в дальнейшем более осмотрительными. С 1963 года, в частности, начала действовать “горячая линия” правительственной связи между президентами обеих сверхдержав. Но кроме этого, общего для всех урока, наша страна получила и собственный урок, как бы “для внутреннего пользования”. Конфликт у берегов Кубы наглядно продемонстрировал явное отставание СССР от Соединенных Штатов в области морских вооружений. Военно-морские силы противника обладали (да и поныне обладают!) абсолютным преимуществом по численности авианосцев и амфибийных сил. Они превосходили нас также по количеству атомных подводных лодок, и, прежде всего, ракетных (ПЛАРБ).
Боевое патрулирование атомная ракетная подводная лодка США впервые совершила еще в 1960 году! Помимо этого, были у противника и другие плюсы. Авианосцы США и Великобритании использовались в Норвежском, Средиземном, Японском, Охотском морях таким образом, что могли нанести ядерные удары по территориям стран Варшавского договора. Бесспорно, на состоянии советского флота тяжело сказались волюнтаристские решения руководства страны. Так, при Н.С.Хрущеве значительно сократилось строительство крупных надводных кораблей. Нередко они просто уничтожались на стапелях, несмотря на высокую степень готовности.
После тревожных событий 1962 года руководство Советского Союза было вынуждено пересмотреть роль ВМФ в политике государства и возложить на Военно-морской флот целый ряд новых ответственных задач. Вот как их характеризует адмирал флота Чернавин, Главнокомандующий ВМФ СССР с 1985 по 1992 годы, в своей книге “Атомный подводный”: “Начиная с 60-х годов, руководство страной возложило на наш флот готовность к решению следующих задач:
– нанесение ракетно-ядерных ударов по береговым объектам противника;
– срыв или максимальное ослабление первого ракетно-ядерного удара с океано-морских направлений;
– уничтожение ударных авианосных соединений и групп;
– нарушение морских коммуникаций противника;
– борьба с противолодочными силами и средствами;
– защита своего судоходства;
– оборона баз и прибрежных районов базирования сил;
– защита государственных интересов страны на морских и океанских театрах, оказание помощи дружественным странам
Чтобы ВМФ СССР мог решать эти многочисленные задачи, требовалось не только сформулировать их, но и основательно пересмотреть сложившуюся практику финансирования флота, обеспечив реальные условия для его развития.
Борьба за паритет
Шестидесятые годы проходят под знаком интенсивной борьбы Советского Союза за паритет в области стратегических вооружений. Разумеется, после Карибского кризиса конфронтация двух стран приобретает более сдержанный характер. Но она – продолжается, и международная общественность воспринимает ее, как данность. Правда, некоторого “потепления” удается добиться благодаря договорам, подписанным в 1969-1972 годах между СССР и США. Но это “потепление” длится недолго – до 1979 года, пока мы не ввели свои войска в Афганистан.
В шестидесятые годы были построены две серии ракетных Крейсеров, серия больших противолодочных кораблей, два вертолетоносца. Однако приоритет оставался за подводными лодками, как атомными, так и дизельными. Лишь 4 ноября 1967 года, к 50-летию Октября, флот получил первый стратегический ракетный подводный крейсер (РПКСН) с баллистическими ракетами. В качестве флагманского инженер-механика соединения и члена правительственной комиссии мне довелось принимать участие в испытаниях и приемке головного корабля “К-137”, а позже, в 1967-1970 годах, и серийных. И я прекрасно помню то ощущение гордости, которые мы тогда испытывали. Ведь это была самая большая серия кораблей, когда-либо и где-либо построенная!..
Строительство РПКСН различных модификаций продолжалось вплоть до середины 80-х годов. В тот же период у нас создается и мощный подводный флот с крылатыми ракетами, включающий в себя как атомные, так и дизельные подводные лодки. К слову, замечу: американцы считают, что они допустили ошибку, недооценив крылатые ракеты. В последующем США вынуждены были нас догонять. А сегодня все подводные лодки флотов мира имеют на вооружении крылатые ракеты.
С 1969 года наши кораблестроительные программы и программы использования ВМФ приобретают научный характер, к их разработке широко привлекаются Академия наук СССР и научно-исследовательские институты промышленности и Министерства обороны.
В период 70-х – 80-х годов в Советском Союзе продолжается строительство крупных серий атомных и дизельных подводных лодок различного назначения. Непрерывно совершенствуется их оружие и тактико-технические данные. В начале 80-х годов наш военно-морской флот получает головные атомные лодки третьего поколения с твердотопливными баллистическими ракетами (“Тайфун”) и многоцелевыми крылатыми ракетами. Параллельно идет строительство крупных надводных кораблей. В 1975 году вступает в строй головной тяжелый авианесущий крейсер “Киев”, пять лет спустя – головной атомный ракетный крейсер “Киров”. В 1990 году сошел состапелей тяжелый авианесущий крейсер нового поколения “Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов”.
К этому времени судостроительная промышленность нашей страны обладает мощнейшей современной базой, необходимой для создания новых кораблей и поддержания в боевом состоянии действующих. Достаточно сказать, что в боевой состав Военно-морского флота СССР ежегодно вливалось почти полсотни новых кораблей. Только на специализированных кораблестроительных, заводах оборонную мощь страны ковали более миллиона человек! Всего же в отрасли морских вооружений трудилось около десяти миллионов. Министерство судостроительной промышленности имело свою разветвленную структуру, в которую входили собственные НИИ, КБ, машиностроительные и корабельные заводы. Помимо этого, на него работали и другие предприятия и научные организации. Так, в создании атомных подводных лодок было задействовано 1200 предприятий страны, в создании авианосцев-более 1500.
К началу девяностых объем производства в советском военном кораблестроении составлял уже около трети общемирового, а суммарное водоизмещение выдаваемой ежегодно “продукции”– 300 тысяч тонн! Атомные подлодки СССР бороздили водные просторы всей планеты, как по собственной квартире, разгуливали подо льдами Арктики. Дизельные подлодки целыми соединениями уходили в многомесячные походы в теплые моря. Мы принимали участие в совместных учениях стран Варшавского договора и наши ракетные крейсера в считанные минуты готовы были дать отпор любому агрессору.
Бесспорно, семидесятые-восьмидесятые годы были “звездными” для флота не только за весь период “построения социализма в СССР”. Никогда еще за свою трехвековую историю российский флот не достигал такого могущества в Океане.
Освоение Мирового океана
Осваиваться в различных районах Мирового океана Военно-морской флот СССР начал, по существу, в 1959 году. Именно тогда вышла в Северный Ледовитый океан первая наша атомная подлодка “К-3 ”, в составе экипажа которой довелось участвовать и мне. Под кромкой льда субмарина прошла тогда 300 миль. В сентябре 1960 года в Атлантическом океане появилась впервые на учении “Метеор” четвертая советская атомная лодка “К-14”. В июле 1962 года “К-3” достигла Северного полюса и дважды там всплывала. Год спустя “К-115” и “К-178” совершили переход с Северного флота на Камчатку через Северный полюс. В феврале-марте 1966 года две атомные лодки успешно перешли с Северного флота на Тихоокеанский, обогнув при этом Южную Америку и пробороздив Тихий океан. В том же, 1966 году, стратегические подводные лодки в СССР стали использовать на боевом патрулировании по плану! А уже в следующем, 1967-м, советские корабли постоянно несли боевую службу на Средиземном море и в Индийском океане. С 1968 года на Севере, а с 1970-го и на Тихом океане начали постоянно патрулировать наши ракетные стратегические подводные крейсеры.
Однако обилие глобальных задач и ограниченные возможности для их решения всегда составляли нашу национальную особенность. Эта особенность распространялась, естественно, и на отечественный Военно-морской флот.
Хронической слабостью нашего ВМФ являлась недостаточно развитая система базирования, а также специального и тылового обеспечения. Дело в том, что боеготовность подводных атомных сил определяется не только количеством кораблей. Зависит она и от других, куда менее очевидных факторов. Например, от того, насколько вместительны специальные береговые емкости для тепловыделяющих урановых элементов реакторов. Или какое количество радиоактивных отходов способны переработать специализированные предприятия страны.
Самой же “больной” проблемой советского подводного флота в период активного освоения Мирового океана было, конечно, отсутствие заморских баз. Это значительно ограничивало наши возможности, хотя потребность в регулярных выходах неуклонно возрастала.
К началу 70-х годов число обнаруженных нами стратегических подводных лодок противника доходило до 45 единиц в год, многоцелевых – до 87 единиц. Корабельные ударные группы (КУГ), производившие отслеживание за кораблями НАТО и США, находились непрерывно в море по полгода и более. Разумеется, при такой напряженности плавучие базы были не в состоянии обеспечить всех потребностей подводного флота.
Руководство страны предпринимало немало попыток договориться с зарубежными соседями о заходах в их порты советских кораблей. Дипломатические усилия давали иногда положительный результат, но, как правило, очень недолгий. Так, в этот период были заключены соглашения с Египтом и Сирией (1967 г.), Алжиром (1969 г.), Кубой (1970 г.), Гвинеей (1971 г.). В 1972 году мы стали заходить в порты Сомали, в 1977-м – Бенина, годом позже – в порты Сан-Томе и Принсипи. Создание базы ВМФ в Камрани (Вьетнам) обеспечило несение боевой службы нашими кораблями в Индийском океане. А ремонтная база на острове Дашлак, что в Красном море, выручала советские многоцелевые атомные субмарины во время ирано-иракского конфликта.
Но постоянное упорное противодействие США привело к тому, что уже в середине 70-х годов Египет, Сирия, Алжир, Сомали и Эфиопия отказали нашим боевым кораблям в заходах в их порты.
Вместе с тем НАТО и США не упускали ни малейшей возможности продемонстрировать лишний раз свою силу. Американцы открыто имитировали атаки, приводя оружие в боевую готовность, выходили на опасные курсы. А свои учения предпочитали проводить вблизи территориальных вод СССР. Только в период 1970-1971 годов корабли США пять раз заходили в Балтийское море (в общей сложности количество незваных “гостей составило 10 единиц), шесть раз наведывались в Черное море (15 единиц) и сорок восемь раз – в Японское и Берингово моря (112 единиц). В ответ мы проводили учения и походы в морских районах, прилегающих к США.