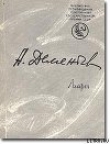Поэты 1840–1850-х годов

Текст книги "Поэты 1840–1850-х годов"
Автор книги: Николай Берг
Соавторы: Евдокия Ростопчина,Юлия Жадовская,Иван Панаев,Эдуард Губер,Павел Федотов,Петр Каратыгин,Евгений Гребенка,Иван Крешев,Федор Кони,Эдуард Шнейдерман
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 30 страниц)
249. ПЧЕЛА И ЦВЕТОК
Сидор, Сидор! Спишь? Живее,
Поликарповну скорее!
Ну, что свахою слывет.
Знаешь, где она живет?
Отыщи ее где хочешь,
Ты недаром похлопочешь;
Да смотри, не будь глупцом:
Баба станет обо всем,
Об житье-бытье моем
У тебя осведомляться,
Так прошу ей не поддаться…
Первое, что спросит, – чин.
Отвечай, что господин
Твой майор еще покуда,
Но чрез год он, худо-худо,
Будет полный генерал.
Побожись, что не соврал:
Бабе только побожиться
Да с божбой перекреститься —
Всё за чистое сойдет.
Об достатке речь зайдет,
Не проврись про кухню нашу,
Что едим век щи да кашу,
А скажи: на днях умрет
Барский дядя пребогатый,
Что огромные палаты,
Что заводов, деревень,
Что чего не счесть и в день,
Всё, чем заживо он правит,
То, мол, всё ему оставит,
Что наследник, мол, один
У него мой господин.
Что, мол, добр; солдат как учит —
Он не бьет их и не мучит,
Что и сам, мол, я пока
В жизнь не слышал «дурака».
Хоть под левым глазом сине
У тебя, да сам, разиня,
Напросился на кулак —
Ты сапог мне подал как?
Ну, уж с этим разом баста,
Помиримся. Только глаз-то
Чем-нибудь затри, закрась,
В лазарет зайди. На мазь
В счет поставь пятиалтынник.
Да и весь ты, точно блинник,
Весь засален, весь в дырах, —
Это в счет идет у свах.
Где б достать всё поновее?
У кого-то есть ливрея?
У женатых попроси, —
Вот записку отнеси.
Кстати, помни, подстригися, —
Вишь, как пудель!.. И явися
К свахе, будто на парад.
Еще тут важнее, брат,
Надо лгать, а так ведется,
Что смелее франтам врется
И скорее верят… Да,
Сколько хочешь лги тогда!..
Что, мол, просто барин славный,
А уж к службе – ох, исправный!..
Чуть про службу спор и толк,
Сам полковник, целый полк,
Смотришь, прут к нам за советом.
Барин, мол, там первый в этом,
И, мол, диво ли, когда
В рот хмельного никогда.
Даже трубки он не курит,
Карт и в руки не берет,
А гостей коль соберет,
С ними только балагурит,
Да и то коли когда
Чуть об девушках нескромно
Молодежь заври – беда!..
Для него и то скоромно.
В обхожденьи ласков, прост,
Аккуратно держит пост,
Не бывал ни раза болен,
Как бывают иногда
Все другие господа.
Бедных любит, богомолен
И что им и царь доволен!
И что, кажется, его,
Господина моего,
Он к себе в министры прочит —
Это целый полк пророчит!..
И лукавая одна
Пребогатая княжна
К нам уж сваху засылает:
Вишь, ужасно влюблена
В барина. Да пусть страдает!..
Барин свистни, так княжон
Налетит со всех сторон —
Выбирай себе любую.
Да не хочет. Нет, уж он
Выбрал сердцу дорогую.
С год, мол, день и ночь ему
Всё вертится на уму
Дочь какого-то Кулькова
(Может быть, и нет такого).
А меж тем: Кульков! Кульков!
Затверди ты это слово.
Тут ведь нет немецких слов,
Трудных так для денщиков,
Помни про кулек!.. не сбейся,
Будешь говорить – не смейся!..
Побожись, что по ночам
Бред мой часто слышишь сам,
Вдруг, мол, вскрикнет: «О Кулькова!
О мой ангел! друг!» – и снова
Прихрапнет, потом опять,
Да ведь за ночь-то раз пять,
Как в горячке!.. Утром встанет,
Так, глядишь, на нем лица нет!
Просто страх меня берет.
Так и жди – с ума сойдет.
Ну, потеря!.. Спять, пожалуй,
У кого умишка малый,
А ведь барин по уму
Не спустил бы никому!..
Да чего, преосвященный,
Раз приехавши к нему,
Говорит: «Хоть ты военный,
А уж друга не оставь,
Ты мне проповедь поправь!»
Он ведь с ним на «ты», почтенный,
Вот так просто, как друзья;
Значит – ум!.. А нынче я
За него весьма боюсь
И тебе уж поклонюсь
В ножки, добрая моя.
Ты судьбой людскою мечешь,
Холостую скуку лечишь
И безденежья недуг
Лечишь ты, – так будь нам друг,
Припаси и нам лекарства,
Сбереги подпору царства!
Понял, Сидор? Ну, смотри,
Бабе ты очки вотри.
Ты, я знаю, как захочешь,
Так на шею черту вскочишь,
Ты, я знаю, брат, не глуп…
Например: откуда суп
С курицей у нас являлся?
Я тогда уж притворялся,
Молча ел. – Ведь денег я
Не давал… Казна моя
Станет лишь на щи да кашу.
Помнишь, как-то простоквашу,
Как-то жареный петух,
А в моих подушках пух?..
Что, нашел?.. Нашел, ну, ладно!
Ты всегда соврешь прескладно.
Так пойди ж, похлопочи,
Тут ведь есть магарычи.
Как женюсь, разбогатею,
И тебя, братец, пригрею
И наградою заслуг
Уж не старый архалук,
Как теперь, – тогда придется,
Как у важных бар ведется,
В галунах ливрею сшить,
В аксельбанты нарядить.
Голод нынешний забудешь.
У меня ты просто будешь
Целым домом заправлять,
Да другими понукать,
Да прикрикивать – и только!
Любо? – Хлопочи ж, изволь-ка!..
1848
250. РАЦЕЯ
Летая по́ свету, конечно, за медком,
Пчела влетела в дом.
Увидевши в окне горшочки
И в тех горшках цветочки,
Ну как не залететь?
Где до любимого коснется,
Не только что пчелам – и нам, людям, неймется.
Любимое хоть в щелку поглядеть —
И то отрада, —
А тут пчеле цветы – чего ж ей больше надо?
К тому ж людской разборчивый и прихотливый род
Цветов к себе дурных в хоромы не берет,
А из отличных всё пород.
Коль и на взгляд иной не так приятен,
Так уж наверно ароматен.
И подлинно, пчела
В дому один цветок породистый нашла,
Да только, не в родню, он что-то рос так бедно
И цвел так бледно,
Что не на что взглянуть.
Пчела подумала: «Попробую нюхнуть!
Авось утешусь ароматом,
Авось медку найду хоть атом!»
Но что же?.. И того
Не оказалось у него.
Пчела плечами только жала:
«Земля, что ль, под тобой, цветочек, отощала?»
Подумала и вниз сползла —
Земля хорошая была
И полита как надо.
Трудолюбивую пчелу взяла досада.
(Кто сам трудолюбив,
К бездействию других ужасно щекотлив;
Сейчас подумает, что, верно, тот ленив.)
И, приписав всё лени,
Пчела укоры, пени
На хилого цветка
Посыпала как из мешка:
«Урод, – жужжит она, – позор своей породы!
Ты знаешь, как ее повсюду чтут народы?
А ты свои дары природы
Куда девал?»
И жало
Уж местью задрожало.
«А я, – тогда цветок уныло отвечал, —
Блажен, когда б об этом и не знал.
Желаньем не томясь и к цели равнодушный,
Я, может, лучше б цвел и в этой сфере душной!
Окно на север здесь, любезная, взгляни!
Насупротив – стена, и я всю жизнь в тени.
В тени!.. Меж тем с порой изящества начало
В душе про сладкое про что-то зашептало,
Но вместе с тем, увы, тогда ж казалось мне,
Что что-то здесь в моем окне
Тот сладкий шепот заглушало,
Но я тогда еще был мал,
Неясно это понимал
И рос, как все. Когда ж с явленьем почек
Все закричали: „Вот цветочек!“ —
Тогда широкая молва
Души неясные слова
Собой мне разъяснила.
Я понял, чем меня природа одарила,
Какой блестящий мне дала она удел.
За ним, достичь его желаньем полетел —
Душа лишь только средств искала, —
Но в них, увы, судьба мне жадно отказала!
Я жажду солнца, но оно
В мое не жалует окно!
Желанья пылкие желаньями остались,
От безнадежности лучи их к центру сжались,
И спертый жар теперь как ад во мне палит
И весь состав мой пепелит!
Так не дивись, пчела, что я цвету так вяло,
И не брани меня, не разобрав, за лень.
Ничтожности моей начало —
Тень!..»
Талант, молись, чтоб счастья солнце
Взглянуло иногда в твое оконце.
Иначе, как цветы,
В тени замрешь и ты.
10 июля 1849
<Объяснение картины «Сватовство майора»>

П. А. Федотов. «Сватовство майора» (1848). Государственная Третьяковская галерея.
251. ТАРПЕЙСКАЯ СКАЛА
Честные господа,
Пожалуйте сюда!
Милости просим,
Денег не спросим:
Даром смотри,
Только хорошенько очки протри.
Начинается,
Починается
О том, как люди на свете живут,
Как иные на чужой счет жуют.
Сами работать ленятся,
Так на богатых женятся.
Вот извольте-ко посмотреть:
Вот купецкий дом, —
Всего вдоволь в нем,
Только толку нет ни в чем:
Одно пахнет деревней,
А другое харчевней.
Тут зато один толк,
Что всё взято не в долг,
Как у вас иногда,
Честные господа!
А вот извольте посмотреть:
Вот сам хозяин-купец,
Денег полон ларец;
Есть что пить и что есть…
Уж чего ж бы еще? Да взманила, вишь, честь:
«Не хочу, вишь, зятька с бородою!
И своя борода —
Мне лихая беда.
На улице всякий толкает,
А чуть-чуть под хмельком,
Да пойди-ка пешком вечерком,
Глядь! – очутишься в будке,
Прометешь потом улицу сутки.
А в густых-то будь зять —
Не посмеют нас взять…
Мне, по крайности, дай хоть майора,
Без того никому не отдам свою дочь!..»
А жених – тут как тут, и по чину – точь-в-точь.
А вот извольте посмотреть,
Как жениха ждут,
Кулебяку несут
И заморские вина первейших сортов
К столу подают.
А вот и самое панское,
Сиречь шампанское,
На подносе на стуле стоит.
А вот извольте посмотреть,
Как в параде весь дом:
Всё с иголочки в нем;
Только хозяйка купца
Не нашла, знать, по головке чепца.
По-старинному – в сизом платочке.
Остальной же наряд
У француженки взят
Лишь вечор для самой и для дочки.
Дочка в жизнь в первый раз,
Как боярышня у нас,
Ни простуды не боясь,
Ни мужчин не страшась,
Плечи выставила напоказ. —
Шейка чиста,
Да без креста.
Вот извольте посмотреть,
Как в левом углу старуха,
Тугая на ухо,
Хозяйкина сватья, беззубый рот,
К сидельцу пристает:
Для чего, дескать, столько бутылок несет,
В доме ей до всего!
Ей скажи: отчего,
Для чего, кто идет,—
Любопытный народ!
А вот извольте посмотреть,
Как, справа, отставная деревенская пряха,
Панкратьевна-сваха,
Бессовестная привираха,
В парчовом шугае, толстая складом,
Пришла с докладом:
Жених, мол, изволил пожаловать.
И вот извольте посмотреть,
Как хозяин-купец,
Невестин отец,
Не сладит с сюртуком,
Он знаком больше с армяком;
Как он бьется, пыхтит,
Застегнуться спешит:
Нараспашку принять – неучтиво.
А извольте посмотреть,
Как наша невеста
Не найдет сдуру места:
«Мужчина чужой!
Ой, срам-то какой!
Никогда с ними я не бывала,
Коль и придут, бывало, —
Мать тотчас на ушко:
„Тебе, девушке, здесь не пристало!“
Век в светличке своей я высокой
Прожила, проспала одинокой;
Кружева лишь плела к полотенцам,
И все в доме меня чтут младенцем!
Гость замолвит, чай, речь…
Ай, ай, ай! – стыд какой!..
А тут нечем скрыть плеч:
Шарф сквозистый такой —
Всё насквозь, на виду!..
Нет, в светлицу уйду!»
И вот извольте посмотреть,
Как наша пташка сбирается улететь;
А умная мать
За платье ее хвать!
И вот извольте посмотреть,
Как в другой горнице
Грозит ястреб горлице, —
Как майор толстый, бравый,
Карман дырявый,
Крутит свой ус:
«Я, дескать, до денежек доберусь!»
Теперь извольте посмотреть:
Разные висят по стенам картины.
Начинаем с середины:
На средине висит
Высокопреосвященный митрополит;
Хозяин христианскую в нем добродетель чтит.
Налево – Угрешская обитель
И во облацех над нею – святитель…
Православные, извольте перекреститься,
А немцы,
Иноземцы,
На нашу святыню не глумиться;
Не то – русский народ
Силой рот вам зажмет.
И вот извольте посмотреть:
По сторонам митрополита – двое
Наши знаменитые герои:
Один – батюшка Кутузов,
Что первый открыл пятки у французов,
А Европа сначала
Их не замечала.
Другой
Герой —
Кульнев, которому в славу и честь
Даже у немцев крест железный есть.
И вот извольте посмотреть:
Там же, на правой стороне, —
Елавайский на коне,
Казацкий хлопчик
Французов топчет.
А на правой стене хозяйский портрет
В золоченую раму вдет;
Хоть не его рожа,
Да книжка похожа:
Значит – грамотный!
И вот извольте посмотреть:
Внизу картины,
Около середины,
Сидит сибирская кошка.
У нее бы не худо немножко
Деревенским барышням поучиться
Почаще мыться:
Кошка рыльце умывает,
Гостя в дом зазывает.
А что, господа, чай устали глаза?
А вот, налево, – святые образа…
Извольте перекреститься
Да по домам расходиться.
1849
Притча
252. УСЕРДНАЯ ХАВРОНЬЯ
В глубокой древности один законодатель
И, как велось, богам приятель,
С одним из них в радушный час
Сидевши глаз на глаз,
Был удостоен откровенья
И наставленья,
Как сделать сча́стливым народ.
Конечно, первое условье
Для счастия – здоровье.
Вот он для улучшения своих людских пород
Постановил в закон: чуть где родись урод
Иль хворенький иной, иль просто недоношен,
Дитя быть должен в море брошен;
А если быть кому по правилам в живых, —
Чтобы ни пятнышка на них,
Ни бородавочки нигде не оставалось,
Сейчас чтобы срезалось
Иль выжигалось.
Устроен на скале Тарпейской комитет.
Набрали членов добрых, честных,
Умом, ученостью известных,
Хирургов цвет.
И в этом комитете
Осматривались все и подчищались дети.
Проходит двадцать, тридцать лет,
Вот новое уже явилось поколенье,
Но вовсе не видать в породе улучшенья.
Уродов не перевелось.
Знать, члены матерей щадили.
В делах политики в расчет не брать же слез,
И добрых членов заменили
Другими, покрутей;
Но улучшение людей
Вперед у них, глядят, всё мало подается.
Не действует на членов ни арест,
Ни крест;
Смени иного – он смеется
И очень, очень рад:
В другое место заберется, —
Везде, где ни служи, – везде жирней оклад,
Чем в членах комитета.
Смекнувши это,
Сейчас
Оклады увеличили для членов во сто раз,
И место сделалось первейшим в государстве.
Но улучши́лась ли людей порода в царстве?
Член, точно, местом дорожит,
Поэтому от всякой малости дрожит
И, несмотря на материно горе,
Ребенка всякого почти кидает в море.
Оно спокойней и верней —
Дитя отпето
И нет вперед ответа.
А если жить и даст по доброте своей,
То с пятнышками у детей
Обрезав и кругом с запасом,
Без носа часом
Их пустит в свет иль без ушей
И изо всякого обделает урода.
А вместе с тем
Всё прекращалося, и наконец совсем
С земли исчезла вся порода.
Остались члены для развода.
И слышал я вчера:
Потомки их весьма способны в цензора.
1849 (?)
253. «Гусиное перо людей…»
Не далее как в нынешнем году
В одном саду
Любимая из барыниных дочек,
Лет четырех, сама цветочек,
Хотела розанчик сорвать
Да, позабывши про колючки,
С разбега хвать —
И ободрала ручки!
«Ай, ай!» – швырнувши прочь цветок,
Бедняжка зарыдала.
На звонкий голосок
Мамаша прибежала.
Увидевши в крови любимое дитя,
Перепугалась не шутя;
Сейчас ребенка подхватила,
Лечить в хоромы потащила…
Ребенок на руках у матери ревет,
Колючки острые клянет,
За ним и мать вопит, колючки проклиная.
«Вот я их! – говорит, ребенка утешая. —
Колючки гадкие! Вишь, смели обижать
Малюточку мою! Сейчас их всех содрать».
Конечно, всё лишь это были прибаутки
Для шутки
От истинной любви к малютке.
Хавронье ж, горничной, случись вблизи стоять.
Привыкши век свой всё буквально понимать, —
Притом же с барыней холопке что за шутки! —
Хавронья и на этот раз
Всё поняла за истинный приказ,
Хоть очевидно,
Для сада будет преобидно.
Хоть говорится иногда:
Спрос не беда,
Не ослушанье
(Ведь ухо может изменить) —
Сомнительное приказание
Не грех подчас переспросить.
Иль в знак сомнения хоть за ухом почешешь:
За что ж, мол, иль себя, или господ опешишь?
Лишь стоит быть чуть-чуть с умом.
Но бабы как-то слабы в нем!
Хавронья ж добрая была зато такая,
Что обыщите целый свет —
Подобной нет!
А потому, припоминая,
Что этот плач и вой
В дому от игл уж не впервой,
Ей было по душе скорей беду исправить,
Чтоб и вперед дитя от бед избавить
И дому барскому усердие показать.
(Хорошие дела откладывать не надо:
А может, будет и награда!)
Давай сейчас в саду колючки оскребать!
Обчистив розаны, отправилась в шиповник,
Потом в крыжовник,
В малину сочную – везде колючки есть!
На всё колючее изволила насесть.
С колючками кой-где и кожу всю содрала
И неколючее вокруг всё перемяла.
Через неделю всё повяло!
Колоться нечем!.. Бабе честь!..
Зато понюхать иль поесть
В саду бывало прежде густо,
А нынче – пусто!..
И так у нас в натуре:
Мигни только цензуре.
1849 (?)
254. К МОИМ ЧИТАТЕЛЯМ, СТИХОВ МОИХ СТРОГИМ РАЗБИРАТЕЛЯМ
Гусиное перо людей
С умом прекрасно выручает.
Гусиное перо судей —
Судьям карманы набивает.
Из-за гусиного пера
С<енковский> вывел вздор нелепый,—
Пером гусиным на ура
Стреляет в сей и оный репой.
[Гусиное перо иного
Отправило за Енисей.]
Гусиное перо Крылова
Задело под крыло гусей.
Задело – и за дело!
Конец 1840-х годов
Кто б ни был, добрый мой читатель,
Родной вы мой или приятель,
Теперь хочу я вас просить
К моим стихам не строгим быть.
Я не отъявленный писатель,
Хоть я давно ношусь с пером,
Да то перо, что носят в шляпе,
А что писатель держит в лапе,
Я с тем, ей-богу, не знаком
И не пускаюсь в сочиненья,
А уж особенно в печать.
Меня судьба, отец да мать
Назначили маршировать,
Ходить в парады, на ученья
Или подчас в кровавый бой
За славой или на убой.
Но как от русского штыка
Дыра довольно глубока,
Враги все наши присмирели,
Ругая нас издалека,
Тревожить явно уж не смели,—
То я спокойно десять лет
Без пуль, картеч и разных бед
Возился с службой гарнизонной.
Вот довод, кажется, резонный,
Что не могу я быть поэт.
Не правда ль?.. Не угодно ль стать
Во фрунт поэту записному
Да не угодно ль помечтать
Или начальнику иному
Рапо́рт стишками написать.
Хоть будь вполне литературно,
Да не по форме, скажут: дурно!..
Начальник распечет – и прав:
Что́ сочинять, где есть устав,
Где шаг, малейшее движенье —
Всё так обдумано давно
И с вас потребуют одно
Слепое лишь повиновенье
И распекут за сочиненье.
Иль пусть какой-нибудь поэт,
Какого лучше в свете нет,
Слетает к бесу на расправу,
То есть на сутки на заставу.
Займись там выспренной мечтой,
Да подорожной хоть одной
Не просмотри, пренебреги,
Да на звонок не побеги, —
Такого зададут трезвону,
Забудешь всех – и Аполлона,
И девять муз, и весь Парнас.
Нет, некогда мечтать у нас.
Солдат весь век как под обухом:
Тревоги жди пугливым ухом,
Поэты ж любят все покой,
А у солдат покой плохой!
Для стихотворного народа
Всегда торжественна природа,
Ему мила и непогода.
Он всё поет: и дождь, и гром,
И ветра в осень завыванье;
Сам льет в стакан спокойно ром,
Сидя в тепле. Нет, в нашей шкуре
Попробуй гимны петь натуре:
Воспой-ка ручейки тогда,
Как в сапогах бурчит вода,
Воспой под дождь в одном мундире,
Когда при строгом командире
Денщик твой, прогнанный в обоз,
Твою шинель упрятал в воз;
Иль в сюртуке в одном в мороз
Простой, начальство ожидая,
Тогда как пальцы, замирая,
Не в силах сабли уж держать,
Изволь-ка в руки лиру взять
Да грянь торжественную оду
На полунощную природу.
Нет, милый, рта не разведешь
И волчью песню запоешь.
Поэтам даже свод небесный
Какой покос дает чудесный!
А нам красавица луна
Напомнит только ночь без сна
На аванпостах. Ясный Феб,
Луна и Феб – поэтам хлеб,
А нам от Феба пыль да жарко,
Нам Феб – злодей, коль светит ярко;
Он нам не недруг лишь, когда
Вблизи холодная вода.
И эти звезды, что высоко,
Что в поэтическое око
Так бриллиантами блестят,
Нам дальностью своей твердят,
Что и до звезд земных далеко
(С прибавкой славы и любви).
Вот всё, что в пышущей крови
Вздымает сильное броженье,
Что кипятит воображенье.
А нам?.. Наш брат ослеп, оглох,
Нам это всё – к стене горох.
Блаженство наше: чарка в холод,
Да ковш воды в жару, да в голод
Горячих миска щей, да сон,
Да преферанс… – и Аполлон,
И с музами, спроважен вон.
И даже самая любовь,
Хотя подчас волнует кровь,
Да только кровь. А сердце – дудки!
Нас не поддеть на незабудки,
На нежности; наш идеал:
Нам подавай-ка капитал,
Затем что ведь и в нас, мы знаем,
Не лично мы всегда прельщаем,
Прельщает чаще наш мундир,
Российских барышень кумир.
Смешно же бескорыстных строить:
Одно должно другого стоить
(О совести ни слова тут).
Но если ж мишуру берут
Взамен святой любови личной,
Так уж умнее взять наличный
За это капитал. У нас
Примеров всяких есть запас.
Есть, точно, по любви женаты,
Да что они? Бывали хваты,
Теперь – кислятина: ухваты,
Горшки, пеленки на уме,
Век с плачем о пустой суме,
С роптаньем, – и сказать ужасно:
На добродетель ропщут гласно!
Они, завидуя ворам,
Скорее к выгодным местам
Бегут казной отогреваться,
Казной за голод отъедаться.
Меж тем иной, как холост был,
Глядишь, честнейшим малым слыл.
Выходит, что жена и дети —
Лишь только дьявольские сети
Без золота. Так вот любовь!
Ей тоже денег подготовь,
Не то готовь и скорбь и слезы.
Где ж тут поэзия? где ж розы?
Те розы вечные, о коих так твердят?
Любовь без денег – просто яд.
И яд тем более опасный,
Что он на вкус такой прекрасный:
Лизнешь – не хочется отстать.
Коварна брачная кровать!
А полюбить да не жениться,
Так, право, лучше утопиться!
Да и топилися не раз.
Ведь есть же Лизин пруд у нас[84]84
Есть в Москве пруд, прозванный «Лизин», потому что в нем, с отчаяния в любви, утопилась Лиза – и есть надпись:
«Здесь утопилась Лиза, Эрастова невеста.Топитесь, девушки, для всех довольно места».
[Закрыть].
Когда же с жизнью жаль расстаться,
Душой и телом век больной,
Ты будешь по свету таскаться,
Всегда рассеянный, шальной
И, стало быть, всегда смешной.
Ну вот влюбленных перспектива.
Нет, эта цель не так красива,
Чтобы любовь боготворить.
Нам с нею каши не сварить!
Теперь мы примемся за славу,
Необходимую приправу
Поэзии. Но славе пир
Дает война, а тут был мир.
С трубою, с крыльями кумир
Не принимает приношенья
От тех, кто знает лишь ученья,
Парады, лагерь, караул,—
Кровавый любит он разгул.
Поэзию он в уши тру́бит
Лишь тем, кто больше губит, рубит,
Кто кровь людскую льет рекой.
Я ж десять лет моей рукой
Махал на вольном только шаге, —
Другой ей не было отваги,
И мой смиренный кроткий меч
Не знал кровавых грозных сеч;
Тупой родясь, умрет не точен;
В крови пред славой непорочен,
Служить он мог, лишь как косарь,
Щепя лучину под алтарь.
А груды тел и крови реки
Принесть ей в дар – не в том, знать, веке,
Ошибкой родился мой меч.
Итак, об славе кончим речь.
Ну вот и всё, чем стих поэта
Питался от начала света.
Еще пересчитаем вновь:
Природа, слава и любовь!
Иное, точно, кровь мутило,
Да не до рифм тогда нам было,
Мутило с желчью пополам,
Иное ж вовсе чуждо нам.
На чем же тут душе развиться,
Воображенью порезвиться?
Пускай рассудит целый свет:
Поэзии тут пищи нет!
Где ж было мне практиковаться
И чистоты в стихах набраться
Такой, чтоб критик злой иной
Не отыскал стишок больной?!
Не придирайтесь, бога ради,
Пока стихи еще в тетради,
Пока не жались под станок.
Я сам к печатным очень строг,
В печать не лезу – знак смиренья,
А это стоит снисхожденья.
Начало 1850