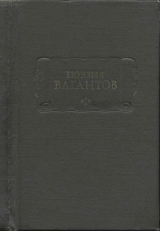
Текст книги "Поэзия вагантов"
Автор книги: Автор Неизвестен
Жанры:
Поэзия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 23 страниц)
Слово «вагант» значит «бродячий». «Бродячий» – это и сейчас звучит осуждением и упреком; тем более чувствовался такой оттенок в этом слове в средние века. Раннее средневековье было эпохой, когда каждый человек, занимавший место в иерархии средневекового строя, занимал и соответственное место в пространстве средневекового мира: крестьянин состоял при своем наделе, рыцарь – при своем замке, священник – при своем приходе, монах – при своем монастыре («монах без кельи – рыба без воды», гласила поговорка). Дороги для человека тех времен были местом случайным, тревожным и опасным. Пока к XI в. дорога не стала достоянием нового люда, купечества, на больших дорогах Европы оказывались только люди, выпавшие из общественной иерархии, изгои, те, кто были или выше общего жизненного уклада, или ниже его, – или паломники, или бродяги. Клирик, скитающийся по дорогам, был и паломником и бродягой в одном лице – за ним и закрепилось имя «вагант».
Это был почти термин, применяемый к тем священникам, которые не имели своих приходов, и к тем монахам, которые покидали свои монастыри (clerici, monachi gyrovagi). Такие безместные духовные лица, вынужденные скитаться из города в город, из монастыря в монастырь, существовали, конечно, во все времена. Вагантом мог быть назван Годескальк, еретический проповедник IX в., обошедший всю Европу от Франции до Иллирии, прежде чем погибнуть в монастырской тюрьме под Реймсом; о своей неуживчивости во многих монастырях откровенно повествует историк XI в. Радульф Глабр; вагантская тоска по вольной жизни слышится в анонимной аллегорической поэме XI в. «Бегство узника», где теленок бежит из стойла в луга и леса, попадает из беды в беду, едва остается жив и, наконец, возвращается в родное стойло, как монах в монастырь.
Нравственность и дисциплина этих бродячих клириков, конечно, были весьма невысоки; да вдобавок к настоящим клирикам в этих скитаниях охотно примешивались мнимые – простые бродяги, которым было выгодно притворяться духовными лицами, чтобы избегать повинностей, податей, суда и расправы. Церковь издавна старалась осуждать и пресекать эти дезорганизующие явления в своей среде. С самых ранних времен, пожалуй, ни один сколько-нибудь значительный собор по церковным делам не упускал в своих постановлениях пункта, осуждающего бродячих клириков. В монашеских уставах о них говорится с негодованием, доходящим порой до вдохновения.
Один из самых старых западноевропейских уставов – исидоровский, принятый в Испании VII в., – перечисляет шесть родов монахов: три рода истинных монахов – киновиты-общинники, анахореты-затворники и эремиты-пустынники – и три рода мнимых монахов – лжекиновиты, лжеанахореты и, наконец, «циркумцеллионы» («бродящие вокруг келий»), о которых говорится: «вырядившись монахами, они бродят повсюду, разнося свое продажное притворство, обходя целые провинции, никуда не посланы, никуда не присланы, нигде не пристав, нигде не осев. Иные из них измышляют невиданное и свои слова выдают за божьи; иные торгуют мощами мучеников (только мучеников ли?); иные выхваляют чудодейственность своих одежд и колпаков, а простецы благоговеют; иные расхаживают нестрижеными, полагая, что в тонзуре меньше святости, чем в космах, так что, посмотрев на них, можно подумать, будто это древние Самуил, Илия и прочие, о ком сказано в Писании; иные присваивают себе сан, какого никогда не имели; иные выдумывают, будто в этих местах есть у них родители и родственники, к которым они и направляются; и все они попрошайничают, все они вымогают – то ли на свою дорогостоящую бедность, то ли за свою притворно-вымышленную святость».[256]256
«Patrologia latina», v. 103, p. 745–746.
[Закрыть] «Циркумцеллионы» – слово старинное, так называлась одна из народных христианских сект, вдохновлявшая большое народное восстание в латинской Африке в IV в., и в выражениях исидоровского устава чувствуется явный страх, что косматые вагантские пророки могут, чего доброго, опять смутить мир какой-нибудь новой ересью.
Двести лет спустя этот страх перед ересью, по-видимому, прошел, но возмущение перед соблазнительным образом вагантской жизни осталось и едва ли не усилилось. Сложившееся к IX в. «Правило учительское», основа всех монашеских уставов, тоже перечисляет разные роды монахов, но делает это очень бегло и лишь для вагантов (monachi gyrovagi) не жалеет самых красочных живописаний. Это – те, «кто всю жизнь свою проводит, скитаясь по провинциям от кельи к келье, от монастыря к монастырю и гостя по три-четыре дня то тут, то там… Без спросу являясь в очередной свой приют, тотчас они требуют исполнения завета апостольского „Ревнуйте о странноприимстве“ (Римл 12, 13), тотчас по такому случаю велят омыть и перевязать себе усталые ноги, а еще пуще, чем для ног, ищут с дороги омовения несчетными кубками для утробы своей, замаранной обедом или ужином. И как опустошат они у недоевшего хозяина стол, и как подберут до одной все хлебные крошки, тотчас они без стеснения наваливаются на хозяина всею своею жаждою, и коли кубка для вина не окажется, то кричат: „наливай в миску!“ Когда же от уязвления излишеством еды и питья позывает их на рвоту, то эти последствия объядения своего приписывают они трудной своей дороге. И не успевши возлечь на новом ложе телом своим, не столько дорогою, сколько закускою и выпивкою утомленным, принимаются они вновь расписывать хозяину тягости дороги своей, покамест не взыщут с него за передышку в щедротах щедрейшими угощениями и несчетными возлияниями… А когда проживут они у одного хозяина дня два, и приберут его съестные запасы до самой малости, и увидят в один прекрасный день, что хозяин их с утра принимается не обед варить, а по жилью своему руку трудить, тотчас решаются они искать себе другого гостеприимца. Тотчас с пастбища приводят ослика, от дорожных трудов только что скудной травки пощипавшего; и вот странник, вновь закутавшись рубахами и покрывалами, сколько их стяжало ему то ли назойливое вымогательство, то ли удачный случай обобрать хозяина (а как надобно ему попрошайничать, так он вмиг обряжается в лохмотья!), прощается, наконец, с хозяином; до сих пор не уезжал, а теперь едет в чаянии другого пристанища. И вот он осла своего и бьет, и гнет, и колет, а тот все ни с места, и только ушами хлопает, покуда в ляжках сил хватает; и колотит его странник чуть не до смерти и до изнеможения рук, потому что спешит и торопится поспеть в соседний монастырь, не пропустивши трапезы».[257]257
«Patrologia latina», v. 103, p. 735–738.
[Закрыть]
Конечно, все краски в таких описаниях сгущены до предела. Но как бы они ни были сгущены, трудно сомневаться в одном: вагантство раннего средневековья представляло собой в культурном отношении самые низы духовного сословия, люд полуграмотный или вовсе безграмотный. Роль его в социальной и культурной жизни Европы была ничтожна. Правда, и здесь не могло не быть своей словесности – еще в VII в. Шалонский собор осуждал бродячих клириков, распевающих «низкие и срамные песни», – но можно быть почти уверенными, что песни это были не латинские, а народные, романские и германские, и что бродячие клирики перенимали их от бродячих мирян, жонглеров и мимов, а не наоборот.
Так продолжалось несколько столетий – вплоть до великого социально-культурного переворота XI–XII вв. И тогда все переменилось. Вагантство «высокого средневековья» – прямой наследник вагантства раннего средневековья, но культурный облик его – совершенно иной.
Перелом между двумя эпохами средневековья обычно связывается с началом крестовых походов, когда в 1099 г. европейскими рыцарями был взят Иерусалим. На самом деле, конечно, полоса перехода была шире – она захватывала и последнюю треть XI в., и начало XII в., но решающий момент перелома врезался в память Европы совершенно точно. Именно историку первого крестового похода Гвиберту Ножанскому, который родился в 1053 г. и написал свою замечательную автобиографию в 1115 г., принадлежат знаменательные слова: «Незадолго до моего детства, да, пожалуй, и тогда еще школьных учителей было так мало, что в маленьких городках найти их было почти невозможно, а в больших городах – разве что с великим трудом; да если и случалось встретить такого, то знания его были столь убоги, что их не сравнить было даже с ученостью нынешних бродячих клириков».[258]258
«Patrologia latina», v. 156, p. 844.
[Закрыть] Это самая краткая и точная характеристика великого культурного переворота, который хоть и растянулся на несколько десятилетий, однако весь уместился в жизни и памяти одного человека.
Конечно, культурный переворот был лишь последствием социально-политического, а социально-политический – последствием экономического. К концу XI в. феодальная Европа впервые стала неуверенно применять к большим делам свои медленно копившиеся производительные силы. Сельское хозяйство стало прокармливать не только деревню, но и город, город ответил на это крутым подъемом ремесла, изделия ремесла поползли на тяжелых возах по ухабистым дорогам на ярмарки и поплыли на грузных итальянских кораблях к недоступным ранее восточным рынкам, в ответ с Востока в Европу потекли деньги и предметы роскоши, загрубелые в своих замках феодалы почувствовали вкус к изящному быту и «вежественному» обхождению, рядом с прежними двумя сословиями, на которые распадался европейский мир, знатью и крестьянством, явились и потребовали внимания и уважения два новых – рыцарство и бюргерство. Чтобы поддерживать в порядке этот зашевелившийся муравейник феодального общества, потребовалась небывалая дотоле работа во всех местах, где что-то сосредоточивалось, координировалось, намечалось, назначалось, – в канцеляриях графов, герцогов и королей, в консисториях аббатов, епископов, архиепископов и пап. Потребовались люди – люди образованные или, по крайней мере, грамотные. Этот спрос на образованных людей и определил перемену в судьбе вагантства.[259]259
С. Н. Haskins, The Renaissance of the XII-th century. Cambr. (Mass.), 1927; G. Paré, A. Brunet, P. Tremblay. La Renaissance du XII siècle: les écoles et l’enseignement. Ottawa, 1933; J. De Ghellinch, L’essor de la littérature latine au XII siècle. Bruxelles, 1946.
[Закрыть]
Питомником образованных людей в XI в. были соборные школы. В каждом крупном городе при кафедральном соборе имелась школа, где несколько учителей под надзором епископа наставляли молодых людей, готовящихся к духовному званию, сперва в «семи благородных искусствах» (тривиум – грамматика, риторика, диалектика, и квадривиум – арифметика, геометрия, астрономия, музыка), а потом в богословии, философии, каноническом праве и прочих науках, в которых им случалось быть сведущими. Уже в XI в. разные города славились разными науками: в Меце были хорошие учителя музыки, в Камбрэ – математики, в Туре – медицины и т. д. И уже в XI в. любознательные ученики начинают кочевать из одной школы в другую для совершенствования своего образования: об одном из них (ученике знаменитого Фулберта Шартрского, имя которого читатель найдет в этой книге) говорили, что он собирает знания по школам, как пчела свой мед по цветам. В XII в. такие перекочевки из школы в школу стали массовым явлением. Это и было новое вагантство – теперь оно, в отличие от прежнего, представляло собой уже не культурные низы, а, наоборот, культурные верхи духовного сословия.
Оживление культурной жизни в XII в. разом сказалось на организации системы образования и среди учащихся, и среди учащих. XII–XIII века – время рождения университетов в Европе.[260]260
H. Rashdall. The universities of Europe in the Middle Ages, v. 1–3, ed. 3. London – Oxford, 1942.
[Закрыть] Университеты вовсе не были прямыми потомками соборных школ. Во-первых, масса молодежи, стекавшейся учиться в новые центры образования, была гораздо многолюднее и пестрее, чем столетием раньше, – там, где сходился учащийся люд со всех концов Европы, для него требовались совсем другие формы организации, чем в соборных школах, собиравших учеников в лучшем случае из нескольких окрестных архиепископств. Во-вторых, эта масса молодежи была гораздо разборчивее, чем столетием раньше; ее привлекали не стены школы, а личность преподавателя, и когда знаменитый Абеляр покинул собор Парижской Богоматери и стал читать свои лекции то тут, то там по окрестностям Парижа, то вокруг него толпилось не меньше студентов, чем когда-то в соборной школе. Но и учителя и ученики были обычно пришельцы, люди бесправные; чтобы оградить свое право на существование, они должны были соединиться в корпорацию и испросить у папы привилегию о своих правах, которую тот охотно давал. Такие корпорации учителей-магистров и учеников-школяров и были первыми европейскими университетами: в XII в. так сложились старейшие среди них, Парижский и Болонский, в XIII в. за ними последовали Оксфордский, Кембриджский, Тулузский, Саламанкский и целый ряд других. Университеты были, таким образом, изъяты из-под власти местных светских и даже духовных властей: в Париже начальником университета считался канцлер собора Парижской богоматери, но власть его была номинальной. Университет состоял из низшего, самого многолюдного факультета семи благородных искусств и трех высших факультетов – богословского, медицинского и юридического; организация их напоминала ученый цех средневекового образца, в котором школяры были учениками, баккалавры – подмастерьями, а магистры семи искусств и доктора трех наук – мастерами. Такая корпоративная организация (подкрепляемая наличием землячеств и коллегий разного рода) крепко сплачивала этот сбродный люд в единое ученое сословие. Если ваганты раннего средневековья бродили по монастырям и епископствам в одиночку, каждый на свой риск, то теперь на любой большой дороге вагант ваганта узнавал как товарища по судьбе и цели.
Цель у всей этой учащейся молодежи была одна – занять хорошее место, где бы знания ее приносили подобающий доход. Предыдущему поколению это удавалось без большого труда: когда сколько-нибудь образованных клириков в Европе было мало, а нужда в них была велика, то всякий грамотный монах или священник мог быть уверен, что при желании найдет себе пристанище в жизни – в приходе, в монастырской или соборной школе, в скриптории, в канцелярии какого-нибудь светского феодала. Новое же поколение, вступавшее в школу и в жизнь со столь бодрыми надеждами, неожиданно столкнулось с совсем непредвиденными трудностями. Старые соборные школы и новые университеты отвечали на потребности времени так отзывчиво, аудитории их становились так многолюдны и из стен их выходило в свет год за годом так много молодых и энергичных ученых клириков, что скоро был достигнут критический рубеж: общество уже не находило, куда пристроить этих людей. Не надо забывать и о том, что образованным клирикам впервые пришлось столкнуться и с конкуренцией образованных мирян: несколько поколений назад грамотный мирянин был в Европе чем-то почти неслыханным, а теперь, к XIII в., и грамотный рыцарь, и грамотный купец постепенно становились если не частым, то и не редким явлением. Так совершилось в Европе первое перепроизводство людей умственного труда, обслуживающих господствующий класс; им впервые пришлось почувствовать себя изгоями, выпавшими из общественной системы, не нашедшими себе места в жизни.[261]261
H. Süssmilch. Die lateinische Vagantenpoesie des 12. und 13. Jahrhunderts als Kulturerscheinung. Leipzig, 1917; H. Waddell. The wandering scholars. London, 1927; O. Dobiache-Rojdestvensky. Les poésies des goliards. Paris, 1931; M. Bechthum. Beweggründe und Bedeutung des Vagantentums in der lateinischen Kirche des Mittelalters. Jena, 1941 (нам недоступно); J. Le Goff. Les intellectuels au Moyen Age. Paris, 1957.
[Закрыть]
Окончив образование в соборной школе и не найдя для себя ни прихода, ни учительства, ни места в канцелярии, молодые клирики могли только скитаться с места на место и жить подаяниями аббатов, епископов и светских сеньоров, платя за это латинскими славословиями. Общая обстановка XII в. содействовала такой скитальческой жизни: после крестовых походов и оживления торговли дороги Европы впервые стали относительно безопасны от разбоев и доступны для передвижения. К тому же и духовное звание вагантов было им при этом не без пользы: благодаря ему они были неподсудны светскому суду и чувствовали себя в безопасности если не от побоев, так хоть от виселицы. Находить гостеприимцев им удавалось: нарождающаяся привычка к светскому «вежеству» учила даже светских сеньоров ценить льстивую латинскую лиру, а о духовных сеньорах тем более не приходится говорить: недаром строгий Авессалом Сен-Викторский патетически сетовал, что у епископов «палаты оглашаются песнями о подвигах Геркулеса, столы трещат от яств, а спальни от непристойных веселий».[262]262
«Notices et extraits de quelques MSS. de la Bibllothèque Nationale», ed. J. В. Haréau, v. IV. Paris, 1892, p. 30.
[Закрыть]
Такой образ жизни определял не только характеры, но и ученые вкусы вагантов. Дело в том, что ученый мир XII в. никоим образом не был единомыслен в своей учености: перед ним были осколки прекрасной, но разрушенной древней культуры, из которых надлежало выстроить не столь прекрасную (на первый взгляд), но цельную и стройную систему новой культуры. И, как всегда, в строителях боролись разум с чувством: одни упрекали других в том, что они тешатся бесполезными побрякушками античных поэтов, другие упрекали первых в том, что они своими системами сушат и губят живую красоту искусства. В историю это вошло как «спор artes и auctores» – «теорий» и «классиков». «Классики», т. е. античные писатели, были образцами, с которых начиналось школьное преподавание, «теории» были целью, к которой оно вело, и ни то ни другое не могло обойтись друг без друга. Спор этот в истории культуры велся не в первый и не в последний раз: в античности он назывался спором «аналогистов и аномалистов», а в эпоху классицизма – спором «древних и новых». В XII–XIII вв. оплотом «теоретиков» был Париж, оплотом «классиков» – Орлеан, и французский поэт середины XIII в. Генрих Анделинский описывал их борьбу в длинной аллегорической поэме «Баталия семи искусств». Как всегда в истории, окончательная победа осталась за «новыми»: парижские «Суммы» Фомы Аквинского, подводившие итог всей без исключения средневековой культуре, были нужней эпохе, чем овидианские упражнения орлеанцев и их разбросанных по всей Европе учеников. Ваганты в этой битве были не с победившими, а с побежденными, не с «теоретиками», а с «классиками». Причина и следствие здесь перекрещивались: с одной стороны, «теоретики» – богословы и правоведы – легче находили себе преподавательские и канцелярские места и реже оказывались на больших дорогах, а, с другой стороны, те, которые оказывались на больших дорогах и искали себе гостеприимных покровителей, больше нуждались, чтобы купить их взимание, в классической риторике стихотворных панегириков, чем в изощренной диалектике «теорий».
Итак, вагантство XII–XIII вв. стало из неученого ученым; но это не значит, что оно из буйного стало благонравным. О них говорили: «Школяры учатся благородным искусствам – в Париже, древним классикам – в Орлеане, судебным кодексам – в Болонье, медицинским припаркам – в Салерно, демонологии – в Толедо, а добрым нравам – нигде».[263]263
«Patrologta latina», v. 212, p. 603.
[Закрыть] Сентенция эта принадлежит монаху Гелинанду, который перед тем, как постричься, сам был бродячим трувером (то есть таким же вагантом, только писавшим не на латинском, а на французском языке) и, по собственному выражению, был приспособлен для оседлого труда не более, чем птица небесная. Для средневековых церковных властей эти опасно умножившиеся бродячие толпы, растекшиеся по всем европейским дорогам, были предметом не меньшего, а большего беспокойства, чем прежде: во-первых, они из невежественных стали умствующими, а во-вторых, они из пестрых и разномастных стали дружными и легко находящими между собою общий студенческий язык. Всей своей жизнью ваганты подрывали у народа уважение к духовному сану, а при случае оказывались и участниками общественных беспорядков. Кроме того, из их среды исходили стихи не только льстивого и панегирического содержания: так, хронист Матвей Парижский под 1229 годом упоминает стихи парижских школяров, написанные по случаю блуда королевы Бланки Кастильской с папским легатом.
При этом не надо думать, что вагантские бесчинства совершались только на больших дорогах да в кабаках. Как ни странно, возможность для них давали и общепринятые церковные праздники. Церковь хорошо понимала, что всякая строгость нуждается во временной разрядке, и под новый год, в пору общего народного веселья, устраивала праздник для своих младших чинов: послушников, школяров, певчих и т. д. Местом объединения этой церковной детворы был прежде всего церковный хор под управлением регента; и вот, 23 декабря, накануне поминовения святых младенцев, невинноубиенных от царя Ирода, во время слов вечерней службы «… низложил господь власть имущих и восставил униженных», регент торжественно передавал свой посох, знак власти, одному из мальчиков; и в течение следующего дня этот мальчик считался епископом, вел службы, произносил проповеди (некоторые из них записаны и сохранились), а остальные мальчики исполняли роли священников, диаконов и пр.; вечером же для этого малого причта устраивалось угощение за счет церкви. Так как главным поминаемым событием при этом было бегство Христа-младенца с богоматерью на осле в Египет, то в некоторых городах праздник сопровождался инсценировкой; клирик, переодетый женщиной, верхом на осле и с младенцем на руках проезжал по церковному двору или по улицам города от церкви. Так велось издавна; но к XII в. причт постарше позавидовал детям и стал устраивать для себя праздник такого же рода, только гораздо менее невинный. Это делалось 1 января, в новогодие, в день Обрезания господня; главным актом и здесь была передача посоха старшине праздника; поэтому праздник обычно именовался «праздник посоха», но также «праздник дураков», «шутовской праздник», «ослиный праздник» и т. п. Здесь уже каждый город и каждая церковь изощрялись в вольностях на свой лад; перед началом мессы к церкви подводили навьюченного осла, клирики выстраивались перед дверями с бутылями вина в руках, осла торжественно вводили в церковь и ставили у алтаря, каждая часть богослужения, вместо «аминя», заканчивалась громогласным ржанием, а кое-где доходили и до того, что кадили не из кадильниц, а из старых башмаков, на алтаре бросали игральные кости, размахивали колбасами и сосисками, клир и миряне менялись одеждами, пели и плясали в масках и т. д., драки и кровопролития были обычным явлением; что ваганты на таком празднике были желанными гостями, попятно без дальних слов. Ученые церковники, читавшие Овидия и отлично понимавшие, от каких языческих «сатурналий» или «форнакалий» пошли эти обычаи, даже не пытались отменять этот «праздник дураков» и только старались умерить его неистовства; так, в городе Сансе архиепископ Петр Корбейльский (ум. 1222), один из почтеннейших ученых своего времени, учитель самого паны Иннокентия III, запретил своему клиру вводить в церковь осла и потрясать бутылями, но оставил в богослужении и пение «ослиной секвенции» в начале (читатель найдет ее в этой книге), и «песнопение к выпивке» в конце, и общую пляску в середине («Трижды оземь бьются ноги, три ко благу есть дороги…» и т. д.). Только несколько веков спустя, уже в эпоху контрреформации (XVI в.) церкви удалось задушить эти народные обычаи; да и то в глухих местах Европы «праздник дураков» справлялся в церквах до XVII–XVIII вв.[264]264
Е. К. Chambers. The medieval stage, v. I. Oxford, 1903.
[Закрыть]
Таким образом, у церковных властей было достаточно оснований бить тревогу. Если в XII в. папству было еще не до вагантов – оно было слишком занято борьбой с германскими императорами и организацией крестовых походов – то с начала XIII в., почувствовав себя победоносным и всевластным, оно обрушивается на вагантов всею силою доступных ему средств. Если в XII в. соборные постановления против нерадивых клириков выносятся нечасто и вяло, словно только по привычке, то в XIII в. чуть ли не ежегодно провинциальные соборы то в Париже, то в Руане, то в Майнце, то в Лондоне поминают «бродячих клириков» самыми суровыми словами. Осуждению подвергается «клирик, поющий песни в застолье», «клирик, занимающийся постыдным шутовством», «клирик, посещающий кружала», «клирик, который пьянствует, играет в зернь, одевается в зеленое и желтое и носит оружие», «клирики, которые ночью бродят по улицам с шумом, дудками, бубнами и плясками» и т. п.[265]265
H. Waddell. Op. cit., Appendix E.
[Закрыть] Осуждение прибегает к самым решительным мерам: если покаяние на виновных не действует, то они лишаются духовного звания и выдаются светским властям, то есть почти прямой дорогой на виселицу.
Здесь, в этих соборных постановлениях, появляется термин, получивший очень широкое распространение: «бродячие школяры, сиречь голиарды», «буйные клирики, особливо же именующие себя голиардами» и пр. Как поэзия вагантов, так и это их название имеет два истока – народный и ученый. В романских языках было слово gula, «глотка», от него могло происходить слово guliart, «обжора», в одном документе XII в. упоминается человек с таким прозвищем. Но кроме того, оно ассоциировалось с именем библейского великана Голиафа, убитого Давидом; имя это было в средние века ходовым ругательством, его применяли и к Абеляру, и к Арнольду Брешианскому. Бой Давида с Голиафом аллегорически толковался как противоборство Христа с сатаною; поэтому выражение «голиафовы дети», «голиафова свита» и пр., обычные в рукописях XIII в., означают попросту «чертовы слуги». Как бы то ни было, слово «голиард» очень скоро контаминировало ассоциации, связанные и с той и с другой этимологией, и распространилось по всей романоязычной Европе; в Германии (например, в Буранском сборнике) оно не употребительно. Таким образом, это был ругательный синоним слова «вагант», – не более того.[266]266
Н. Brinkmann. Goliarden. – «Germanisch-romanische Monatsschrift», 12 (1924).
[Закрыть]
Но когда слово «голиард» было занесено из европейских центров просвещения в окраинную Англию, оно претерпело неожиданное переосмысление. В Англии бродячих студентов не было, и о вагантах-голиардах английские клирики знали только по цветистым рассказам школяров, побывавших в учении на континенте и там навидавшихся и наслышавшихся такого, что и представить трудно было их землякам. И вот здесь, на англо-нормандской окраине Европы, из прозвища «голиард» вырастает целый миф о прародителе и покровителе вагантов – гуляке и стихотворце Голиафе, который «съедал за одну ночь больше, чем святой Мартин за всю свою жизнь». Английский историк Гиральд Камбрийский около 1220 г. пишет: «И в наши дни некий парасит, именем Голиаф, прославленный гульбою и прожорством, и за то по справедливости могший бы именоваться Гулизфом, муж, в словесности одаренный, хотя добрыми нравами и не наделенный, изблевал обильные и многохульные вирши против папы и римской курии, как в метрах, так и в ритмах, сколь бесстыдные, столь и безрассудные».[267]267
Giraldus Cambrensis. Opera, ed. J. S. Brewer, v, IV. London, 1861, p. 291.
[Закрыть] И далее в качестве примера «Голиафовых» стихов он называет «Обличение Рима» и «Исповедь», – первое, как мы теперь знаем, принадлежит кругу Вальтера Шатильонского, а второе – Архипиите Кельнскому. Это значит, что к первой четверти XIII в. классические образцы вагантской поэзии уже были созданы, уже разлетелись по всей Европе, уже потеряли имена своих подлинных авторов и уже искали объединения под именем фиктивного автора, чем более красочно выглядящего, тем лучше. Таким именем и оказался легендарный Голиаф. В англо-нормандских (а затем и во многих континентальных) рукописях этому «Голиафу» последовательно приписываются все сколько-нибудь значительные вагантские стихотворения: «Исповедь», «Проповедь», «Разговор с епископом», «Жалоба папе», «Проклятие Риму», «Проклятие вору», «Спор вина с водой», «Осуждение брака» и, наконец, большие сатирические поэмы «Превращение Голиафово» и «Откровение Голиафово» («Метаморфоза» и «Апокалипсис»), лишь из-за крайней своей растянутости не включенные в настоящий сборник.
Так слово «голиард», последователь «Голиафа», из бранной клички стало гордым самоназванием. А отсюда уже недалеко было до мысли представить голиардство как организованный бродяжий орден со своим патроном, уставом, членством, порядками и праздниками. «Чин голиардский», которым мы открываем наш сборник, – программа этого ордена. Это – поэтическая фикция: в действительности такого ордена никогда не существовало (как не существовало, например, «судов любви», которые тоже изображались в куртуазной литературе как нечто реально существующее). Какой толчок побудил вагантов к созданию этого мифа о бродяжьем братстве ученых эпикурейцев, – об этом нам еще придется сказать в дальнейшем. Во всяком случае, как художественное обобщение и типизация этот «орден» представляет собой образ, превосходно синтезирующий всю суть вагантской идеологии.
Таковы были ученые ваганты XII–XIII вв. – духовные лица, служившие мирской поэзии, носители того нового, что было создано европейской латинской лирикой в пору высшего ее расцвета. «Носители» – слово, очень неопределенное и расплывчатое; в чем же, собственно, заключалось это «носительство»? Попытаемся дать ответ на этот вопрос.








