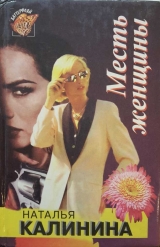
Текст книги "Месть женщины"
Автор книги: Наталья Калинина
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 23 страниц)
В одну из таких длинных ночей Амалия Альбертовна поняла, что должна повидаться с сыном перед смертью… Мысль о ней начала посещать ее давно, чуть ли не со дня возвращения к мужу, однако Амалия Альбертовна была уверена, что никогда не наложит на себя руки. Но и цепляться за жизнь она не собиралась. «Все произойдет само собой, – думала она. – Зачем мне жить? Это так скучно и однообразно».
Она встала с кровати, зажгла свет и, достав со шкафа чемодан, стала без разбора кидать в него вещи. Она не знала, для чего ей были нужны, к примеру, платья, которые на ней не сходились, но у нее сохранился рефлекс – в дорогу нужно собирать чемодан.
Потом она облачилась в черный костюм из американской фланели, который сшила совсем недавно и в котором, как она решила, ее положат в гроб. Надела новые сапоги, покрасила перед зеркалом губы и, подхватив чемодан, вышла в прихожую.
– Ты куда? – спросил Лемешев. Он стоял в дверях гостиной в трусах и майке.
– К Ванечке. – Амалия Альбертовна стала снимать с вешалки плащ. – Ты не беспокойся, я ненадолго.
– Брось глупить. Зачем тебе к нему ехать? Неужели ты не понимаешь, что он не хочет нас видеть?
– Я не стану ему надоедать, – сказала Амалия Альбертовна, просовывая руки в рукава плаща. – Только поцелую, обниму, поглажу по голове. Мишенька, помнишь, как пахнет от его волос? Совсем как в детстве. Я сразу же уеду, чтоб ему не мешать. Хочешь, Мишенька, поедем вместе.
И она просительно посмотрела на него.
– У меня работа, ты же знаешь, – сказал Лемешев, отводя в сторону глаза. – И тебе ни к чему ехать. Глупости все это.
– Нет, я поеду, – возразила Амалия Альбертовна, застегивая плащ. – Он написал в последнем письме, что любит нас.
– Это ничего не значит, все так пишут. Любил бы – мог приехать сам. Великовозрастный балбес, вот он кто. Имея такую специальность и мозги…
– Специальность тут ни при чем, – встала на защиту сына Амалия Альбертовна. – Над мальчиком довлеет страшный рок. От самого рождения. Он ни в чем не виноват. Это… это наследственность.
– Чушь. Бабские бредни. Каждый человек волен сам распорядиться своей судьбой, – сказал Лемешев, закуривая папиросу. – Если я, к примеру, не желаю что-то делать, меня никакой рок не заставит.
– Это тебе так кажется, Мишенька, – сказала Амалия Альбертовна. – Каждый человек раб своей судьбы. Ты тоже.
Она взялась за ручку двери, намереваясь выйти.
– Постой! – вдруг не на шутку разозлился Лемешев и крепко схватил жену за плечо. – Я тебя не отпущу.
– Почему? Ведь если со мной что-то случится, тебе только лучше будет. – Я для тебя обуза. Пусти, Мишенька. Пожалуйста.
– А я говорю, никуда ты не поедешь!
Лемешев схватил жену за плечи обеими руками и попытался оттащить от двери.
Она почти не сопротивлялась.
– Это ни к чему не приведет: ты уйдешь на работу, и я все равно уеду.
– Не посмеешь, – сказал Лемешев. – Я запрещаю! Слышишь?
– Мне до твоих запретов нет дела. Я хочу повидать перед смертью сына, – тихо, но решительно возразила Амалия Альбертовна. – Пусти по-хорошему.
Ее рука снова потянулась к дверной ручке.
Лемешев наотмашь ударил ее по лицу.
Голова Амалии Альбертовны мотнулась в сторону, в уголке рта появилась кровь. Он успел увидеть ее глаза – они были темными и совсем чужими.
Он ударил еще и еще. Когда она осела на пол, он стал ожесточенно бить ее ногами. Она никак не реагировала, и это его распаляло. Он схватил ее за обе руки и поволок в ванную. Она была без сознания, а может, притворялась. Он зажег газовую колонку, напустил в ванну кипятка, вмиг раздел жену и перекинул в воду.
Брызги обожгли, он отпрянул, прикрыв лицо руками. Когда он их отнял, увидел покрасневшие груди Амалии Альбертовны, поднявшиеся торчком, и малиновые складки жира на животе. Она открыла глаза. Во взгляде было удивление и никакого укора. Лемешев схватил ее за волосы и со злостью ткнул лицом в воду.
Потом его стошнило прямо на свою грудь. Амалия Альбертовна еще была жива – он видел это по пузырькам воздуха на поверхности воды. «Черт, почему она не сопротивляется?» – мелькнуло в голове.
Он вспомнил, что в кладовке стоит канистра с бензином, припрятанная на случай дефицита. Он полил бензин ей на макушку. Потом схватил с полки спички, предварительно включив газ.
Взрывом его выбросило в коридор.
Он был жив, когда прибыли пожарные и «Скорая».
– Она сама во всем виновата, – твердил он, едва ворочая окровавленными губами. – Она всегда любила его больше, чем меня…
Анджей Ковальский попросил политического убежища у местных властей, и его просьба, как ни странно, была тут же удовлетворена. Даже не пришлось ехать в Москву. Ему выдали новенький советский паспорт, на предпоследней странице которого стояла жирная печать, уведомляющая о том, что он состоит в законном браке с Анастасией Ивановной Брянцевой. Огласки в прессе это дело почему-то не получило. Видимо, таково было распоряжение сверху. Анджей знал, что за ним наблюдают недремлющие органы, но это его нисколько не смущало. Во-первых, он не занимался шпионской деятельностью, во-вторых, ему слегка льстило, что его персоной интересуются.
Работу ему тоже предложили почти мгновенно: заместителя главного редактора местной газетки. Он шутил по этому поводу, что осталось только вступить в партию и, глядишь, через годик-другой предложат кресло главного редактора «Известий», а то и «Правды».
Их брак был необычным. Идея его, кстати, возникла у Анастасии Ивановны. Как-то за обедом она сказала Анджею:
– Всем на работе я говорю, что ты мой муж. Пообещала устроить банкет или прием в честь этого события. Не возражаешь? Понимаешь, это укрепляет мой статус в глазах сослуживцев. – Она усмехнулась. – Я, кажется, начинаю чувствовать вкус к жизни и даже становлюсь карьеристкой. Так ты не возражаешь?
– Бог мой, конечно же, нет. Какой же я дурак, что первый не предложил тебе это! – Анджей хлопнул себя по лбу, встал и, подойдя к Анастасии Ивановне сзади, обнял ее за плечи и поцеловал в щеку.
Анна Нестеровна, тактично кашлянув, удалилась на кухню.
Сослуживцы, приглашенные в местный ресторан, где был заказан стол на пятьдесят персон, отметили, что жених выглядит моложе невесты, хотя по паспорту было наоборот. Женщины слегка злорадствовали по этому поводу и пытались строить глазки худощавому подвижному американцу с типично славянским лицом. Мужчины завидовали его стройной фигуре и непринужденной манере общения и думали о том, что он, конечно же, пожалеет о своем выборе. (Имелось в виду гражданство, а не жена.) Но все равно было по-настоящему весело. Разумеется, никто не подозревал о том, что новоиспеченные супруги вовсе не супруги (они не только спали в разных комнатах, но не обменялись даже ни единым сколько-нибудь чувственным поцелуем). Анастасия Ивановна краснела, когда кричали «горько», и, неумело обхватив Анджея за плечи, прижималась к его губам своим горячим крепко стиснутым ртом.
Домой вернулись под утро, а поскольку дело было накануне выходных, Анджей предложил прогуляться в поле. Анастасия Ивановна с радостью согласилась, сняла туфли на высоких каблуках, колготки, надела сарафан, вынула из головы шпильки. Анджей переодеваться не стал. Он ждал жену в столовой, постепенно наполнявшейся алым светом утренней зари.
Они бродили до полудня. Отдыхали в стоге свежескошенного сена, лежа друг от друга на приличном расстоянии и оба думая о том, что их ненормальные с точки зрения нормальных людей отношения вполне друг друга устраивают и ими следует дорожить.
– Как хорошо, – сказала Анастасия Ивановна, нежась в мягком сене. – Если бы мне сказали об этом три года назад, ни за что бы не поверила. Мужчины ведь скоты. Ты даже представить себе не можешь какие…
– Почему же? – возразил Анджей. – Я сам был когда-то, как ты выражаешься, скотом.
– Вот уж никогда не поверю… – Анастасия Ивановна потянулась и застегнула пуговицу на груди. – Скотами рождаются, скотами и умирают.
– В данном случае ты не права, Стася. Помню, в юности мне хотелось попробовать всего. И этого, как ты выражаешься, скотства тоже. Мне казалось, я должен знать о жизни как можно больше. А мужчина склонен познавать окружающий мир в основном через отношения с женщиной. Так вот, могу тебя заверить, я предал всех, кого любил. То есть бросил на произвол судьбы. Сейчас мне кажется, что я сделал это из малодушия. Романтики больше всего боятся остаться разочарованными.
– Я не понимаю тебя, Андрюша, – сказала Анастасия Ивановна. – Как можно уйти от того, кого любишь?
Анджей усмехнулся.
– Для меня самого это до недавних пор оставалось загадкой. Более того, я долгие годы считал себя сильной личностью. Пока не понял, что это далеко не так. Я самый настоящий трус и неудачник.
– Это попахивает достоевщиной, – заметила Анастасия Ивановна. – Знаешь, я не приемлю этого писателя. Мне кажется, почти все его герои люди психически ненормальные.
– Это так. – Анджей вскочил и, стряхнув с брюк сено, подал Анастасии Ивановне руку и помог подняться.
– Самое главное, что я не импотент, что мне снятся сладострастные сны, что я… – Он осекся, прищурил глаза и внимательно посмотрел на жену. – Да, я продолжаю считать женщин существами возвышенными, окутанными романтической тайной. Но мне уже почему-то не хочется эту тайну разгадывать. Наверное, потому, что не очень уютно оставаться в дураках.
– Понятно. – Анастасия Ивановна обиделась, но постаралась не подать вида. – Нечто аналогичное испытываю и я. Пошли. Мама наверняка ждет нас завтракать…
Что касается журналистики, тут Анджей был профессионалом с большой буквы, но, разумеется, оценить это могли немногие. При нем газета стала интересной, подняла тираж. Естественно, у него появились завистники, враги. Но даже недругов обезоруживало нежелание Ковальского вступать с кем бы то ни было в перебранку, заниматься интригами. Казалось, этот человек доволен и мизерным окладом, и низкими гонорарами. Его не выводили из себя инквизиторские изощрения провинциальной советской цензуры, убогий быт, не волновало отсутствие каких бы то ни было перспектив. Органы это озадачивало и заставляло усиливать бдительность. Сослуживцы недоумевали. Анастасия Ивановна с энтузиазмом разыгрывала роль горячо любимой супруги.
Жизнь Анджея Ковальского, как и жизнь провинциального городка N текла своим неспешным чередом.
До того времени, как началась война в Афганистане.
Анджей не одобрял, но и не осуждал советскую политику в отношении этой бедной мусульманской страны, – точно так же в свое время он не испытывал ни каких чувств по поводу вторжения во Вьетнам американцев. Подобные события Анджей Ковальский привык расценивать с сугубо профессиональной точки зрения. В нем, как и тогда, вновь проснулся жгучий интерес к военной журналистике, он бредил репортажами, которые мог бы передать независимым агентствам из этой в настоящий момент самой горячей точки в мире. Впервые за последние годы он пожалел о том, что сменил гражданство. Ночами он слушал «Голос Америки» и прочие свободные волны, и его выводила из себя бездарность идеологов антисоветской пропаганды. Днем читал советские газеты и смеялся над тем, что там писали. Он дал себе слово, что рано или поздно непременно попадет в Афганистан в качестве независимого журналиста. Он был уверен в том, что война продлится долго.
Когда в их город доставили первый цинковый гроб, и Анастасия Ивановна, сообщая эту новость, сказала за ужином: «Я считаю наше правительство шайкой преступников», а в Анне Нестеровне вдруг вскипел патриотизм, и она обозвала дочь «скудоумной мещанкой», Анджей понял, что просто обязан написать статью, в которой скрупулезно проанализирует раскол в советском обществе, вызванный афганской войной. Не только написать, а опубликовать ее за границей. Он пил чай, не очень вникая в спор матери с дочерью, и думал о том, что в Европе война, как правило, вела к развалу системы, ее развязавшей, выступала в роли ее могильщика. Неужели Советский Союз не понимает, что его ждет? И Анджею уже слышалось позвякивание лопаты о камни на кладбище социализма. Женщины спорили до хрипоты. Он же на вопрос жены: «А что думаешь по этому поводу ты?» – коротко ответил:
– Из меня никудышный политик.
В тот же вечер они сидели вдвоем на веранде. Анджею вдруг захотелось коньяка, и Анастасия Ивановна поддержала компанию. Она мгновенно опьянела и ни с того ни с сего расплакалась, уронив голову на стол.
– В чем дело? – спросил Анджей. – Я тебя чем-то обидел?
– О Господи, нет, конечно. Это все нервы. – Анастасия Ивановна продолжала плакать. – Последнее время я живу на нервах.
Анджей встал и, подойдя к окну, стал барабанить пальцами по тоненько позвякивающему стеклу.
– Я тебя прекрасно понимаю, – сказал он. – Видишь ли, дело в том, что…
– Ты меня не понимаешь. Нет. Дело в том, что я сама этого не хочу.
Он обернулся и удивленно посмотрел на нее, словно впервые увидел эту женщину с полными белыми руками и добрым заплаканным лицом.
– Не хочешь? Но почему?
– Боюсь тебя потерять. Ты уйдешь, когда это случится. Мне снился сон… Я не верю снам, но там было как на самом деле. Я очень боюсь потерять тебя, Андрюша.
– Послушай, махнем в Москву, а? – вдруг предложил он. – Я, кажется, засиделся на одном месте. Да и ты тоже. Решено?
Им забронировали номер в гостинице «Варшава». Когда Анастасия Ивановна вошла в комнату и увидела одну широкую кровать, застланную мохнатым синтетическим покрывалом в серо-черную клетку, она растерялась.
– Андрюша, но… – начала было она и осеклась, увидев озорную улыбку на его лице.
– Мы положим между нами вот это, – сказал он, вытаскивая из портфеля свой черный складной зонт. Он нахмурился, подумав о том, что зонт формой смахивает на тот золотой фаллос, которым он ублажал при первой их встрече Сьюзен Тэлбот, тряхнул головой и расхохотался. – Прости за двусмысленность, ладно? Клянусь, это вышло случайно…
Он повел жену обедать в «Националь».
Анастасия Ивановна была в восторге от изысканных закусок и горячих блюд, сервировки стола и вида из окна на кремлевские башни под густо синеющим вечерним небом. Потом они пошли по улице Герцена в сторону Никитских Ворот, и Анджей предложил зайти в Консерваторию. Там только что началось второе отделение симфонического концерта, их пропустили без билетов. Это была современная музыка, и у Анастасии Ивановны разболелась голова. Они вышли на воздух и решили пройтись до гостиницы пешком.
– Стася, ты завтра пройдись по магазинам. Вот тебе деньги. – Он на ходу переложил из кармана пиджака в ее сумочку две запечатанные пачки новых двадцатипятирублевок. – Оденься, обуйся, ну, и все прочее. А у меня… Понимаешь, у меня важная встреча. Ты не жди меня к обеду, ладно?
– Зачем мне столько денег? Да тут целое состояние, – растерянно проговорила Анастасия Ивановна.
– Ерунда. – Он остановился, зашел вперед и, приподняв лицо за подбородок, вдруг по-настоящему поцеловал в губы.
Она не успела его оттолкнуть. Ей стало жгуче стыдно – вокруг столько народу. Она вспомнила об их широкой кровати и поняла, что это неминуемо случится.
От прежних времен Анджей сохранил в памяти несколько телефонов. Один из них ответил. Его узнали, и он условился о встрече. Шел он на нее не с пустыми руками. Статья получилась. В ней были только факты и их анализ. И никакой идеологии. Тот, к кому он шел, непременно должен был ее оценить.
Он ехал в метро, чтоб уйти от слежки, если таковая велась. Это была та самая игра, которая возвращала его в дни молодости. Человек, к которому он ехал, знал его еще по материалам о конфликте вокруг Суэцкого канала и уважал за профессионализм.
– Написано здорово, но ты делаешь слишком далеко идущие выводы, – сказал Ронни, с ходу прочитав статью. – Мне кажется, здешняя система нерушима. По крайней мере, в обозримом будущем.
– Мне самому так казалось до недавних пор, – сказал Анджей, с удовольствием закуривая настоящие сигареты «Мальборо». – До первого гроба, доставленного с театра военных действий в город, где я жил последние несколько лет. Крах произойдет не сейчас, и агония продлится долго, но, поверь мне, когда это случится, на защиту старого выйдут единицы против тысяч и тысяч тех, кто будет его ниспровергать. Порой я готов был поверить в то, что план этой агрессии был разработан в кабинетах Центрального Разведывательного Управления. Но слишком уж это смахивает на шпионские сериалы.
– Когда дело касается внешней политики, слишком не бывает ничего, – возразил Ронни, засовывая статью себе в папку. – У нас в Америке ты вряд ли найдешь много единомышленников, однако уверен, большинству это будет интересно. Ты хотел поговорить со мной о чем-то еще?
– Да. Я бы хотел вернуться.
– Вот как? – Ронни удивленно глянул на Анджея поверх своих очков. – И когда?
– Чем скорее, тем лучше. Разумеется, без лишнего шума. Я бы не хотел стать причиной очередной антисоветской кампании.
– Да, последнее время их слишком много и не все по делу. Как будто в мире существует государство, которое бы не ущемляло прав своих граждан.
– Самое интересное, что в Штатах я чувствовал это острее, чем здесь.
– И чем ты это можешь объяснить? – с нескрываемым интересом спросил Ронни.
– Нашим славянским менталитетом. Тебе приходилось когда-нибудь слышать выражение: «Я – как все?» Нет? А здесь оно звучит на каждом шагу. Все живут в тесноте, и я тоже. Все стоят в очереди. Все получают мало денег. Ну, и так далее. И от этого становится легче жить. Я не знаю, к какой расе принадлежал самый первый идеолог христианской религии, однако эти идеи расцвели пышным цветом именно в России. Вы, американцы, всерьез относитесь только к деньгам, мы, русские, лишенные возможности их зарабатывать, пытаемся наполнить жизнь нематериальным смыслом. Первые христиане, как ты помнишь, были рабами. Ронни, американцы должны помочь русским увидеть себя со стороны.
Анастасия Ивановна летала по Москве как на крыльях. Ей нравились просторные светлые магазины, улицы, запруженные нарядными красивыми людьми, она с удовольствием вдыхала запах выхлопных газов… В их городе даже в центре всегда пахло цветами или мокрой корой деревьев, а зимой воздух словно был пропитан запахом антоновских яблок.
«Да тут же все есть, – думала она, глядя на прилавки больших магазинов. – Три-четыре сорта колбасы, куры, везде сливочное масло… Вот бы у нас так было. Настоящий коммунизм».
В их городе почти все продукты распределялись по карточкам. Это произошло как-то незаметно, и многие даже испытали облегчение от того, что исчезли километровые очереди. Те, кто ездил в командировку или в гости в Москву и Ленинград, рассказывали об изобилии в столичных магазинах. Таких, кто был за границей, Анастасия Ивановна пока не встречала. Она считала по своей наивности, что жизнь в Москве ничуть не хуже жизни в Париже или любой другой столице цивилизованного мира. Возможно, даже лучше, думала она. По крайней мере, в Москве чище.
Так писали в газетах и журналах побывавшие за рубежом. У Анастасии Ивановны не было причин не верить этим людям. Подтверждением тому, что жизнь в нашей стране лучше, чем на Западе, служил выбор ее мужа. Она была достаточно самокритична, чтоб не верить в то, что он принял советское гражданство из-за любви к ней.
Правда, минувшей ночью она в это почти поверила.
Ей было стыдно своего уже немолодого тела, и она попросила мужа погасить свет. Только когда он это сделал, сняла ночную рубашку и, аккуратно сложив, положила на тумбочку возле кровати.
От него пахло коньяком и сигаретами. Эти запахи перенесли Анастасию Ивановну в какой-то иной мир, в котором жили любимые киногерои, дикторы Центрального телевидения, эстрадные певцы… За долгие годы одиночества она привыкла расходовать на них запас любви и принимать на свой счет растиражированную на всю страну улыбку, наигранно-заинтересованный взгляд и даже слова любви. Потом, когда появился Анджей, когда она поняла, что полюбила его и очень боится потерять, Анастасия Ивановна приказала своей плоти молчать. Плоть оказалась послушной. Анастасию Ивановну целиком поглотили духовные взаимоотношения с мужем, она была покорена его чуткостью, и все остальное отошло на задний план.
И вот теперь ее тело хочет мужчина, которому она давно отдалась душой.
Ей стало не по себе. Она напряглась. И когда его ладонь коснулась ее живота, попыталась вобрать его под ребра.
– Не надо, – сказал Анджей. – Ты нравишься мне такой, какая есть. Я не хочу никакой другой женщины.
Она не испытала оргазма, но каждая клеточка ее тела бурно ликовала. Импульсы наслаждения посылал мозг, отчего оно казалось возвышенным. «Ты занимаешься любовью с таким мужчиной, – звучало в ней, и это сковывало плоть, зато возбуждало дух. Анджей сказал, что она изумительная женщина и что с ней можно заниматься любовью несколько часов подряд. Она не смогла объяснить ему, почему не испытала оргазма. (Его это обстоятельство, похоже, слегка расстроило. Правда, он почти мгновенно заснул. Зато утром снова захотел ее любви.)
Она купила австрийский костюм-тройку, гэдээровские комбинации, французские духи, чехословацкие сапоги… Устыдившись своей жадности и эгоизма, стала покупать трусы, майки, носки, рубашки – для мужа.
В гостиницу Анастасия Ивановна вернулась к пяти часам, нагруженная картонными коробками и полиэтиленовыми сумками. Анджея еще не было. Она легла, решив дождаться его возвращения, хотя была очень голодна.
Он не пришел и в восемь.
Анастасия Ивановна стала нервничать. Открыла сумочку с лекарствами, чтоб накапать валокардина. Там лежал сложенный вчетверо листок.
«Спасибо. И не надо слез. Я себя здесь исчерпал. Если когда-нибудь мне позволят вернуться, обязательно увидимся. Тебя никто не тронет – я ухожу без лишнего шума.
Я оказался недостойным твоей любви».
Прочитав записку, Анастасия Ивановна еще долго держала ее в руке. Потом одна за другой выдавила на ладонь таблетки тазепама из большой покрытой фольгой пластинки и, разложив их на три кучки, проглотила, запив горячей водой из-под крана. Переоделась во все новое, разумеется, и не подумав оторвать ярлыки. Легла на кровать, сложила на груди руки и закрыла глаза.
Через несколько минут она вспомнила, что у Анны Нестеровны недавно одна за другой поумирали все сестры. И что у нее сахарный диабет и хронический пиелонефрит. Еще она вспомнила, что отец перед смертью переписал дом на нее, и у матери теперь наверняка возникнут проблемы с Виктором, сыном отца от первого брака. Мать ни за что не переживет суда.
Анастасия Ивановна протянула руку, сняла телефонную трубку и набрала «03».
Сью держалась великолепно. Это она распоряжалась действом похорон, направляя его в должное – в меру торжественное и в меру скорбное русло. Она сидела в инвалидной коляске вся в черном шелке и с абсолютно сухими горящими от возбуждения глазами. Тэд стоял за ее спиной, послушный каждому слову и жесту сестры. Когда все было кончено и свежий холмик покрыли пышные венки живых цветов, она кивнула головой Тэду, и тот подвез ее к Маше, сидевшей на корточках возле могилы.
– Все о’кей, сестра, – сказала она. – Кэп хочет, чтобы ты жила. Я тоже этого хочу. А желания Сью Тэлбот – закон. Пора уходить. Кэп был истинным итальянцем, и мы должны почтить его память в кругу его соплеменников. В их компании тебе полегчает, сестра. Потом я увезу вас с Лиз в Лос-Анджелес.
– Я останусь с Джельсомино и Аделиной, – тихо возразила Маша.
– Не стоит. Вы будете растравлять друг в друге скорбь. С ними останется Лючия – она уже, считай, на ногах. А ты должна подумать о Лиззи.
– Да. Но я не могу уехать сразу. Он… его душа еще здесь.
– Это все глупости. Не думаю, что кэп обрадуется, если ты свихнешься из-за него. Мы улетим завтра.
– Да, но…
– Хорошо, послезавтра, – решительно заявила Сью. – Тэд, помоги ей, – велела она брату. – Я закажу надгробие в виде парусника. Нет, кэп, не бойся – никакого гранита и могильных плит. Это будет самый настоящий парусник. Правда, не такой большой, каким ты командовал, когда мы с тобой познакомились. Зачем тебе одному такой большой корабль? – Она украдкой смахнула слезу и сказала, обращаясь к брату: – Ну вот и воссоединилась наконец наша семейка. Думаю, дед будет счастлив. Тем более теперь, когда у него появилась еще и правнучка. О, они с Лиззи прекрасно поладят. – Она попыталась улыбнуться. – Моя племянница наверняка оправдает надежды, которые дед возлагал на ее непутевую тетку. Вперед, Тэд, твои сестры проголодались. Ты не знаешь, почему в этом городе все время капает с неба? – говорила она, размазывая по щекам безостановочно льющиеся слезы. – Пропал мой макияж. Эти чертовы парфюмеры все никак не научатся делать водостойкую косметику.
Ваня с отцом переплыли в лодке через реку, пристав чуть ниже по течению от шалаша.
– Я не был здесь лет… семнадцать. Да, ровно семнадцать лет, – говорил Толя, карабкаясь на песчаную кручу, намытую земснарядом. Отсюда была видна окутанная серой дымкой предвечерья линия далекого горизонта, почти сросшаяся с лугом. – Она меня уже тогда не любила – в ней жила тоска по нашему прошлому.
Ваня понял, что отец говорит о матери. Он вдруг ощутил боль от того, что ее нет рядом. Наверное, он должен был ощутить и обиду, но боль вытеснила все чувства.
– Расскажи мне… о ней, – попросил он отца, садясь на теплый рыхлый песок возле его ног. – Мне нужно знать все, что знаешь о ней ты.
Толя тоже сел. Краем глаза Ваня видел его вытянутую левую ногу в стареньких брюках защитного цвета. Он ощутил волнение, исходившее от отца.
– Это почти невозможно выразить словами, – начал Толя. – Все эти годы я думал о ней как бы без слов. Не знаю, почему случилось так, что она обратила внимание на меня, – я тогда весь был в струпьях и зеленке и жил в бараке с двоюродной тетей и ее семьей. А она приехала и забрала меня оттуда. И я попал в настоящий рай: море, музыка, девочка-лебедь с большими восхищенными глазами. Это потом я уже понял, что она не мной восхищалась и не меня любила – ей вдруг открылся диковинный мир, а я в это время случайно оказался рядом.
– Нет, это было не случайно, – неожиданно горячо возразил Ваня. – Я не верю в хаос. В хаос верить нельзя, понимаешь?
– Я тоже думал об этом. – Толя шевельнул большим пальцем ноги, и Ваня понял внезапно, что этот жест передался ему в точности, и даже вспомнил, что уже в раннем детстве в минуты задумчивости всегда шевелил большим пальцем левой ноги. «Значит, я не прав насчет хаоса, – пронеслось в мозгу. – Если бы в мире царил хаос, то этого жеста не было бы у меня. А раз он есть, значит…» Он не успел додумать фразу – отец снова заговорил. – Но если в мире царит порядок, его поддерживает кто-то несправедливый и жестокосердный. Я понял это и…
– Ты отказался от Бога, – спокойно констатировал Ваня. – Ушел из монастыря и…
– Нет. Когда я уходил оттуда, я все еще верил в него. Просто мне захотелось остаться наедине с моей верой. Хотелось постичь Бога и его пути самому, без подсказки. Я понял, что церковники те же школяры, которые боятся оторваться от учебника. К тому же мне было противно лицемерие. Ведь если они верят в существование Всевышнего, как они могут предположить хотя бы на минуту, что он не видит их нечестивые деяния? Да ладно, это их дело. Но самое страшное, что я… одно время я считал Машу чуть ли не ведьмой.
Он беспокойно шевельнулся, и песок осыпался в воду.
– Она мне весь мир заслонила, – продолжал Толя глухим голосом. – Я обращался с молитвой к Богу, а вместо него видел ее. Она приходила во сне, подстерегала в часовне, куда я от нее прятался. Там висел большой строгий лик Спасителя в терновом венце. Я плел себе венки из колючих веток акации и однажды с неделю носил его. Но все было напрасно. Боль физическая лишь усиливала во мне боль душевную. Она с каждым днем становилась нестерпимей.
– Но ведь ты мог написать ей письмо, позвонить или даже поехать к ней, – сказал Ваня. – Но я бы на твоем месте тоже этого не сделал. Я гордый. Тем более, ты был бедным.
– Я страшно страдал от этого. Догадывался, что отец не хочет меня признавать, что я мешаю его продвижению по служебной лестнице. Ведь моя мать умерла в тюрьме, что называется, во имя Христа. К тому же я отца побаивался и так и не успел полюбить. – Толя вздохнул и снова пошевелил большим пальцем левой ноги. – Представляю себе, что чувствовала она. Когда они с Устиньей приехали ко мне – дело было зимой, под самое Рождество Христово, – и я видел ее лицо, мне показалось, я сойду с ума или сотворю что-то с собой. Наверное, я на самом деле сошел с ума – ведь я оттолкнул ее, предал. Поначалу я гордился, что отказался от того, чего желал больше всего на свете. А потом задумался: я это сделал? Во имя того лика в часовне, в глазах которого ясно видел наслаждение предсмертной мукой? И уже тогда я задался вопросом: почему Иисус Христос так возненавидел плоть? Весь языческий мир ее обожествлял, слагал в честь богини любви гимны, славил богов плодородия, а Христос призывал к девственности. Ну да, он вынужден был смириться с тем, что род людской будет продолжаться и множиться на Земле, однако самые верные его последователи должны были остаться девственниками. Но почему он считал плотскую любовь нечистой?
Мне казалось, когда я прикасался к Маше, я превращался в Бога. Пускай языческого. Но это ощущение парения среди звезд… оно похоже, нет, оно гораздо сильнее того восторга, какой испытываешь в минуты откровения, когда тебе кажется, что Бог внемлет твоим молитвам.
– Отец, но я думал… Правда, я никогда не молился Богу, но когда я читал в книгах о любви, она всегда казалась мне прекрасной, – смущаясь, заговорил Ваня. – И поначалу, когда у нас с Ингой случилось это… – Он задохнулся на мгновение, обожженный воспоминанием о наслаждении от ласк Инги. – Но это было совсем не похоже на то, о чем ты говоришь. Я сейчас ненавижу свое тело. Потому что это было так грязно, так…
Он замолчал и крепко стиснул зубы.
– Я не стану убеждать тебя в обратном, – заговорил Толя. – Быть может, и тебе посчастливится встретить ту, что соединит в себе небо и землю.
– Это все выдумки писателей. Я тоже любил раньше художественную литературу. Теперь – нет: я ей не верю.
– В ту пору, когда мы с ней встретились, я еще не успел прочитать ни одной книги, кроме Библии, ну и тех, что мы проходили в школе, – продолжал свой рассказ Толя. – Я совсем не думал о женщинах и о любви. В кино меня не водили – нам это было не по карману. Я не мог про нее ничего придумать – я полюбил ее такой, какой она была. И, наверное, осталась. Думаю, она не изменилась.
– А потом появился этот Ян, – продолжал вспоминать Толя. – Я лежал в больнице и думал со злорадством о том, что больше никогда не смогу встать. С Машей в это время приключилась странная история – она несколько дней прожила в квартире своей матери, но почти ничего не помнит из того, что там происходило. Там оказалась какая-то цыганка, которая пыталась заставить Яна насильно ее полюбить. Похоже, она их обоих загипнотизировала, но Маша очнулась первой. Дверь была заперта, ключа не оказалось нигде, и она выбралась из окна по дереву и прибежала домой. А потом… Нет, остальное все так странно и неправдоподобно…








