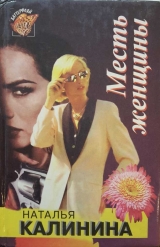
Текст книги "Месть женщины"
Автор книги: Наталья Калинина
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 23 страниц)
Ваня видел ее острые белые груди, торчащие из воды – косынка сбилась на живот. Не раздумывая, он бросился в реку и поплыл следом. Метрах в пятнадцати от берега выступала мель. Здесь местами было по пояс и даже мельче. Он схватил девушку за талию, едва ее ноги коснулись песчаного дна. Они барахтались, сцепившись в шутливой схватке, пока оба не очутились под водой. Ваня успел нахлебаться вдосталь, в носу и в горле противно засвербило. И тем не менее он крепко прижал к себе еще не успевшее охладиться в воде тело Инги, резким движением сдернул трусики. Ему казалось, будто девушка тает в его руках.
– Совсем как в книжке – помнишь, ты рассказывал? – прошептала она с закрытыми глазами. – Любовь из книжки. Здорово-то как…
После ужина они сразу ушли к себе во флигель. Инга заснула, едва коснувшись головой подушки. Она лежала, как показалось Ване, в неживой позе со сложенными на животе руками и запрокинутой в крутом изломе шеи головой. Ему вдруг сделалось не по себе, и он пригляделся – дышит ли Инга. Все было в порядке: грудь девушки мерно вздымалась, она чуть улыбалась во сне.
Ване не спалось. На дворе еще было светло – только что село солнце. Он очень любил сумерки. Они отличались от остального времени суток своей непостижимой ирреальностью, как бы обещая исполнение самых неисполнимых – трансцендентных – мечтаний. В детстве он часто плакал в сумерках. Это были сладкие слезы о чем-то прекрасном, но, увы, несбыточном.
Осторожно, чтоб не потревожить спящую Ингу, Ваня спустил на пол ноги, натянул на голое тело джинсы и вышел во двор.
Длинная алая полоска зари над рекой напоминала огненный мост. Заречные дали на глазах растворялись в жемчужно-сером тумане, который густел и наливался синевой надвигавшейся ночи. Ваня обошел вокруг темного – ни одного огонька в окне – дома. Странную жизнь ведут его обитатели: нет телевизора, старый приемник накрыт искусно вышитой гладью салфеткой. И, похоже, никаких газет либо журналов. Книги, правда, есть, но главным образом словари, учебники английского и несколько книжек-покетов в мягкой обложке. Ваня не мог себе представить, что дядя читает по-английски. Но если не он, то кто тогда?..
Он зашел в дом. Тихо. Наверное, все легли спать. Дядина комната самая дальняя справа по коридору. Тетя спит на веранде на полу в окружении целой горки пестрых подушек. Ваня невольно улыбнулся, вспомнив это романтическое – цыганское – ложе в углу просторной светлой веранды, выходящей на реку. Вообще в тете Нонне есть что-то цыганское, хоть она светловолосая и очень полная – Ваня почему-то всех цыганок представлял худыми. Какая-то она диковатая и, кажется, себе на уме. Очень любит дядю Толю и не скрывает этого. Любит как-то униженно, просительно. А он милостиво разрешает себя любить…
В какой-то из комнат лежит старенькая больная бабушка, его, Вани, прабабушка, правда, не родная. Но мама очень любила дедушку Колю, своего отчима, и часто его вспоминала. Родного отца не вспоминала никогда. Ваня только и знает про него, что он был поляком. Кажется, про это сказал ему дядя Ян…
Он машинально толкнул какую-то дверь и очутился в темной комнате. В нос ему ударил спертый воздух, запах дешевого одеколона, плесени, чего-то еще, чему он не знал названия. Два окна закрыты ставнями – он заметил это, когда обходил вокруг дома, в третьем смутно темнели очертания холмов на фоне ярко-синего неба. Вид почти как из окна их с Ингой комнаты во флигеле. Скоро на небе проявится слегка накрененный влево ковш Большой Медведицы. Ване снилось в прошлую ночь, будто ему на голову падают прохладные светящиеся капли.
– Кто? – послышался тихий шелестящий шепот из угла.
Ваня пригляделся. Глаза, привыкшие к темноте, различили прикрытый простыней силуэт человеческого тела на кровати. Наверное, это и есть его прабабушка.
– Здравствуйте, – сказал он. – И извините, пожалуйста, если я вас разбудил. Я Иван, ваш… правнук. Я… мы приехали из Москвы в гости к дяде Толе. Бабушка, как вы себя чувствуете?
– Здравствуй, внучек, – неожиданно звонким и бодрым голосом сказала Таисия Никитична. – Ты меня не разбудил – я не сплю ночами. Открой форточку и садись на табуретку возле окна. От меня неприятно пахнет. Даже одеколон не помогает. Гнию заживо.
– Что вы, бабушка… Вовсе нет, – бормотал Ваня, смущенный такой откровенностью Таисии Никитичны. Но в точности выполнил оба ее наставления.
– Вот так лучше. – Она теперь говорила тихо, но внятно выговаривая каждое слово. – Света у меня в комнате нет – я ведь почти слепая. Но я разглядела тебя, когда ты только вошел. Это было похоже на вспышку при фотографировании. Ты рослый и красивый парень. Похож на мать. Да и на отца тоже.
Ване вдруг сделалось не по себе – показалось, бабушка видит его насквозь и даже знает, что под джинсами нет ничего. Он беспокойно заерзал на табуретке.
– Да ты не смущайся меня. Я рада, что ты приехал. Теперь и умереть можно спокойно, а то все что-то мучило, на душу давило. Как-никак ты моя родная кровушка.
Ваня не стал вносить уточнения относительно степени их родства – какая ему разница? Если бабушке так хочется, пускай считает его родным по крови. Он против этого ничего не имеет. Тем более что родство по крови, в сущности, ерунда. Ваня безоговорочно верил в родство душ.
– Тебе уже шестнадцать, да? А эта девушка, что с тобой приехала, она постарше тебя будет? – неожиданно спросила Таисия Никитична.
– Инга? Всего на один год, – сказал Ваня и почувствовал, как вспыхнули щеки. – Она моя невеста, бабушка.
– Невеста… Ты, я вижу, скор на решения. И дед твой таким же был. Не сложилась у него жизнь, хоть и в больших начальниках ходил. Я считаю, сам во всем виноват – Агнесса была бы ему верной женой.
– Агнесса? А кто это? – Ваня внезапно ощутил непреодолимое любопытство. Имя «Агнесса» казалось ему нездешним, окутанным романтической тайной. Он никогда не слыхал от своих родственников ни о какой Агнессе. Между тем Таисия Никитична продолжала, как бы беседуя сама с собой:
– Ну да, он уже в те годы на своей партии помешанный был, а она богомолка, баптистка к тому же. Он быстро все в уме просчитал и понял: или Агнесса с ее Богом, или партия с Лениным. Не знал он тогда, что ребеночка ей смастерил. Ну а если бы и знал? – Таисия Никитична совсем по-детски – залихватски – шмыгнула носом. – А плевать он на все хотел. Мужика в таком возрасте никакими сантиментами не удержать. Это он после к Машке всей душой прилип. Ох и любил мой Колька твою маму.
– А что случилось с… Агнессой? – робко поинтересовался Ваня, все еще испытывая на себе чары этого странного имени.
– Умерла она. В тюрьме. Сталин все секты запретил. Это его наши попы науськали. Он перед смертью с попами ладить начал.
То, о чем говорила сейчас Таисия Никитична, казалось Ване далекой историей. Еще более древней, чем война с Наполеоном или восстание Степана Разина. Советская история его не интересовала ни с какого бока – она была слишком гладкой, точно покрытой несмываемым бесцветным лаком, и от того казалась неживой. По мере возможностей Ваня избегал каких бы то ни было соприкосновений с нею, хотя, разумеется, приходилось брать в руки те же школьные учебники, читать перед экзаменами в университет скучные брошюры. Внезапно ему пришло в голову, что его прабабушка – живая участница этой самой советской истории. Правда, ей уже, наверное, девяносто, если не больше, и она вполне могла впасть…
– Бабушка, сколько вам лет? – внезапно спросил он.
– Восемьдесят семь будет двадцать пятого октября по старому стилю, – без запинки отчеканила Таисия Никитична. – Я родилась точь-в-точь в день, год и даже час смерти Петра Ильича Чайковского. Слыхал небось про такого?
– Еще бы. Я люблю классическую музыку. Очень, – смущенно пробормотал Ваня. Бабушка, похоже, прочитала его мысли.
– А отец твой пешком под стол ходил, когда это случилось, – продолжала Таисия Никитична, начав с того самого места, где ее рассказ прервал вопрос правнука. – Считай, круглым сиротой остался, и если бы не Устинья, скорее всего не было бы его, горемычного, сейчас на свете. Правильной женщиной эта Устинья была. Превыше всего справедливость в человеческих отношениях ценила. Да будет земля ей пухом и благослови Господь ее добрую душу, хоть она и не нашей веры была. Тебе рассказывали про бабушку Устинью?
– Да. И я видел ее фотографию. Кажется, она была родной матерью дяди Яна. – Ваня усиленно ворошил память, пытаясь извлечь из нее связанное с ранним детством. Когда исчез дядя Ян, а потом уехала мама, с ним никто не говорил на эти темы. На антресолях квартиры на Мосфильмовской пылились две картонные коробки. Ваня подозревал, что там были фотографии и какие-то бумаги, принадлежавшие маме и ее родне. Он так и не удосужился добраться до этих коробок.
– Может быть. Все может быть, – загадочно сказала Таисия Никитична и беззвучно пожевала деснами, ощутив во рту колючую сухость. – Дай мне, пожалуйста, кружку с питьем. К губам поднеси – у меня последнее время руки плохо держат… Спасибо, внучек. – Она замолчала, видимо, собираясь с силами. – Это Устинья познакомила твою мать с отцом – Николай поначалу ни в какую не хотел сына признавать. Не потому, что такой уж бесчеловечный был, а просто за свою карьеру боялся. Ну да, и они сразу друг в дружку влюбились, хоть еще совсем детьми были. Устинья им во всем потакала. И правильно делала. Понимаешь, грехом частенько называют не то, что на самом деле грех, а то, что для многих непонятно. Но это только в глубокой старости осознавать начинаешь. В старости вроде бы как заново ребенком становишься и жизнь с другого бока начинаешь видеть.
– Вы говорите, мама влюбилась в моего отца еще в детстве? Но почему же тогда он часто повторяет, будто она никогда его не любила? Особенно когда… выпьет здорово, – спрашивал Ваня, все больше и больше вживаясь в рассказ Таисии Никитичны, но толком еще ничего в нем не понимая.
– Говори мне «ты». С чего это ты вдруг выкаешь? Я ж тебе прабабка родная. Соломина я. И ты Соломин. По крови.
– Я по маме Соломин, хоть это фамилия ее отчима, то есть вашего сына. Но он удочерил мою маму, – сказал Ваня.
– И по отцу ты Соломин. Соломин Иван Анатольевич. Мне об этом твоя мама сказала еще тогда, когда ты только в проекте был. Она со мной откровенной была.
– О чем сказала? – не сразу дошло до Вани.
– Ах ты, наивная душа. Дядя Толя тебе никакой не дядя, а родной отец. Твоя мама любила его. Ой как любила. А он, бирюк чертов, в монастырь от любви спрятался. Потом локти кусал и руки хотел на себя наложить. Но Бог Нонну послал, чтоб спасти его, дурака.
– Но этого не может быть! – воскликнул Ваня и, вскочив, опрокинул табурет. – Бабушка, вы… ты все перепутала. Или забыла. Мне все говорят, я очень похож на своего отца. А мой отец – Дмитрий…
Из угла послышался тихий ровный храп. Таисия Никитична, утомленная изнурительно длинным для нее рассказом, крепко заснула. В окно уже смотрели звезды. Верещали цикады, в листьях деревьев вздыхал легкий теплый ветер.
Ваня вышел в коридор. Огляделся по сторонам, забыв, в какую сторону выход. Из-под двери слева проглядывала тусклая полоска света. Кажется, там дядина мастерская.
– Дядя, можно я с тобой посижу. Мне… мне страшно, – сказал Ваня и опустился прямо на пол под занавешенной белой тряпкой картиной. – Я тебе не помешаю?
Он заметил только сейчас, что на столике возле накрытой трехлитровой банкой свечи стоит початая бутылка водки и граненый стакан. Открытие, что дядя Толя пьет, к тому же в одиночестве, почему-то огорчило Ваню.
– Да нет, наверное. Водки хочешь?
– Пожалуй, выпью.
Ваня протянул руку, обхватил пальцами ребристую прохладу стакана. Он никогда в жизни не пил водку – от нее исходил тошнотворно отталкивающий запах. Сейчас он почему-то его не ощущал. В голову ударило почти в ту же секунду. Душе стало свободно и просторно. Захотелось сделать что-нибудь хорошее. Или по крайней мере сказать.
– Я люблю тебя, дядя, – как-то непривычно легко вырвалось у обычно скупого на излияния чувств Вани. – Бабушка сказала, ты мне не дядя, а родной отец. Может, она что-то перепутала? Но я все равно тебя люблю. Скажи, ведь ты мне дядя, а не отец?
Ваня неотрывно смотрел на пламя свечи под до смешного неуклюжей – приплюснутой сверху и вытянутой внизу – банкой из грязного зеленого стекла. Странная форма. Кто мог придумать столь странную форму?..
Если этот худой длинноволосый человек его родной отец, думал Ваня, а он его сын, в мире наверняка существуют куда более странные предметы, чем эта банка, выражающие собой бессмыслицу и хаотичность мирозданья. Собственно говоря, почему в нем должен царить порядок? И вообще – что такое порядок?..
Толя поежился, хотя в комнате было жарко – она выходила окнами на запад, и после полудня здесь хозяйничало солнце.
– Ну, если так случилось, никто ни в чем не… Не то я говорю, не то. – Он взялся руками за край столешницы и стиснул его до побеления суставов. – Ты и так ни в чем меня не винишь. Я помнил о том, что у меня есть сын, все эти годы. Я… да, я хотел бы тебя любить, но я вряд ли это сумею.
– Значит, бабушка правду сказала. А я даже не подозревал, – бормотал Ваня, избегая смотреть на Толю. – А он… мой отец… знает, что вы…
– Думаю, что… Нет, я не знаю.
– Но почему ты с мамой… почему вы не поженились, если так любили друг друга? Может, она бы никуда не уехала, если бы вы поженились. Это же глупо – любить и жить врозь, – рассуждал вслух Ваня.
– Да. И во всех этих глупостях виноват только я. Сперва хотел доказать себе, какой я сильный. А потом… Да, я должен был умереть, когда свалился с колокольни. Но я выжил. Зачем, спрашивается? У отца назревали крупные неприятности в связи с моим прошлым – он тогда уже был замминистра, а она, чтоб спасти отца, вышла замуж за сына генерала. Я лежал в это время в больнице. Наверное, я не имею права рассказывать тебе об этом. Но я… Нет, я бы не смог тебе солгать.
Толя уронил голову на грудь.
– Мне тоже придется сказать ему правду. Это нечестно, если мы скроем от него, – тихо сказал Ваня. – Дай мне еще водки. – Он протянул стакан, и Толя налил его до половины. – Я теперь не буду бояться пить. Я ведь думал, у меня дурная наследственность по линии отца, и очень боялся спиться. Мама, помню, так не любила, когда он… Ну, словом, отец всегда был выпивши, мама на него за это сердилась, и я это запомнил. Может, он пил потому, что она его не любила? Оказывается, водка не такая уж и дрянь… – Слова сыпались как горох, наскакивая одно на другое. Он не мог остановиться, хоть и знал, что несет какую-то ерунду. Но это давало передышку голове. Нет, нет, только не сейчас – он обо всем будет думать потом, а сейчас… – А как мне тебя называть? – внезапно спросил Ваня. – «Отец» к тебе как-то не подходит. А я и не знал, что мама так тебя любила. Помню, в детстве я видел вас несколько раз вместе. Вы вели себя как брат и сестра. Знаешь, когда я вспоминаю детство, мне почему-то кажется, что мама больше всех любила дядю Яна. Но это полный абсурд – он ей был брат. Был?.. Как ты думаешь, дядя Ян жив?
Толя ощутил почти непреодолимое желание опрокинуть стол, что-то разбить, сломать, но он пересилил себя. Тот высокий худой моряк с сильными руками и непроницаемо загадочным лицом, на котором, казалось, не боялось проявиться лишь одно-единственное выражение: безграничная любовь к Маше, его так называемой сестре, внушал ему с самой первой встречи чувство странного беспокойства, которое, как он понял впоследствии, происходило от обыкновенной ревности. Да, он ревновал Машу к этому моряку, ибо было между ними нечто большее, чем обыкновенное кровное родство – их так неудержимо влекло друг к другу.
– Да, – неожиданно громко сказал Толя. – С ним ничего не могло случиться. Как и со мной тоже. Мы еще встретимся. Я не могу сказать тебе, откуда я это знаю, – минуту назад я еще ничего не знал. – Он усмехнулся. – Водка что-то делает с моей головой. Я часто пью. Но не для того, чтоб забыть. А чтобы помнить. И еще мне очень хотелось бы понять…
– Отец, – вдруг сказал Ваня, с трудом ворочая отяжелевшим языком. – Инга сказала, будто ты на нее как-то странно смотришь. Может, ей показалось, я не знаю. Но если ты хотя бы пальцем к ней прикоснешься, я… я тебя убью, понял?
Лючия помогала Маше причесаться. Она любила это занятие и когда-то даже училась на парикмахера, хотя работать так и не пошла. Это Лючия уговорила Машу не обрезать волосы. На коленях перед ней стояла.
Она же уговорила невестку принять участие в благотворительном концерте в помощь ветеранам Вьетнама и их семьям, хотя та уже несколько лет не выступала публично.
– Ты должна это сделать, Мария, – говорила она решительным, не терпящим возражения тоном. – Они так несчастны. Президент сунул им деньги и эти побрякушки с ленточками и начисто про них забыл. И теперь эта «гордость нации» превратилась в наркоманов и горьких пьяниц. А все потому, что про них все забыли, – рассуждала Лючия, бережно расчесывая Машины волосы. – Мария, ты скажешь им теплые слова, потом споешь «Ave, Maria» и несколько неаполитанских песен. Среди этих парней есть итальянцы. А знаешь, один бывший вьетнамец рассказывал мне, что тоскует по той поре. Чудной, правда? Говорит, у них там было настоящее крепкое братство, а здесь тебя вроде бы на каждом углу предают…
Маша думала о своем. Вьетнам был далеко от Америки, к тому же война там давным-давно закончилась. Ее беспокоили события в Афганистане, которые обсуждали все, хотя бы мало-мальски интересующиеся политикой люди. Советские войска несли значительные потери. В Афганистане воевали молодые русские парни-призывники. Маша тяжело вздохнула. Ее Яна тоже могут послать в Афганистан – дедушка давно на пенсии, а Диме вряд ли удастся уберечь парня от армии.
– У тебя дивные волосы, Мария, – тарахтела над самым ее ухом Лючия. – Ты красивая, умная, добрая, но все это пропадает зря. Скажи на милость, ну кто все это видит? Кто слышит твой божественный голос? Наши соседи с Палермо-роуд, ну еще несколько человек из предместья Батон Руж Крик. Правда, я видела, как к бывшей церкви подъехала роскошная машина, и из нее вышли две такие холеные штучки в норковых шубках. А то еще был этот толстый лысый гусак Джек Конуэй – это мне отец Франциск рассказал. Я-то думала, Конуэй не верят ни в Бога, ни в черта. – Лючия вдруг выронила расческу и звонко шлепнула себя по лбу. – Ну и дура же я толстозадая! Фаршированная индюшка и та сообразительней Лючии Камиллы Грамито-Риччи. Ведь Джек Конуэй не Богу молиться приезжал, а на тебя посмотреть. Только не могу взять в голову, зачем это ему вдруг понадобилось. А ты как думаешь, Мария?
Маша недоуменно пожала плечами.
– Вот и я не знаю, – говорила Лючия, продолжая возиться с ее волосами. – А Бернард, я слышала, уехал не то в Австралию, не то в Японию. По крайней мере, здесь его давным-давно никто не видел. Это он из-за любви к тебе так сделал. Ах, Мария, какая же ты сильная! Я бы никогда не смогла сказать «нет» такому красавчику, как Берни Конуэй. Даже после того, как он изменил тебе с этой вертихвосткой Джейн Осборн. Франко ведь тоже тебе изменил, а ты взяла и простила его. Мария, ведь ты простила Франко, да?
– Наверное. – Маша вздохнула. – Я сама перед ним виновата.
– Кто? Ты? Mamma mia! Да как у тебя язык поворачивается говорить подобные глупости? Ты у нас святая. Санта Мария. Думаешь, я не помню, сколько времени тебя Берни Конуэй обхаживал? И с одного боку зайдет, и с другого, и с третьего, а ты стоишь как каменная статуя. Ах, Мария, Мария, хоть Франко мне и брат, скажу тебе: Берни не мужчина, а мечта каждой американки, если только она не лесбиянка, не монашка и не старуха столетняя. И это даже если не брать во внимание его миллионы. Ну, а с ними он мне нравится даже больше, чем Марчелло Мастрояни вместе с этим молодым жеребчиком Сталлоне. Ведь ты любишь Берни, правда, Мария?
Маша опустила глаза. Ей не хотелось лгать Лючии, которую она любила как родную сестру. Любит ли она Берни? Она сама часто задает себе этот вопрос и до сих пор не знает на него точного ответа. Но ей и не нужно его знать. Потому что она поклялась себе, что больше не позволит этому человеку прикоснуться к ней. Хватит, хватит любоваться собой, выставлять себя напоказ мужчинам. Что греха таить, ее всегда возбуждал успех у них, она жаждала им нравиться, она сама как бы приглашала мужчин совершить увлекательное путешествие в страну флирта, увлечений, измен. Она была плохой женой, и Франческо нашел себе подружку. Ну а что касается Димы и маленького Яна, которых она бросила на произвол судьбы, то тут ей вообще нет и не может быть прощения.
– Я поняла, что это не приведет ни к чему хорошему. А вы такие добрые, такие родные. Ни словом не попрекнули.
– Еще чего не хватало! – воскликнула Лючия и, отойдя на шаг назад, посмотрела в зеркало на дело рук своих. – Чудо, как хорошо! И выглядишь лет на двадцать пять, не больше. Ай да Лючия Камилла! Ай да мастерица! Правда, у тебя и волосы получше, чем у той путаны с обложки, и лицо как у настоящей аристократки. Ах, Мария, Мария, неужели тебе не муторно сидеть безвылазно в этой гнилой дыре, учить пению богатых девиц с голосами осипших кукушек, петь по праздникам мессу с толстопузыми кастратами…
– Нет. – Маша упрямо мотнула головой. – Я счастлива. Слышишь, Лу, я очень счастлива. Лиз так меня радует. Знаешь, Лу, из нее может получиться замечательная пианистка. Миссис Кренстон считает, что Лиз не просто вундеркинд, а очень одаренная и целеустремленная девочка.
– Миссис Кренстон, миссис Кренстон, – беззлобно передразнила невестку Лючия. – Что еще остается делать этой старой лягушке? Ну да, учить деток правильно играть дедушку Баха и дядю Моцарта. Я знаю, Лиззи далеко пойдет, но и ей будет лучше, если ее мама-черепаха шевельнет лапками и всплывет наконец со дна, где закопалась по уши в вонючем иле. Знаешь, настанет день, и наша Лиззи будет давать интервью этим пройдохам-газетчикам. Так вот, они обязательно спросят у нее про маму с папой и так далее и будут очень разочарованы, когда девочка скажет, что ее мама когда-то замечательно пела и даже отхватила премию на конкурсе в Барселоне, а потом с ней случилось что-то непонятное и она превратилась в самую обыкновенную учительницу пения. И Лиззи будет глотать горькие слезы обиды. А если она скажет, что ее мама поет в «Мете»[14] или хотя бы в «Ла Скала» – вот тогда они ее так распишут, что импресарио выстроятся в очередь к ее артистической уборной.
Маша встала и, бегло окинув взглядом свое отражение в зеркале, сказала:
– Нам пора, Лу. Господи, я так волнуюсь. Там будет столько людей… Лу, мне кажется, я хлопнусь на сцене в обморок.
– Держись покрепче за рояль, – самым серьезным образом посоветовала Лючия и добавила: – Скоро Лиззи сможет тебе аккомпанировать. Это было бы для нее очень важно. Особенно если бы ты была примадонной.
Нет, сцена Машу нисколько не испугала. Напротив, вид освещенной софитами эстрады, заставленной по краям корзинами с настурциями и крупными оранжево-палевыми ромашками, вызывал в ее душе волнение сродни тому, какое испытываешь от встречи с очень любимым человеком, с которым разлучила судьба.
Она чуть не задохнулась от счастья, услышав крики «браво». Петь было радостно – голос звучал легко и свободно, заполняя собой просторный зал. Последнее время ей много приходилось петь духовных произведений и классических арий, а потому голос ее обрел подвижность. Она с легкостью брала ми третьей октавы, хотя в ее планы не входило «сорвать дешевые аплодисменты», как выражалась ее консерваторский педагог по вокалу Барметова. Она пела на «бис» все, что когда-то знала. Наконец концертмейстер выдохся и покинул сцену, и тогда Маша спела без сопровождения «Над полями да над чистыми». Она никогда не пела эту песню, но, слушая в детстве по радио, замирала от восторга. Взяв последнюю ноту, ощутила на щеках слезы.
«Я больше никогда, никогда не попаду туда, – думала она, принимая цветы и поздравления. – Ради чего я тогда живу? Господи, как я устала жить…»
Как и в прежние времена, Сичилиано устроил в ее честь настоящий праздник. И все-таки это были не прежние времена. Тогда, каких-то пять лет назад, Маше казалось, что она сумеет завоевать весь мир. Теперь ей не было никакого дела до этого мира. Она сама виновата в том, что все случилось так, как случилось. Но она не ударит пальцем о палец, чтобы изменить что-то в своей жизни.
По просьбе гостей Лиз сыграла сонату Моцарта, несколько мазурок Шопена, экспромт Шуберта. Девочка подросла за последний год, превратившись в угловатого длинноногого подростка с большими кистями рук, которые она, смущаясь, часто прятала за спину, и красивыми рыжевато-каштановыми глазами. Все в один голос твердили, что Лиз вылитый отец, и только Лючия считала ее точной копией мамы.
– И характер такой же: слишком добренькая и жуть какая упрямая, – говорила сейчас Лючия, любившая племянницу больше жизни. – Попомнишь мои слова, Мария, – ранит наша Лиззи свое мягкое сердечко о твердый кремень в груди какого-нибудь Франко или Берни или как там их. Все они хороши, пока не полежишь с ними под одним одеялом.
И она бросила многозначительный взгляд на сидевшего напротив брата. Последнее время он много пил и старался при первом удобном случае уйти из дома.
Совсем расплывшийся, но все такой же веселый и добродушный Сичилиано обнял племянника за плечи и что-то шепнул на ухо. Франческо вздрогнул и привстал со стула, потом махнул рукой, пробормотал: «Va fan cullo»[15] и одним залпом осушил рюмку граппы.
– …Из Парижа, – долетали до Маши обрывки того, что говорил Сичилиано. – Она в больнице… опасаются за ее жизнь. Франко, узнай хотя бы, в чем дело, – громко заключил он.
Франческо встал и, слегка покачиваясь, направился за Сичилиано в его кабинет.
Лиз сейчас играла Ми-бемоль мажорный ноктюрн Шопена. В душном, пропахшем кухней и табаком воздухе эта светлая музыка казалась случайной и мимолетной гостьей. Маша словно видела над своей головой большую белую птицу, зовущую куда-то ввысь. Увы, ей уже не суждено взлететь – слишком тяжел груз воспоминаний, разочарований, роковых поступков. Смириться, забиться в нору и навсегда забыть про то, что на свете существует прекрасная возвышенная любовь. Или же она всего лишь выдумка этих безумцев романтиков, посвятивших свои короткие жизни служению несбыточной мечте?..
Маша помнит, как она обрадовалась нежданно-негаданной встрече с Франческо, и они кинулись друг другу в объятья, надеясь начать все сначала. И потерпели фиаско, хоть и не сразу об этом догадались.
Еще в Акапулько, куда они поехали на неделю, чтобы побыть вдвоем, Маша обнаружила, что ласки Франческо стали ей почти безразличны, что она не в состоянии отвечать на них так пылко, как раньше. В последнюю ночь их пребывания в Акапулько они допоздна засиделись в ресторане на вершине выступающей в море скалы. Оба были слегка пьяны. У Маши тревожно ныла душа.
– Франческо, прости меня, – сказала она и, протянув руку, нежно коснулась пальцами щеки мужа. – Я стала какая-то другая. Поверь, я очень тоскую по той Маше, которая любила тебя.
– Я тоже. – Он вздохнул и горько усмехнулся. – Это я во всем виноват. Я постараюсь сделать так, что ты снова меня полюбишь.
– Сделай. Обязательно что-то сделай. – Она смотрела на него полными слез глазами. – Я хочу, чтобы было как раньше, хоть и знаю, что так уже не может быть.
Они танцевали под мелодию очень знакомой мексиканской песни. А когда-то давно – Лолита Торрес, Маша вернулась в свое детство, к Устинье… Но и эти воспоминания коснулись ее сейчас лишь мимоходом, оставив душу нерастревоженной. Она прижалась всем телом к Франческо, закрыла глаза, пытаясь убедить себя в том, что дороже его нет у нее никого на свете. И вдруг отчетливо вспомнила Берни.
– Что с тобой, любимая? – спросил Франческо, нежно целуя ее в лоб. – Ты словно увидела корабль-призрак.
– Это так и есть, – прошептала Маша. – Но ты не обращай внимание, ладно? Никакие призраки не должны нас больше разлучить.
Когда они наконец добрались до постели, Маша, приподнявшись на локте и щекоча концами волос грудь Франческо, попросила тихо:
– Расскажи мне о ней чуть-чуть. Она же мне сестра…
– Мы условились не говорить о прошлом, – сказал Франческо и отвернулся.
– Наш уговор остается в силе, и я совсем тебя к ней не ревную. Но мне… Понимаешь, она мне не безразлична.
Франческо потянулся к пачке сигарет, лежащей на тумбочке, и закурил.
– Она оказалась совсем не такой, как… В общем, я еще не встречал таких шлюх.
– Она похожа на меня? Знаешь, я совсем ее не помню – я тогда была точно во сне. – Она взяла у него сигарету и жадно затянулась. – Похожа, да?
– Наверное. Но я понял это совсем недавно. Тогда я как-то не обратил внимания на это сходство.
– Ты думаешь о ней, – задумчиво сказала Маша, не испытав при этом ни капли ревности. – А знаешь, я бы очень хотела повидаться с нею.
– Это невозможно, – вырвалось у Франческо. – Вы совсем разные. У нее было столько мужчин, и всем им она отдавалась за деньги. Она…
– Тебе она отдалась по любви, – перебила его Маша. – Она любила тебя, быть может, самой первой любовью.
– Первой любовью? После всех тех мужчин, которые у нее были? Она сама рассказывала мне, что у нее их было дюжины четыре, если не больше. Мария, давай лучше закончим этот разговор. – Франческо нервно загасил сигарету и натянул до подбородка простыню. – Вся эта история не стоит того, чтобы мы о ней говорили.
– Стоит. Мы живем на ее деньги. Я чувствую себя перед ней очень виноватой – ведь это я отобрала у нее тебя. Она ради тебя готова на все, а я…
И Маша тяжело вздохнула.
– Послушай, малышка, хватит терзать себя, а заодно и меня. – Франческо наклонился и нежно поцеловал Машу в губы. – Мы вместе, а все остальное не имеет значения. И вовсе не на ее деньги мы живем, а на деньги старика Тэлбота. Пускай еще спасибо скажет, что мы не обратились в суд и не потребовали компенсации за то насилие, которое сотворила над тобой эта сумасшедшая Шеллоуотер[16]. Помнишь, я прозвал ее так когда-то? Им бы обошлось это в парочку миллионов, если не больше.
– Она не сделала мне ничего плохого, – тихо сказала Маша и, откинувшись на подушку, закрыла глаза. – Она исполняла все мои желания. Потом она куда-то исчезла…
– Наверное, ее наконец засадили в психушку, – предположил Франческо. – Думаю, ее доченька тоже скоро там окажется.
– Ты очень жестокий, – прошептала Маша. – Как ты не можешь понять, что женщина, которая любит…
Она замолчала и повернулась к Франческо спиной.








