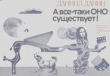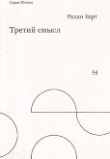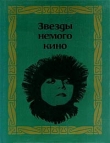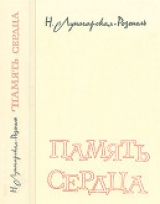
Текст книги "Память сердца"
Автор книги: Наталья Луначарская-Розенель
Жанры:
Искусство и Дизайн
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 31 страниц)
В 1925 году умерла Гликерия Николаевна Федотова.
Я никогда не видела Федотовой на сцене. Когда после дебюта мне предложили поехать к ней с визитом, я из застенчивости уклонилась. До сих пор жалею об этом: по общему отзыву, Федотова была женщина редкого ума, всегда неожиданная и меткая в своих суждениях, острая на язык.
В первый и последний раз я попала в квартиру Федотовой, когда мне нужно было вместе с моей подругой О. Н. Поляковой стоять в почетном карауле у гроба Гликерии Николаевны. Маленькая, скромная квартира; так же как у Южина, на стенах много фотографий русских и иностранных знаменитостей: Сара Бернар, Ристори, Режан, тут же Щепкин, Станиславский, Шаляпин. В квартире было тихо, только из кухни доносилось перешептывание каких-то старушек, родственниц или компаньонок покойной.
Я стояла скованная не то сознанием торжественности этих минут, не то страхом.
– Нам надо все посмотреть: ленты от букетов, венки, подношения, – сказала мне Полякова, – ведь это история.
– Погоди, придут нас сменить.
Но никто не приходил, и мы, осмелев, стали читать надписи на муаровых и атласных, поблекших от времени лентах. Из этих лент было сшито покрывало на большом концертном рояле, панно на стене. Множество портретов самой Федотовой: миловидное круглое личико, темные, живые глаза – обаяние, грация на молодых портретах и важная, величественная grande-dame на более поздних; все они давали только самое смутное представление о блестящей умнице, властной, требовательной во время своего расцвета, а в последние годы обреченной на такое долгое томительное доживание вдали от сцены, вдали от людей.
Через несколько дней, дома у Южина, я рассказала ему о своих мыслях в тот час, когда стояла в почетном карауле у гроба Федотовой. Александр Иванович воскликнул:
– Вы никогда не видели Федотовой на сцене?! Да, понятно, когда она играла, вы были еще в пеленках. Все-таки непростительно что вы, поступив в наш театр, не заехали к ней познакомиться, послушать ее мудрых советов. Ведь это был кладезь мудрости.
– Я стеснялась… Боялась быть навязчивой.
– Напрасно. Я уверен, Гликерия Николаевна была бы вам рада. Она любила жизнь, людей, но больше всего, конечно, театр. Она с нежностью относилась к молодежи театра. Все мы, теперь уже старшее поколение Малого театра, многим обязаны Гликерии Николаевне. Как замечательно рассказывал мне Станиславский об огромном влиянии Федотовой на формирование Художественного театра. Может быть, Константин Сергеевич когда-нибудь напишет об этом.
Южин прошелся по комнате, потом сел рядом со мной.
– Подумайте, дитя мое, какую трагедию переживала эта прежде энергичная, общительная, инициативная женщина, долгие годы прикованная к своему креслу, оторванная от театра не только как актриса, но даже как зрительница. Конечно, ее навещали, рассказывали ей о событиях в нашем и в других театрах. Она много читала… Но, может быть, никому другому жизнь инвалида не была так тяжела, как Федотовой. Чаще всех ее навещала Яблочкина потому что, во-первых, Александра Александровна добра и внимательна, а во-вторых, именно Федотовой она многим обязана как актриса. Даже в ее манерах, в модуляциях ее речи сказывается влияние Федотовой. Возможно, что я обязан Федотовой еще больше, чем Яблочкина. Когда я приехал из Петербурга и поступил в Малый театр, у меня еще не было опыта, только восторженная влюбленность в театр, мечты. Мне предстояло участвовать в спектакле в качестве партнера Федотовой. На репетиции мною овладела такая робость, какой я не испытывал даже во время моих первых шагов на сцене. Я весь как-то одеревянел: руки, ноги, голос – все не повиновалось мне. Большие карие глаза Федотовой буквально гипнотизировали меня; я двигался, подавал реплики, как в полусне. Я был уверен, что Гликерия Николаевна скажет режиссеру: «С этим любителем из Петербурга я не стану играть». И все мои мечты о сцене развеются как мираж! Но после репетиции она протянула мне руку и сказала совсем тихо, чтобы не привлекать внимания окружающих: «Вы свободны вечером? Приходите ко мне, мы поработаем». Вечером я был на ее квартире, не на той, где вы стояли у ее гроба, а в прежней – нарядной, изящной. От этой обстановки я еще больше оробел. Федотова у себя дома производила впечатление гордой, неприступной. Мне казалось дерзостью отнимать время у этой прославленной знаменитости. Мы принялись за работу. Федотова сразу остановила меня: «У вас южный акцент! Это недопустимо в Малом театре. Я буду вас поправлять, а вы следите за собой». Я несколько обиделся. С детства я слышал хорошую, литературную русскую речь, кончил Петербургский университет; никто никогда не говорил мне о моем кавказском акценте. Может быть, это придирка, капризы… «Ну, скажите: станция, Франция». Я, пожав плечами, повторил эти слова. «Вот, голубчик, вы говорите, как написано: „станция“, „Франция“, а по-русски следует сказать „станцыя“, „Францыя“; прислушайтесь к моему произношению – замечаете разницу?» Для меня было ясно, что Федотова права, и я обещал искоренить неправильности моей речи. А до встречи с Федотовой меня все только хвалили за то, что я, грузин, так безукоризненно говорю по-русски. Но тонкий слух Федотовой улавливал малейшую погрешность. Главное же было – ее работа над ролью. Федотова умела не только анализировать душевные движения, мотивы поведения действующих лиц, но и показать средства их выражения. Вероятно, она была лучшим режиссером-педагогом из всех, кого я когда-либо встречал. В пьесе, которую мы с ней разучивали, обманутый муж рыдает, узнав об измене жены. «Вы в комнате один, вы случайно прочитали письмо, открывшее вам правду. Ну как бы вы себя повели, узнав об измене любимой женщины?» Я начал рычать, скрежетать зубами, рвать на себе волосы. «Фальшь, фальшь, голубчик. Любительщина. Вы входите в комнату спокойный, доверчивый, берете письмо, которое считаете безобидной запиской, забытой ею. Вообразите, что все это происходит с вами – с Александром Ивановичем Сумбатовым, забудьте об артисте Южине». Такова была сила ее воздействия, что, повторив все сначала, то есть, войдя в комнату и машинально прочитав записку, я продолжал смотреть на эту бумажку остановившимся, непонимающим взглядом. «Вот, хорошо. Зафиксируйте это! Веришь теперь, что вам нанесен ошеломляющий удар». Так Гликерия Николаевна прошла со мной многие роли. Она учила меня прежде всего разбираться в чувствах действующего лица, в его психологии, а затем искать способа передачи этих чувств. Как-то мы репетировали любовную сцену. Я обнял ее, как обнимают в классическом балете. Федотова рассмеялась: «Ну, Александр Иванович, неужели вас нужно учить объятиям? Вспомните, как вы обнимаете любимую женщину». Я смутился: «Не знаю, Гликерия Николаевна, не помню… Мне стыдно». Она снова расхохоталась, очень добродушно, по-матерински: «Эх, князь, раз пошли на сцену, забудьте стыд. Сцена требует, чтобы раскрывались самые тайники человеческих поступков и переживаний». Она, никогда не работавшая официально постановщиком, режиссировала, учила, помогала, пестовала молодежь. Одно ее меткое замечание зачастую помогало найти верные интонации, которые долго не удавались без ее помощи. Замечательная женщина!
Я слушала воспоминания Александра Ивановича о Федотовой с увлечением и вместе с тем с грустью: все это было уже невозвратимо, и я по своей вине ни разу не встретилась с Федотовой.

А. И. Южин – Шейлок. «Венецианский купец» В. Шекспира

В. И. Качалов и А. Моисси. 1924 г.

А. Моисси – Федя Протасов. «Живой труп» Л. Н. Толстого. 1924 г.

Обложка программы спектакля «Дон Карлос» Ф. Шиллера,
над постановкой которого К. Марджанов работал
до последнего дня жизни. 1933 г.
Александр Иванович как старший товарищ, как руководитель театра относился с уважением и оказывал всяческий почет нашим крупнейшим актрисам: Федотовой, Ермоловой, Лешковской. Федотова скончалась в 1925 году, Ермолова уже несколько лет не играла, но Елена Константиновна Лешковская время от времени участвовала в спектаклях.
Как-то я задержалась на репетиции, и потом мы с Н. О. Волконским сидели в «курилке» и беседовали. Вдруг появилась группа уборщиц и гардеробщиц с швабрами, вениками, тряпками и начала обметать и без того чистые спинки кресел, деревянные панели, натирать и без того блестящий паркет.
– Что здесь происходит? Почему такая тщательная уборка в пятом часу вечера?
– Сегодня играет Елена Константиновна. Александр Иванович требуют, чтоб в такие дни все было особенно чисто, как на пасху.
Мы вышли из театра. У артистического входа тоже шла усиленная уборка; начищали мелом дверные ручки, а по лестнице расстилали новую красную ковровую дорожку; ее проложили и через тротуар, до мостовой.
– Так всегда делается, когда приезжает Елена Константиновна.
– Это она требует?
– Нет, Елена Константиновна ничего не говорят. Они привыкли, что здесь останавливается фаэтон и они ступают прямо на дорожку. Так у нас положено. Бывает, правда, что Елена Константиновна пальчиком проведут по креслу или раме на портрете и, если, боже упаси, не вытерта пыль, они говорят: «Нет, видно, вы не любите театр». Ну тогда нам всем бывает очень совестно.
Яблочкина пользовалась и тогда любовью и уважением в Малом театре, она была как бы президентом актерской корпорации, но с нею Александр Иванович, несмотря на самое внимательное, дружеское отношение, все же держался как с младшей по возрасту, несколько избалованной, далекой от практической жизни барышней. Возможно, Александра Александровна была такой в начале их знакомства, но в глазах Александра Ивановича она не изменилась, для него она была капризной, несколько ребячливой идеалисткой. У Южина случались споры с Яблочкиной. В жизни Южина, как директора Малого театра, бывали труднейшие моменты, когда требовалось сократить труппу и нужно было кого-то уволить. Он и сам болезненно переживал эту необходимость, а тут еще все «жертвы» непременно обращались к Яблочкиной и просили ее заступничества. И она заступалась, спорила, убеждала, даже плакала и очень многого добивалась для своих младших товарищей. Александр Иванович нервничал, сердился, но Александра Александровна в этих случаях была очень настойчива и не уступала.
Вообще же мне хочется подчеркнуть, что в первые годы моей работы в театре, при директоре Южине, за кулисами была настоящая демократия. Даже то обстоятельство, что Южин не замыкался в своем директорском кабинете, что право войти в его артистическую уборную не контролировалось специальными секретарскими докладами, придавало общению с ним товарищескую простоту. Нужно сказать также, что такт, воспитанность Александра Ивановича заставляли актеров считаться с его временем. Никто не позволял себе фамильярничать с ним, да и он не допустил бы фамильярности.
Я была свидетельницей того, как нежно обнимал Южин одного старого актера, впервые пришедшего в театр после тяжелой болезни. Южин так искренне обрадовался, увидев его на репетиции, так ласково обнял, что не только этот скромный, почти «выходной» старик артист был тронут до слез, но и я, нечаянная свидетельница этой сцены, была глубоко взволнована.
О молодежи театра и говорить нечего: очень многие из молодых артистов запросто бывали в доме у Южина, а сам Александр Иванович охотно приезжал к ним на именины, семейные торжества. Когда мне приходилось участвовать в выездных спектаклях «Стакана воды» вместе с Южиным, обычно в вагоне по дороге в Москву бывали непринужденные легкие разговоры, шутки, смех. Иной раз на вечерах у общих знакомых, где бывал Южин, хозяева дома пытались навязать ему роль «свадебного генерала», но Южин неизменно был прост, скромен и приветлив.
Я особенно запомнила вечер у одного журналиста, где были Анатолий Васильевич, Владимир Николаевич Давыдов и Александр Иванович Южин. Нарком, два народных артиста! Хозяева в лепешку расшибались, чтобы получше угостить, занять знатных гостей. Но эти гости не нуждались в том, чтобы их занимали, именно от них исходило самое непосредственное веселье и оживление. Давыдов пел под гитару слабым, старческим голосом, но удивительно музыкально и приятно свои любимые частушки:
Сапожки мои, голубая строчка,
Мне мамаша приказала:
– Гуляй, моя дочка.
Южин и Луначарский состязались в остроумных тостах; я запомнила один из них, когда Южин, обращаясь к Анатолию Васильевичу, сказал: «Я, старый драматург, приветствую вас, молодого, высокоталантливого драматурга, надежду наших театров».
Анатолий Васильевич в своем ответном тосте главным образом говорил о деятельности Южина-Сумбатова – драматурга.
Давыдов с захлебывающимся, стариковским смехом припоминал разные забавные эпизоды, связанные с первыми шагами Южина на профессиональной сцене. Видимо, для него Южин был все еще «молодым актером».
Позднее к нам присоединились М. М. Климов, И. М. Москвин и гитарист Делазари; они приехали экспромтом, узнав, что у таких-то собралось интересное общество. Как-то умели эти знаменитые люди создавать обстановку сердечности, тепла, непринужденного веселья. Кроме того, Анатолия Васильевича отличало одно качество: при нем никогда и нигде, за бокалом вина или стаканом нарзана, в служебном кабинете, в вагоне, на прогулке разговор не делался банальным, обывательским, «о том, о сем», не сбивался на анекдоты, тем паче на пересуды и сплетни – Анатолий Васильевич совершенно не выносил этого. Собиралось ли у нас дома несколько знакомых, находился ли Анатолий Васильевич в большом обществе, всегда в его присутствии разговор касался интересных, волнующих тем. Анатолий Васильевич умел затрагивать такие проблемы, которые зажигали его собеседников даже независимо от их культурного уровня и способностей. Анатолий Васильевич охотно читал вслух произведения поэтов и драматургов, понравившиеся ему, и охотно давал авторам возможность читать свои произведения у нас дома.
Как-то в разговоре с Луначарским Южин поделился впечатлениями относительно пьесы, предложенной для Малого театра писателем Каменским, автором нашумевшей «Леды».
Анатолий Васильевич пригласил Южина, М. Ф. Ленина, И. С. Платона, И. С. Гроссман-Рощина и еще нескольких знакомых, имеющих отношение к театру и литературе, послушать пьесу. Нас постигло полное разочарование: пьеса оказалась насквозь фальшивой, слащавой, моментами непристойной. Александр Иванович после первого акта понял, что был введен в заблуждение саморекламой автора, большого мастера самовосхваления и дешевых сенсаций. В 1919 году в Киеве на всех заборах висели афиши, возвещавшие о лекциях Анатолия Каменского на тему «Женщина – змея или корова?» Билеты раскупались нарасхват.
С каждой прочитанной сценой Южин все больше мрачнел; слушатели недоуменно переглядывались. Когда чтение кончилось, Анатолий Васильевич сказал мне:
– Наташа, попроси гостей к столу.
Больше о пьесе никто ни говорил ни слова. А на другой день Южин приехал к Анатолию Васильевичу в Наркомпрос и каялся в своей рекомендации:
– Я не читал этой пьесы своими глазами. Каменский прочитал мне отдельные выдержки, которые показались мне оригинальными.
– Чего оригинальнее! Великий князь в наши дни возвращается в свою удельную вотчину и работает там пасечником! Сусально, приторно, фальшиво. Не верю, что вам, Александр Иванович, может нравиться такая галиматья.
– Мне показалось, с его слов, что это современно… Вчера я убедился сам, что это безвкусица, ересь. Простите, что по моей вине у вас пропал вечер. Я вообразил, что это звучит ново, как теперь принято говорить, идеологически выдержанно: великий князь делается простым крестьянином, мирится с Советской властью.
Анатолий Васильевич, передавая мне этот разговор с Южиным, улыбнулся, – конечно, в вопросах идеологии Южин подчас бывал очень наивен.
– Нет, Александр Иванович, – сказал Луначарский, – нам такие Романовы-сменовеховцы не кажутся ни убедительными, ни правдоподобными.
Южин также был у нас, когда И. С. Платон читал свою пьесу «Наследие времен». Тема этой пьесы – атавистическое чувство ревности к жене-дворянке у красного командира, талантливого полководца, кавказца по происхождению. Впоследствии эта драма шла в филиале Малого театра, но, несмотря на интересный образ героя, талантливо сыгранный М. Ф. Лениным, успеха у публики не имела.
В сезон 1925/26 года советская общественность отмечала пятидесятилетие со дня рождения Луначарского и тридцатилетие его литературной деятельности.
Для Анатолия Васильевича было совершенно неожиданным, что его юбилей превратился в такой праздник, в котором участвовали партийные организации, профессура, ученые, просвещенцы, писатели, люди искусства, учащиеся.
Был устроен ряд вечеров и торжественных заседаний: в Комакадемии, в Государственной Академии художественных наук, в Политехническом музее, в Доме работников просвещения, в Малом театре.
Естественно, что в моих глазах самым значительным был вечер в Малом театре. Юбилейная комиссия под председательством Южина решила посвятить этот вечер драматургии Луначарского и показать отрывки из его пьес в исполнении московских театров.
Шли сцены из «Оливера Кромвеля» с участием Южина и Садовского (кстати, и в Политехническом музее на вечере в честь пятидесятилетия Анатолия Васильевича Гоголева и Аксенов сыграли сцену из той же пьесы). Затем были показаны две сцены из «Слесаря и канцлера», в которых участвовали М. М. Блюменталь-Тамарина, Топорков, Леонтьев, Радин, Хохлов, Кторов; затем сцена из «Герцога» со Степаном Кузнецовым в роли папы Урбана VIII; сцена из «Поджигателей» с участием Церетелли и моим; и, наконец, сыграли восьмую картину из «Медвежьей свадьбы» – очень динамичную массовую сцену, которая была как бы завершающим аккордом этого чудесного вечера.
Зрители, собравшиеся на юбилей, хорошо знали произведения, отрывки из которых были исполнены на этом вечере; конечно, выбраны были наиболее выигрышные сцены, наиболее яркие исполнители.
Понятно, я очень волновалась на этом вечере: такое чествование Анатолия Васильевича глубоко радовало и трогало, а тут еще мне приходилось участвовать как исполнительнице в очень трудной драматической сцене из «Поджигателей» с артистом Камерного театра Н. М. Церетелли, который, несмотря на опытность и громкое имя, волновался не меньше меня. Моим товарищам, сослуживцам по театру, понравилась и сцена и наше исполнение. Самым ценным было то, что юбиляр остался нами доволен.
Весь юбилейный вечер прошел с большим, настоящим подъемом; не было в этом чествовании ничего казенного, ничего официального – ни в выступлениях множества делегаций, ни в художественно оформленных адресах, ни в бесчисленных телеграммах, присланных со всех концов Союза и из-за рубежа. Во всем сказывалось неподдельно хорошее чувство к писателю-коммунисту, первому наркому просвещения. На Анатолия Васильевича этот вечер произвел прекрасное впечатление, и он считал, что на организованность и слаженность этого чествования повлияло горячее желание Южина сделать его юбилей радостным и праздничным.
Впрочем, не только Южин – все артисты Малого театра относились к Анатолию Васильевичу с уважением, благодарностью, любили его творчество, любили его самого. Я никогда не забуду отношения к Анатолию Васильевичу Яблочкиной, Ленина, Турчаниновой, Массалитиновой, Садовского, Остужева, Нарокова, словом, за редким исключением всей труппы. К этому списку нужно прибавить имена почти всех крупнейших деятелей театра нашей страны: Собинова, Неждановой, Станиславского, Москвина, Качалова, Таирова, Мейерхольда, Мичуриной-Самойловой, Юрьева, Монахова… и многих, многих других, с которыми Анатолий Васильевич поддерживал самую тесную связь как нарком, руководивший всей жизнью искусства, как автор многих пьес, шедших в столичных и периферийных театрах, как критик, в своих статьях анализировавший работу различных театров и артистов. Ко всему сказанному хочется прибавить личные контакты, встречи, беседы, отзывчивость Луначарского, его желание помочь людям, его обаяние.
Жизнь Анатолия Васильевича была до отказа заполнена трудом, борьбой; в искусстве ему подчас приходилось воевать против перегибов футуристов-леваков, против косности староверов; бороться с упрощенчеством, вульгаризацией… Позднее он тяжело болел… И теперь, через много лет, я с удовлетворением вспоминаю этот единодушный порыв симпатии и благодарности, высказанных Анатолию Васильевичу в день его пятидесятилетия.
В 1926 году Степан Николаевич Надеждин, художественный руководитель и ведущий актер ленинградского театра «Комедия», решил поставить у себя в театре «Стакан воды» Скриба и пригласил меня участвовать в этом спектакле, но не в роли Абигайль, которую я играла в Малом театре, а в роли королевы. Я колебалась; Анатолий Васильевич советовал мне не отказываться.
– Но, – добавил он, – спроси не только разрешения, узнай мнение Александра Ивановича и в зависимости от этого решай.
Во время спектакля «Стакан воды» я сказала лорду Болингброку – Южину, что мне очень нужно посоветоваться с ним. Укоризненно покачивая головой, он погрозил мне пальцем:
– Экая непоседа! Наверно, опять хотите уезжать сниматься в дорогом вашему сердцу синематографе?
– Нет, Александр Иванович, на этот раз не кино, а театр. Меня приглашают Грановская и Надеждин играть у них «Стакан воды».
– Вы же играете у нас…
– Да, но в Ленинграде мне предлагают играть королеву.
Южин задумался:
– Ну что ж, это неплохо. Со временем и в Малом вы, вероятно, перейдете на эту роль. Текст, очевидно, у вас и теперь на слуху. Но я требую, чтоб на афишах стояло: «Артистка Малого театра». Затем мне хотелось бы, чтобы на репетиции к ленинградцам вы пришли во всеоружии. Вы должны держаться там как представительница нашего столетнего театра. Приходите ко мне домой, мы побеседуем с вами о королеве Англии Анне и пройдем сцены королевы с Болингброком. Кто будет играть Болингброка в Ленинграде?
– Максимов.
– А-а-а! Владимир Васильевич! Отлично: он в течение нескольких лет играл у нас Мэшема. Очевидно, он многое воспринял из нашего спектакля; вам с ним будет легко играть.
Через день я снова была в большом строгом кабинете Южина. После первых приветствий Александр Иванович вместе со мной подошел к книжному шкафу; он снял с полки объемистые книги на русском, французском, английском языках – это были книги по истории Англии. Прежде всего он показал мне иллюстрации – изображения Виндзорского и Букингемского дворцов, тронного зала, парков, Тауэра, затем портреты королевы, герцога и герцогини Мальборо, лорда Болингброка и леди Мэшем, в девичестве Абигайль Черчилль. Судя по портретам, эта фаворитка королевы, сменившая герцогиню Мальборо, была очень нехороша собой. А мы-то в театре старались изо всех сил изобразить Абигайль юной, голубоглазой феей.
– Дитя мое, ведь это театр! Мемуаристы той эпохи утверждают, что она была косоглазая и страдала хроническим насморком, у нее был длинный красный нос!
Южину, видимо, нравилось удивлять меня.
– Скриб игнорировал эти непривлекательные детали и написал образ прелестной, юной, умненькой и ловкой девушки, вот его вы и играете… А что касается самой Анны…
Тут же он рассказал, что чистая, девственная королева Анна, которая в комедии Скриба краснеет от малейшего намека на влюбленность, меняла любовников как перчатки.
Южин посмотрел на мои руки:
– Н-да, перчатки… Вы ведь играете Абигайль в белых перчатках? Настоятельно вам советую, снимите лак с ногтей, когда будете играть королеву. В ту эпоху женщины очень охотно и откровенно прибегали к косметике, но лака для ногтей не знали.
– Я надену перчатки, так же как в роли Абигайль.
Южин в ужасе всплеснул руками:
– О, нет! Это недопустимо! Коронованные особы надевали перчатки только на охоте или во время прогулок. А во дворце все придворные обязаны были носить перчатки, кроме самой королевы. Вам незачем прятать ваши руки, только снимите лак с ногтей. Лак – это двадцатый век. А нас интересует далекое прошлое…
Южин увлекся и красочно описал мне борьбу за английский престол, длительную войну с Францией, кончившуюся Утрехтским миром, соперничество тори и вигов. Южин закончил свой монолог несколько неожиданным замечанием:
– А теперь забудьте все, что я вам наговорил. Ничего этого нет у Скриба. А вам надо играть комедию Скриба, а не историю Англии. Ну, начнем с вашего первого выхода…
Дома я рассказала Анатолию Васильевичу, что Южин поразил меня своими знаниями, своей огромной эрудицией. И вдобавок, как увлекательно он умеет передать эти исторические факты и характеристики.
– Конечно, Южин – один из образованнейших людей в Москве. Историю Англии он знает превосходно, я убедился в этом во время работы театра над моим «Оливером Кромвелем». Но, главное, он талантлив, не только как актер и драматург. Он талантлив в своих поступках, в своем поведении, талантлив и благороден.
Думаю, что своим успехом в Ленинграде я в значительной степени обязана Южину. На репетиции в театре «Комедия» Владимир Васильевич Максимов сказал мне:
– Как приятно снова встретиться с Малым театром, моим родным театром.
– Но, Владимир Васильевич, я ведь только четвертый год служу в Малом.
– Все же в вашей дикции, в интонациях чувствуется «Дом Щепкина».
И в Максимове, несмотря на то, что он давно ушел из Малого театра, играл у Незлобина, в Ленинграде в Большом драматическом, чувствовалась та же школа, и его игра в «Стакане воды» была ближе к южинской, чем у других актеров в роли Болингброка, и, может быть, именно поэтому он нравился мне больше других.
Молодой драматург А. Г. Глебов прочитал Луначарскому свою драму «Загмук». Анатолий Васильевич нашел эту пьесу талантливой, социально значительной и очень эффектной. Он написал автору письмо, в котором подробно разбирал достоинства и недостатки пьесы и, считая, что достоинства превосходят и заставляют простить ряд погрешностей, дал молодому собрату советы, как сделать «Загмук» настоящим театральным произведением, а не «драмой для чтения». Анатолий Васильевич справедливо считал, что после некоторого сокращения, изъятия особенно жестоких сцен пьеса выиграет в смысле сценичности. Луначарский поделился с Южиным своими впечатлениями о «Загмуке», тот заинтересовался пьесой Глебова, и она была принята к постановке в Малом театре.
Поставил «Загмук» режиссер Н. О. Волконский в декорациях А. А. Арапова. В спектакле были заняты Пашенная, Гоголева, Садовский, Ленин, Нароков. Я играла в очередь с Пашенной роль ассирийской царицы Нингал-Умми. За неделю до спектакля я на катке растянула себе ногу и поэтому вступила в спектакль позднее, дней через десять после премьеры. Выяснилось, что Пашенная наотрез отказалась от костюмов по эскизам Арапова, и ей сшили костюмы по ее указанию. Мне показали эскизы Арапова и спросили, делать ли эти костюмы или такие же, как у Пашенной. Я ответила, что предпочитаю быть одетой соответственно первоначальному замыслу художника. Костюмы Арапова были очень смелыми и оригинальными; они были и очень «раздетыми» и в то же время царственными.
Нингал-Умми называют в драме «ассирийской волчицей»; мне хотелось придать ей мрачную, зловещую красоту. С благогословения Волконского и Арапова я сделала себе несколько условный грим: лицо цвета слоновой кости, зеленые глаза, жесткие иссиня-черные волосы; на голове была диадема в виде золотых змей.
Во время спектакля «Загмук» Южин, встретив меня в «курилке», всплеснул руками:
– Как эффектно! Откуда у вас эти наряды?
– Из костюмерной театра. По эскизам Арапова.
– А почему же у Веры Николаевны другие костюмы?
– Она отказалась от этих.
– Напрасно. Волконский не должен разрешать такое самоуправство. Вы напоминаете мне врубелевского демона. Сегодня я очень доволен вами.
Вскоре В. Н. Пашенная отказалась от этой роли, и я одна играла роль «ассирийской волчицы».
В середине лета 1926 года Анатолий Васильевич был в служебной командировке – он обследовал музеи, дворцы, картинные галереи Ленинграда и Ленинградской области; посетил Псков, Новгород, пушкинские места. В Ленинграде, в Петергофе и Гатчине я была вместе с ним, а потом он уехал в Михайловское, а я вернулась в Москву. У меня была договоренность с директором театра бывш. Корша Ю. П. Салониным об участии в спектаклях в «Эрмитаже». Я должна была играть со Степаном Кузнецовым в комедиях «Тетка Чарлея» и «Когда рыцари были храбры».
Мне было ужасно досадно, что я не увижу Пскова, Новгорода, Михайловского. На мои жалобы Анатолий Васильевич говорил полушутя, полусердясь: «Tu l'as voulu, George Dandin…»[3]3
«Ты этого хотел, Жорж Данден…» (франц.). Из комедии Мольера «Жорж Данден, или Одураченный муж».
[Закрыть].
Действительно, в те годы мне хотелось только играть, играть, все остальное казалось второстепенным. Я вернулась в Москву для репетиций с Кузнецовым.
Через несколько дней по возвращении в Москву мне сказали, что меня спрашивает какой-то пожилой человек, и подали визитную карточку: Владимир Иванович Сумбатов.
Здороваясь с вошедшим седым, благообразным человеком, я сейчас же по сходству поняла, что это брат Александра Ивановича; до сих пор я не была с ним знакома. Он казался очень взволнованным; с трудом подыскивая слова, останавливаясь, не заканчивая фраз, Сумбатов объяснил мне, что хотел встретиться с Анатолием Васильевичем, был в Наркомпросе, ему сказали, что нарком в отъезде, и отказались дать домашний телефон. Тогда он решил поехать на квартиру Луначарского, поговорить со мной, так как увидел мою фамилию на афишах и понял, что я в Москве. Сумбатов сказал, что ему известно, как сердечно относится Анатолий Васильевич к его брату; он также слышал от Александра Ивановича очень теплые отзывы обо мне и знает, что я тоже с симпатией отношусь к Александру Ивановичу; и вот в тяжелый момент он просит меня о добром совете и посредничестве. Александр Иванович уехал лечиться за границу. Пока ему ничего не сообщают… Оказалось, что в отсутствие Южина и Луначарского был составлен настоящий заговор против Александра Ивановича. Инициатором этого заговора был Рабис, где допускались демагогические выпады против «императорского» театра и его руководителя, «князя», «либерального барина» и т. п. Во время отъезда Луначарского его замещала в Наркомпросе В. Н. Яковлева, женщина очень энергичная и властная, но далекая от вопросов искусства, в частности театра. Ее удалось уговорить подписать приказ об освобождении Южина от должности директора Малого театра и о замене его В. К. Владимировым, который проявил себя хорошим организатором в отделе Рабис в Симферополе. Все это было сделано вероломно: ведь командировка Луначарского длилась двадцать дней, и в течение летнего театрального затишья не было никакой необходимости так срочно заменять руководителя театра. Было очевидно, что люди, враждебно относившиеся к Южину или особо благоволившие Владимирову и желавшие выдвинуть его на этот пост, воспользовались отсутствием Луначарского и недостаточной компетентностью его заместительницы Яковлевой, учтя при этом ее «леваческие» настроения.