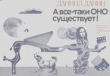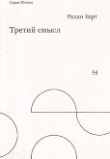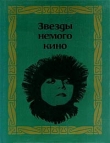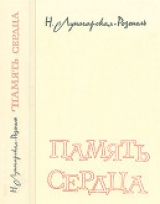
Текст книги "Память сердца"
Автор книги: Наталья Луначарская-Розенель
Жанры:
Искусство и Дизайн
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 31 страниц)
– Александр Иванович еще ничего не знает. Как сообщить ему? Ведь это убьет брата! – повторял Владимир Иванович в величайшем волнении.
Я понимала, что он имеет основания так тревожиться за Александра Ивановича. В возрасте Южина, при его больном сердце, получить такой предательский удар в спину, пережить такую незаслуженную обиду было бы просто опасно для его жизни. Я всем сердцем сочувствовала Владимиру Ивановичу; мне самой было больно за Южина; я знала, как возмущен будет Анатолий Васильевич этим поступком.
Но чем я могла помочь в этом деле? Я обещала Сумбатову сегодня же ночью сообщить Анатолию Васильевичу по телефону об этом событии. У нас с Анатолием Васильевичем было условлено, что, находясь вне Москвы, он после двенадцати часов ночи звонит мне по телефону. Мы очень тепло простились с Владимиром Ивановичем; мне не нужно было ни в чем уверять его – он видел, как близко я приняла к сердцу обиду, нанесенную его брату. В отношении Анатолия Васильевича я не сомневалась. Но ведь приказ подписан заместительницей наркома, временно исполняющей его обязанности; ему дан ход… Что еще можно спасти и исправить?
Анатолий Васильевич был до крайности возмущен, узнав об отстранении Южина от руководства Малым театром. Он усмотрел в этом также и посягательство Рабис на авторитет Наркомпроса; не меньше был он возмущен и тем, что Яковлева не дождалась его возвращения в Москву, не спросила его мнения.
Вернувшись, Луначарский имел крупный разговор с Яковлевой, с которой вообще был в очень корректных отношениях. Анатолий Васильевич, как художник, иногда умел окружать поэтическим ореолом людей самых прозаических: так, В. Н. Яковлеву он называл «Теруань де Мерикур русской революции». На этот раз разговор был такой, что эта «Теруань» плакала и уверяла, будто она считала правильным освободить от такой тяжелой обязанности, как руководство театром, старого человека.
Позднее, несколько успокоившись, Анатолий Васильевич с юмором рассказывал, что не скупился на разные нелестные эпитеты насчет поступка своей заместительницы, цитируя по преимуществу басни Крылова. Он вспомнил и «ослиное копыто» и «медвежью услугу». Чтобы спасти положение (отменить уже изданный приказ было невозможно), решено было назначить Южина почетным директором театра, а Владимирова «красным директором» (был в двадцатых годах и такой термин). С этой поправкой приказ опубликовали и в таком виде сообщили Южину.
Александр Иванович с трудом проглотил эту подслащенную пилюлю. Он не хотел еще переходить на «сенаторскую» должность и, сдав другому человеку все свои права и обязанности, превратиться в декоративную, почетную фигуру.
Анатолию Васильевичу удалось соблюсти приличия, обставить приход в театр «красного директора» возможно безболезненнее для самолюбия Южина. Со стороны могло казаться, что все обстоит благополучно: изобретено даже новое звание, раньше не существовавшее в театре, – «почетный директор».
Но Южин был слишком умным и слишком реальным человеком, чтобы обольщаться этой «видимостью власти». От своего брата, от преданных ему артистов он знал все, ценил те усилия, которые приложил Луначарский, чтобы не дать его в обиду. Его отношение к Анатолию Васильевичу стало, если это вообще возможно, еще теплее, тем более что в обращении с Александром Ивановичем Луначарский подчеркивал, что считает его по-прежнему главой Малого театра.
Но все же Южин нелегко переживал свой переход в «сенаторы». У него был еще такой запас энергии, преданности делу всей своей жизни, организаторского таланта. Понемногу его тяжелое настроение все же сглаживалось. Натура у Южина была деятельная, оптимистическая. «Старики» Малого театра сомкнулись вокруг него тесным кольцом.
В труппу влились новые силы: М. М. Климов, С. Л. Кузнецов, Н. Н. Рыбников. Все трое были яркими индивидуальностями, большими художниками, и Южин первый оценил это, хотя некоторые «свои» довольно долго отворачивались от «чужаков».
Климов, старый «коршевец», любимец Москвы, друживший много лет с рядом коренных «малотеатровцев», и Рыбников, общительный, хороший товарищ, пришлись, как говорится, «к дому» в «Доме Щепкина». С. Л. Кузнецов менее выдержанный, чем они, иногда капризничал, брюзжал, раздражался сам и раздражал других, но его огромный талант победил все неполадки; в таланте ему не могли отказать даже явные враги.
Южина окружало то же уважение и та же любовь, что и до появления «красного директора» в стенах Малого театра. Особенно ярко это продемонстрировали москвичи во время празднования семидесятилетия Южина.
Мне запомнилось не официальное чествование, а банкет в Клубе работников искусств, как назывался тогда бывший «Кружок любителей литературы», во главе которого много лет стоял Южин. В 1927 году клуб перешел в подвал на Тверской улице. Мне трудно сказать, было ли в новом помещении клуба хорошо и уютно… Но ведь пословица говорит: «Не красна изба углами, а красна пирогами» и еще: «Не место красит человека, а человек место». С этой точки зрения в подвале на Тверской было чудесно: там собиралась самая интересная публика – артисты, литераторы, общественные деятели; там устраивались приемы зарубежных гастролеров – скрипача Сигетти, дирижера Коутса, пианиста Эгона Петри, негритянской певицы Мариан Андерсон и многих других. И «пироги» в широком смысле слова подавались отличные. Анатолий Васильевич охотно бывал там, когда удавалось выкроить свободный, хотя бы и очень поздний час.
Вот в этом подвале и устроили банкет в честь семидесятилетия Южина. Несмотря на преклонный возраст юбиляра и его высокое положение, всему вечеру был придан характер беззаботного, легкого веселья. Все подношения, тосты, выступления артистов, шутливые телеграммы (большинство сочинил А. А. Менделевич) заставляли все общество хохотать до упаду, и больше всех веселился сам юбиляр. Когда под утро к Южину подошли и спросили, не устал ли он, Южин несколько даже рассердился, но тут же, улыбаясь, сказал:
– Я – привычнай.
– То есть, как это «привычнай»?
– А знаете, есть такой рассказ о кровельщике, который несколько раз падал с крыши. Как-то он упал с пятого этажа; переполох, подбежали помочь ему, а он вскочил на ноги, со словами: «Мне што? Я – привычнай». Вот и я. Всю жизнь поздно ложился и рано вставал, всю жизнь с людьми и на людях. И ничего не собираюсь менять – к этому я «прывычнай».
После банкета Анатолий Васильевич говорил:
– Какая красивая, прямо-таки гётевская старость у Южина. Как хорошо в семьдесят лет быть таким, как Александр Иванович.
Но годы делали свое неумолимое дело, и сердце Александра Ивановича не могло угнаться за его молодой, кипучей душой. Снова он тяжело заболел и к весне уехал лечиться во Францию.
В мае 1927 года Луначарский был в Париже, и в советском посольстве на приеме в его честь мы встретили Южина.
Анатолий Васильевич, увидев его, сказал с искренней радостью:
– Париж вам очень идет, Александр Иванович. Вы – совсем молодец.
Действительно, Южина редко можно было видеть в таком чудесном настроении. Во фраке, с бриллиантовыми значками, поднесенными ему в юбилейные даты, он превосходно гармонировал с этими залами в стиле XVIII века, украшенными старинными гобеленами. Казалось, что он виртуозно играет роль дипломата в некоей еще не написанной пьесе. Здесь, среди известнейших людей Франции, он чувствовал себя как рыба в воде. В «Комеди Франсэз», в Одеоне, в Театре Сары Бернар, в Опере, среди журналистов у него было множество друзей; во Франции была своего рода традиция у молодых талантливых актеров, кончивших консерваторию по классу драмы, начинать свою карьеру в Theatre Michel, то есть в Михайловском театре в С.-Петербурге. Общительные, живые французы дружили с русскими актерами, и часто эта дружба длилась много лет. Александр Иванович очень любил известного артиста Михайловского театра Люсьена Гитри, встречался с его сыном, Сашá Гитри, во время своих приездов в Париж встречался с Сесиль Сорель, с де Максом; он был в наилучших отношениях с Фирменом Жемье, с Шарлем Дюлленом. Связи Анатолия Васильевича с французской интеллигенцией были еще обширнее; в числе его знакомых были и П. Ланжевен, и m-me Кюри, и Эдуард Эррио, Виктор Маргерит, Ромен Роллан, Анри Барбюс, и многие, многие другие. Глядя на Южина и Луначарского среди парижской elite, я вспомнила слова Василия Пушкина:
Не улицы одни,
Не площади, не домы,
Сен-Пьер, Делиль, Фонтэн
Мне были там знакомы.
Как непохожи были оба эти москвича на обычных англо-американских туристов, так называемых «кукиных детей», которые в автобусах Кука покорно поворачивают по команде гида головы направо, налево.
Александр Иванович с удовольствием сообщил, что «Комеди Франсэз» очень заинтересовалась его пьесой «Рафаэль и Форнарина», которую он почти закончил. Биншток уже работает над переводом первых картин.
– Вы будете играть Форнарину в Москве, – прибавил он.
Я не читала пьесы, но тем не менее была очень обрадована и польщена. Зная сценические произведения Сумбатова-Южина, можно было не сомневаться, что в его новой драме будет увлекательная женская роль.
Южин знакомил меня со многими парижанами с ленточками Почетного легиона в петлицах, говоря:
– Наша молодая актриса, надежда нашего театра.
Как я ни была молода, я все же понимала, что эти лестные слова – дань светскости Южина, но в этот вечер я почувствовала особую благодарность к Александру Ивановичу за его умение «подать» актрису, ободрить, внушить веру в себя. Как важно знать, что кто-то верит в тебя, следит за твоим ростом, особенно, если это такой художник, как Южин.
На приеме был великолепный артист, директор Одеона, давнишний друг Анатолия Васильевича – Фирмен Жемье; он уговорил Луначарского, Южина и меня закончить вечер в баре гостиницы «Крийон». Жемье посоветовал мне заказать какие-то мудреные коктейли, но Южин и Анатолий Васильевич наотрез отказались от этой «американской смеси», «американского ерша», как выразился Анатолий Васильевич.
– Виноградное вино – чистый, благородный напиток, а в этой мешанине сказывается безвкусица американских выскочек, – говорил он.
– Древнейший напиток, – подхватил Южин, – сколько поколений возделывали виноградники, культивировали вино. Приезжайте к нам в Грузию, у нас есть вина, которыми не стыдно угостить француза.
Там же в баре «Крийон» Луначарский вспомнил, что оба наши собеседника – знаменитые исполнители роли Шейлока в «Венецианском купце». Возник проект возобновить «Венецианского купца» в Малом театре и пригласить в качестве гастролера Жемье, а затем Южину сыграть эту же роль в театре Одеон.
– В новом сезоне. Не будем откладывать. В моем возрасте нельзя откладывать, – сказал Александр Иванович.
На следующий день Южин приехал к нам в «Лютецию», отель на бульваре Распайль, недалеко от нашего посольства, где обычно останавливался Анатолий Васильевич.
Александр Иванович был в отличном настроении, он поднес мне красные розы со словами: «Будущей Джессике».
Этим он хотел, очевидно, подчеркнуть серьезность планов относительно «Венецианского купца». Он расспрашивал Анатолия Васильевича о Москве, о перспективах будущего сезона. Не все казалось ему правильным в поступках руководства Малого театра, хотя он с удовольствием отметил сдвиг в благоприятную сторону в настроениях прессы.
– Все же надо поскорее в Москву. Я поправился и не хочу больше задерживаться здесь, как ни обаятелен Париж. Чего доброго, москвичи меня совсем сдадут в архив…
– А вы их распушите как следует! Вы – глава Малого театра.
– Знаете, Анатолий Васильевич, я вам скажу по секрету: мне очень хочется еще раз быть автором Малого театра. Мне почему-то кажется, что мой «Рафаэль» понравится вам. Может быть, это нескромность, – когда вы вернетесь в Москву, я попрошу вас прочитать эту пьесу… или сам ее прочту вам. Наталья Александровна, пойдите в Одеон, посмотрите Жемье в Шейлоке. Какое отточенное мастерство! Необходимо наши вчерашние планы претворить в жизнь. Я бы очень хотел снова сыграть Шейлока, хотя с Жемье нелегко соперничать…
Из «Лютеции» я вышла на улицу с Александром Ивановичем, и несколько кварталов мы прошли вместе. Я невольно вспомнила, как медленно и степенно в тяжелой шубе на меху, в бобровой шапке ходил Александр Иванович по московским улицам, а здесь в коротком светлом пальто, в фетровой шляпе, надвинутой на один глаз, с тросточкой, с гвоздикой в петлице он шел быстрой, легкой походкой. Мы дошли до перекрестка, нужно было расставаться…
– Куда вы так спешите? – спросил Южин.
Я назвала адрес.
– Но ведь нам по дороге. Сейчас мы сядем в метро.
– Как в метро? – опешила я.
– Ну да. Вы можете доехать, – он назвал станцию, – а там совсем близко.
– Александр Иванович, я не знаю. Я уже третий раз в Париже, но я не знаю метро. Я вас подвезу на такси.
– Зачем? Метро – самый удобный вид транспорта. Когда-нибудь и у нас в Москве появится метро. А-а, понимаю: вы боитесь перейти через улицу. Я возьму вас под руку и перейдем. Ай-ай-ай, ведь вы должны быть моей Антигоной, а вы…
И так семидесятилетний «Эдип» взял под руку двадцатипятилетнюю «Антигону», которая от страха зажмурила глаза, и кинулся в кипящий поток парижской улицы, приговаривая:
– А я думал, что вы храбрая!
К несчастью, жизнерадостность, бодрость Александра Ивановича оказались непрочными. Волнения, связанные с его работой актера, особенно директора, хотя бы и «почетного», неумение и нежелание перейти на стариковский режим – все это привело к тому, что Александр Иванович, вернувшись в Москву, вскоре снова тяжело заболел. Врачи посоветовали ему после болезни, для окончательной поправки, опять поехать во Францию. Анатолий Васильевич навестил больного и помог устроить так, чтобы кроме Марии Николаевны его сопровождал Напалков, который сделался для Южина и его жены чем-то вроде талисмана: они верили, что Напалков не допустит, чтобы болезнь одержала верх.
Сначала о Южине приходили успокаивающие вести; потом Напалкову пришлось вернуться в Москву, на свою основную работу. Вскоре после отъезда Напалкова Александр Иванович скончался, сидя у письменного стола, во время работы над своей новой пьесой.
Весть о смерти Александра Ивановича пришла, когда Анатолий Васильевич уезжал в Париж на празднование столетия со дня рождения Марселена Бертело. Анатолий Васильевич возглавлял советскую делегацию; поездку эту нельзя было ни отложить, ни отменить.
Мария Николаевна Сумбатова пожелала, чтобы тело Александра Ивановича было перевезено в Советский Союз морским путем: из Марселя в Батуми. Праху Александра Ивановича в его родной Грузии воздали все почести, какие заслуживал этот большой и благородный человек.
Затем с Южиным простилась Москва, простились его товарищи и друзья на траурном митинге в Щепкинском фойе Малого театра.
Мы в это время были в Париже. Проходя по осенним, туманным парижским улицам, я вспоминала, как весной Александр Иванович вел меня через людской поток, повторяя:
– Смелее, смелее, Антигона, доверьтесь вашему Эдипу.
Анатолий Васильевич и я бывали у Марии Николаевны Сумбатовой 17-го числа каждого месяца, сначала аккуратно, потом с пропусками. Занятость, отъезды… И не только мы стали бывать там все реже, то же самое было и с другими друзьями и почитателями Южина. Не хватало времени, с этим ничего нельзя было сделать. Каждый раз я встречала у Марии Николаевны кроме родных – сестры Александра Ивановича и племянницы Марии Александровны – А. А. Яблочкину, Е. Д. Турчанинову, Е. Н. Гоголеву, В. Н. Аксенова, Н. И. Рыжова и многих других.
Новое руководство не склонно было заботиться о сохранении памяти Южина. Его значение для русского театра, русской культуры, его огромная роль в жизни Малого театра в первые десять послереволюционных лет замалчивались.
Его яркая, своеобразная личность, его биография не сделались в должной мере предметом внимательного изучения ученых, театроведов, товарищей по искусству и молодежи.
Не пора ли восстановить справедливую оценку славного «кормчего» Малого театра?
Луначарский и Брехт
В ноябре 1928 года в Женеву на Конференцию по разоружению выехала советская делегация во главе с Максимом Максимовичем Литвиновым и Анатолием Васильевичем Луначарским.
Несколько дней делегация провела в Берлине, по-видимому, в связи с оформлением швейцарских виз (дипломатических отношений между СССР и Швейцарией, прерванных после убийства Воровского, тогда еще не было).
– Ну, Анатолий Васильевич, выбирайте, куда пойдем, в какой театр? Это по вашей части, – сказал Литвинов.
Тут выяснилось, что Анатолий Васильевич уже заранее выбрал театр на Шиффбауэрдамм.
В этом небольшом и скромном театре в центральном районе города, вблизи от набережной Шпрее, шел очень своеобразный спектакль – «Трехгрошовая опера», или иначе «Опера нищих» – старая английская пьеса в обработке молодого поэта и драматурга Бертольта Брехта и в постановке режиссера Энгеля.
…Темно-серый гранитный парапет на набережной Темзы, сумерки, туман, смутно различимые фигуры уличных женщин разного возраста – от подростков до старух, – бродяги и нищие…
И тут же в отрывистых фразах этих «отверженных» звучит созданная их воображением легенда о бесстрашном и удачливом налетчике Мекки по прозвищу «Мессер» («Нож»). На ходу отвечая на подобострастные и робкие приветствия, эластичной походкой хищника проходит стройный человек в низко надвинутой на глаза шляпе и исчезает в лондонском тумане. И женщины говорят со страхом и восхищением: «Это был Мекки Мессер». Затемнение… На этом кончается короткий пролог. Начинается первый акт спектакля.
Мекки Мессер – Гарольд Паульсен, актер необыкновенно острого и четкого рисунка, обладающий какой-то особой элегантностью даже в кепке и рваном пиджаке налетчика. Жену «короля нищих» исполняла Роза Валетти, лучшая «старуха» берлинских театров того периода. Музыку написал Курт Вейль, неоднократно сотрудничавший с Брехтом. Мне кажется, они достигли в этой постановке того идеального слияния замысла поэта и композитора, к которому всегда стремятся, но далеко не всегда добиваются создатели музыкальных спектаклей.
– Ах, как я рада, что мы пришли сюда, – говорила еще до поднятия занавеса Айви Вальтеровна Литвинова. – «Опера нищих» напоминает мне мою юность. Так приятно будет снова увидеть эту милую, старую пьесу.
Но она ошиблась: этот спектакль имел очень мало общего с обычной традиционной трактовкой «Оперы нищих». В спектакле трудно было определить время действия – может быть, эпоха Диккенса, может быть, наши дни. Так ли много значит для людей вне общества и вне закона, в каком именно десятилетии они живут, эти отверженные буржуазной моралью подонки? Дырявые шали и лохмотья – тоже вне моды. Очень смело и в то же время органически слитно с остальным текстом прозвучала баллада Р. Киплинга «Дженни – невеста пиратов» в обработке Брехта и Вейля. Надолго запомнилось полное бичующего сарказма трио «О справедливости».
В антракте к Анатолию Васильевичу подошел автор – Бертольт Брехт, с которым он уже и раньше встречался на вечерах ВОКС и Общества друзей Советской России. Тогда еще Брехт назывался не Бертольтом, а Бертом. «Берт Брехт» – так было напечатано в программах спектакля и на нотах с его песенками, так звали его друзья и знакомые, и это уменьшительное «Берт» очень подходило ему. Он казался молодым студентом или аспирантом (ему тогда было двадцать восемь лет), но, разумеется, – ничего общего с немецким, прусским студентом-корпорантом; скорее – наш русский студент, из тех, что носили косоворотки под старенькой тужуркой. Темные волосы, худощавое лицо с правильными, несколько заостренными чертами, вспыхивающими вдруг неожиданной, ясной улыбкой. Он носил очки, маленькие, в узкой металлической оправе – какие-то стариковские очки, не подходившие к его молодому лицу и худощавой юношеской фигуре. Особенно старомодно выглядели эти очки тогда, в 1928 году, когда огромные роговые оправы появились на всех лицах – и мужских и женских, – даже у людей с прекрасным зрением.
После спектакля нас пригласили зайти в дирекцию. Там в небольшой, уютной, располагающей к дружескому разговору комнате были Энгель, Брехт, Вейль и исполнители главных ролей. Пожимая руку Розе Валетти, Анатолий Васильевич сказал:
– У нас в Москве есть своя русская Роза Валетти – Варвара Массалитинова.
– Значит, я немецкая Варвара Масс… али… – фамилия оказалась слишком трудной для Розы Валетти.
Действительно, и внешне, и своей актерской индивидуальностью, манерой исполнения эти две замечательные «старухи» были до странности похожи друг на друга.
Тогда в Германии, за исключением государственного театра и в какой-то степени театра Рейнгардта, театры не имели постоянной труппы: актеров приглашали для участия в определенной пьесе, которая шла до тех пор, пока делала сборы.
Анатолий Васильевич, обращаясь к участникам спектакля, сказал:
– Сегодняшнее исполнение я считаю концертным, безукоризненным. Грустно, что через некоторое время вы разойдетесь по различным театрам. Как хорошо было бы сохранить ядро вашего театра. Берт Брехт, зная вас, учитывая ваши индивидуальности, будет писать яркие и острые пьесы. Если это содружество театра с Брехтом сохранится, я предсказываю вашему театру большое будущее. Уже и теперь ваш театр можно назвать одним из интереснейших молодых театров в Западной Европе.
– У нас большие планы! Замыслы у нас просто грандиозные! Публика хорошо нас посещает и, вы сами слышали, аплодирует дружно. Две фирмы граммофонных пластинок подписали с нами договор на запись отрывков из «Трехгрошовой оперы». Уже записано оркестровое попурри из мелодий Курта Вейля, и все же… – Брехт покосился на Гарольда Паульсена, – кое-кому предлагается ведущая роль в новой постановке Рейнгардта, нашу бесценную Валетти настойчиво сманивает Барновский; Ленни Ления слишком красива для такого маленького театра (это ей говорят господа из кино), приходится вводить второй состав…
Названные Брехтом актеры запротестовали и стали клясться в верности театру на Шиффбауэрдамм.
– Нам здесь отлично, – волновалась Роза Валетти, – что он выдумал, этот мальчик?
Энгель спрашивал Луначарского, какая советская пьеса подошла бы их театру. И Энгель и Брехт много знали о жизни нашего театра и следили по газетам и журналам за театральными новинками.
– Что вы посоветуете нам? «Мандат»? «Учитель Бубус»? Нас увлекают эти пьесы. Что еще вы могли бы нам рекомендовать?
Анатолий Васильевич обещал подумать, но, смеясь, он обнял за плечи Брехта:
– У него требуйте новых пьес! У вас есть свой автор; вот вашу пьесу я непременно порекомендую Таирову.
Полные чудесных впечатлений от спектакля, от беседы, от особого, скромного обаяния Брехта, от всей чистой атмосферы театра, так непохожей на дух наживы и делячества, царящей в большинстве театров Западной Европы, мы пешком возвращались в полпредство, продолжая начавшийся в дирекции разговор.
– Я сначала была разочарована, – созналась А. В. Литвинова. – Как англичанка, я пришла сюда, чтобы увидеть старую добрую музыкальную комедию, а увидела нечто совсем новое и неожиданное, с чем я не сразу освоилась. Но это так талантливо!
Мы шли по Фридрихштрассе, залитой огнями реклам. В лиловом мертвенном неоновом освещении лица прохожих казались неестественно белыми, жуткими масками. Спектакли в театрах кончились, зрители разошлись по домам, и новый людской поток устремился к ночным кафе, барам, дансингам. Казалось, эти господа в котелках, накрашенные женщины сошли с рисунков Георга Гросса.
– Вся эта накипь, которая кишит здесь, это еще не Берлин, это именно накипь, – сказал Анатолий Васильевич. – В многомиллионном городе есть и такая пресыщенная, опустошенная, жаждущая только острых ощущений свора бездельников, но есть и чуткая вдумчивая интеллигенция, а главное, могучий рабочий класс. Вот увидите, – для них когда-нибудь Берт Брехт создаст свой великолепный театр.
Года через полтора-два мы встретились с Брехтом у общих знакомых. Были художники, актеры, журналисты. Известный чешский художник Эмиль Орлик делал моментальные зарисовки и щедро раздаривал их. Я так увлеклась мастерством Орлика, что, когда он попросил передать его рисунок Луначарскому, не сразу разыскала среди гостей Анатолия Васильевича. Он сидел в смежной маленькой гостиной с Брехтом и говорил о недавно умершем писателе Клабунде, стихами которого тогда зачитывался.
– Должен честно сказать, что ни вам, ни Клабунду у нас пока не повезло: ни «Меловой круг» у Корша, ни «Опера нищих» в Камерном театре не оправдали моих надежд. Но это не должно особенно огорчать – вещи эти напечатаны, и раньше или позже к ним вернутся. Я уверен, что «Меловой круг» еще пойдет в театрах и «Опера нищих» тоже.
– Для меня «Меловый круг» был настоящим откровением, – сказал Брехт.
Кто знает, может быть, тогда, во время беседы с Луначарским, у Брехта родилась идея написать «Кавказский меловой круг».
Вспоминается еще одна встреча в Берлине – в 1931 году. Был прием в Обществе друзей Советской России; показывали «Путевку в жизнь» – один из первых наших художественных звуковых фильмов. Баталов, Жаров, исполнитель роли Мустафы Шкета И. Кырла и, главное, глубоко человечное дыхание всего фильма произвели на приглашенных сильнейшее впечатление. Анатолий Васильевич всегда, когда видел, что произведение советских художников нравится, волнует, убеждает, чувствовал себя именинником. Он был в чудесном настроении и после просмотра охотно согласился пойти в недавно открывшийся артистический итальянский ресторанчик. Собралось человек пять-шесть, в том числе и Бертольт Брехт.
Луначарский в свои эмигрантские годы подолгу жил в Италии и привык, даже полюбил итальянскую кухню.
– Ай-ай-ай, – шутливо укорял он, – в Берлине есть итальянский ресторан, а я до сих пор не был в нем. А там готовят равиоли?
Ресторан оказался маленьким, уютным, похожим больше на комнату в каком-нибудь клубе, чем на обычный ресторанный зал. Посетителей привлекали две достопримечательности: игра блестящего пианиста Юлиуса Фусса и настоящие итальянские блюда. По стенам – фотографии знаменитых актеров драмы и кино с шутливыми автографами, на столиках – кьянти в плетеных бутылочках, дымящиеся спагетти и равиоли. Публика одета скромно, но время от времени появляется то известный дирижер, приехавший во фраке после концерта, то закутанная в меха певица, гастролирующая в Берлине.
За нашим столиком разговор шел о звуковом кино, к которому многие тогда относились с недоверием. Анатолий Васильевич доказывал, что звуковое кино – гигантское достижение, преимущество которого нам даже трудно себе представить, так оно огромно.
– Но, – предупреждал он, – есть опасность скатиться в подражание театру, ставить «комнатные», слащавые комедийки, которые уже за короткое время успели наводнить экран, опасность утерять специфику киноискусства.
Пианист Юлиус Фусс, исполнив свою программу, подошел к нашему столику и попросил Брехта представить его Луначарскому, которому он хотел сыграть. По просьбе Анатолия Васильевича он исполнил «Давидсбюндлеров» из шумановского «Карнавала». После этого он подошел к столику, за которым сидела женщина в строгом платье, бледная и темноглазая. Она улыбнулась, кивнула Брехту и вместе с пианистом поднялась на крохотную эстраду. Облокотись на рояль, она исполнила, нельзя сказать – спела, скорее сыграла песенку К. Вейля на слова Брехта «Зурабайя-Джонни». Ее заставили бисировать, долго не отпускали. На Анатолия Васильевича и на меня песенка и исполнение произвели большое впечатление; я сказала об этом Брехту, и через несколько недель в Москве мы получили ноты, присланные автором текста. Я мечтала воспользоваться этой песенкой для одноактной пьесы, которую тогда готовила, и Анатолий Васильевич перевел стихи Брехта. К сожалению, он записал их карандашом на листке блокнота и потом потерял листок.
В январе 1933 года в Берлине была напряженная, накаленная атмосфера. Нацисты рвались к власти. На окраинах часто раздавались выстрелы, нацистские молодчики расправлялись с теми, кто выступал против фашизма. Людям, прогрессивно настроенным, особенно людям творческим, работать было очень трудно, даже опасно. В эту тревожную пору на одном из спектаклей у Рейнгардта нацисты устроили отвратительнейший скандал, были свистки, грубые расистские выкрики по адресу самого Рейнгардта и исполнителя главной роли – Фрица Кортнера. Пришлось дать занавес посреди действия, полиция прекратила спектакль. На следующий день полицайпрезидиум запретил пьесу, а виновники скандала остались безнаказанными. Та же история повторилась с пьесой Эльвиры Кальковской «Газетная хроника», поставленной в Шиллер-театре: нацистские громилы бросились на сцену, чтобы расправиться с постановщиком и исполнителями. Вмешательство полиции снова свелось к запрещению спектакля.
Луначарскому сделали в Берлине серьезную глазную операцию, и он вынужден был оставаться некоторое время под наблюдением известного окулиста профессора Крюкмана. Профессор не только разрешил, но даже настойчиво рекомендовал Анатолию Васильевичу посещать концерты, театры, встречаться с людьми. Живя в Берлине, мы имели возможность наблюдать последний этап борьбы прогрессивной немецкой интеллигенции с оголтелыми, воинствующими силами реакции. Как-то на спектакле талантливой артистки Тиллы Дюрье (она играла в «Тени» итальянской писательницы Деледда) мы встретились с Брехтом, и он пригласил нас к себе на чай, обещая читать свои новые, еще не изданные вещи. Но в назначенный день Луначарский должен был присутствовать на одном официальном приеме. Отказаться было невозможно. Между тем Анатолию Васильевичу очень хотелось послушать новые произведения Брехта, и он попросил меня предупредить Брехта, что мы будем у него с некоторым опозданием. Только в седьмом часу мы очутились в хмуром по-зимнему Тиргартене и на такси отправились в западную часть города, где жил Брехт. На одной из пересекающих Курфюрстендамм улиц (кажется, на Фазаненштрассе) мы нашли нужный нам дом. Вход со двора – Брехт мне объяснил все подробно, – незачем стараться прочесть номер, надо пройти в ворота под аркой и подняться на седьмой этаж. И вот мы на деревянной лестнице, необычайно крутой и узкой; лифта нет.
– Что-то из Мюрже! Прелесть! – говорит Анатолий Васильевич, слегка задыхаясь (у него в то время уже обострилась болезнь сердца).
Я несколько озадачена: мне приходилось не раз бывать в гостях у немецких писателей и журналистов, в большинстве своем менее известных, чем Бертольт Брехт, и меня удивлял обдуманный комфорт, а зачастую и богатство их жилищ. А здесь… действительно «Сцены из жизни богемы».