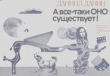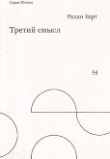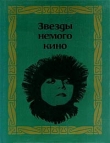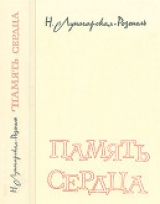
Текст книги "Память сердца"
Автор книги: Наталья Луначарская-Розенель
Жанры:
Искусство и Дизайн
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 31 страниц)
– Как? Разве вас высылали из Берлина? – Моисси с напряженным любопытством смотрел на Анатолия Васильевича.
– Да, представьте себе. В 1911 году я получил партийное задание, связанное с берлинской организацией; полиция кайзера не жаловала нас, русских эмигрантов, и мне пришлось выехать из Швейцарии в Германию с фальшивым паспортом на имя некоего Соловейчика. Все сошло вполне благополучно. Года через два мне снова случилось приехать в Берлин как лектору, под своим собственным именем и со своими документами. Вдруг ночью ко мне в номер гостиницы являются затянутые в мундиры полицейские. Проверка документов. Я показываю приглашение от устроителей лекций, паспорт.
– Aber Sie sind nicht Lunatscharsky Sie sind Soloweitschick[5]5
Но вы не Луначарский – вы Соловейчик (нем.).
[Закрыть], – и предъявляют мне ряд фото, снятых полицией в мое предыдущее пребывание в Берлине, без моего ведома, в фас, в профиль, во весь рост и т. д. – Ну, как, Herr Soloweitschick, вы будете чего доброго отрицать свое сходство? Разве это не вы?
– Я не заходил в Берлине к фотографу и не знаю, чьи у вас фотокарточки. Зовут меня Луначарский Анатолий Васильевич.
Уговоры были бесполезны – меня выслали.
Моисси залился веселым хохотом.
– Занятная история! Вы чудесно ее рассказываете. Как вы это подметили – грозный, указующий перст: «Sie sind nicht Lunatscharsky…» Какой бы из вас вышел актер!.. А вот я в последнее время все больше увлекаюсь литературой. Я пишу. Это гораздо интереснее, чем играть на сцене.
Анатолий Васильевич лукаво щурится.
– Но пишете, наверно, для театра?
– О да, – подтверждает Моисси. – Я работаю над драмой «Наполеон». Я изучаю материалы, их – море! Вряд ли о ком-нибудь из исторических лиц написано столько трудов, издано столько мемуаров. Чем больше узнаешь о нем, тем яснее становится, что он – единственное, неповторимое явление… гений! Он гениален даже на св. Елене, когда его мучил рак и тюремщики-англичане.
– Вам хотелось бы воплотить этот образ на сцене?
– О да, безумно. Я бы играл корсиканца, человека южной крови, необузданного темперамента. Я мечтаю пожить некоторое время на Корсике, понаблюдать там людей, нравы… Впрочем, я так ясно представляю себе Корсику, мне кажется, что я бывал там и не однажды. Корсика, корсиканцы, ведь это все – прекрасное, лазурное Средиземное море. Корсика, Далмация. Далматинцев я знаю с детства, я представляю себе корсиканцев похожими на них; у них такая же гористая скудная почва, те же оливковые рощи, те же родовые кланы, старинные суеверия, та же вспыльчивость и гордость… Когда-нибудь я сыграю своего Наполеона.
– Да, я представляю себе Моисси – Наполеона. Это может быть захватывающе. Но для этой роли вам придется изменить своим принципам – играть в парике, гримироваться: ведь надо создать маску Наполеона…
– Нет, нет, уверяю вас, вы ошибаетесь. Я сделаю так: – Моисси откинул назад и пригладил свои мягкие вьющиеся волосы; перед нами вдруг возник молодой генерал Бонапарт, как будто сошедший с портрета Давида. Моисси улыбнулся своей открытой, ясной улыбкой. – Ну а потом, – он еще больше пригладил волосы и оставил на своем большом выпуклом лбу одну маленькую прядь, его губы сложились в тонкую, официальную полуулыбку, руку он положил за борт пиджака.
– Наполеон – император! – воскликнула я, – вам действительно не нужен грим! Ну, а костюмы?
Моисси усмехнулся.
– Я вынужден буду надеть традиционный серый походный сюртук и треуголку – ничего не поделаешь. Только не надо, чтобы на этом фиксировалось внимание зрителя. Главное – человек! Одинокий, гениальный человек!
Его подавленное, угнетенное состояние прошло бесследно. Он обещал прислать рукопись своей драмы «Наполеон».
– А может быть, я сам привезу ее в Москву.
– Это будет еще лучше.
– Но ведь мы увидимся, когда вы будете возвращаться из Парижа в Москву, не правда ли? Вы пробудете хоть недельку в Берлине?
Когда он ушел, Анатолий Васильевич сказал мне:
– Как с ним хорошо и интересно! Мне бы очень хотелось, чтобы «Наполеон» удался ему, чтобы и у нас можно было поставить эту драму.
Осенью 1928 года весь мир отмечал столетие со дня рождения Льва Толстого.
Особенно торжественно праздновали юбилей в Советском Союзе, но и Германия отнеслась к этому событию с большим вниманием. Были газетные статьи, лекции, юбилейные издания произведений Толстого. В театрах Макса Рейнгардта возобновили «Живой труп» и поставили «Власть тьмы».
Как ни странно, я впервые увидела на сцене «Власть тьмы» в Рейнгардтовском театре, но, разумеется, я много раз читала и хорошо помнила эту драму. Каюсь, мне казалось тогда, что «Власть тьмы» невозможно поставить на сцене, что это типичная «драма для чтения». Слишком страшно, слишком беспросветно, моментами слишком натуралистично. Например, сцена детоубийства…
Я ошибалась. Постановка 1957 года в Малом театре полностью опровергла мои первоначальные представления; но еще до этого мне пришлось изменить свое мнение о несценичности «Власти тьмы»: в Берлине я увидела большой, захватывающий, театральный, в лучшем смысле этого слова, хотя и очень тяжелый спектакль.
Режиссура отнеслась с огромным пиететом к тексту Толстого: Рейнгардт не позволил себе ни купюр, ни, тем паче, перестановок и изменений. Не было ни вводных песен, ни плясок, ни сопровождающей музыки, которые оживляют (хотя такое «оживление» кажется мне спорным) талантливую постановку Б. Равенских. В спектакле берлинского театра не было никакой «развесистой клюквы»: декорации, костюмы, грим могли бы сделать честь любому реалистическому театру в Союзе. Слушался спектакль с напряженным вниманием, после заключительного акта публика долго аплодировала стоя.
Мне было очень досадно, что на этой премьере, поставленной в юбилейную дату, я была одна и не слышала мнения о ней Анатолия Васильевича, который выехал в Москву на толстовские торжества.
Зато «Живой труп» мы смотрели вместе до его отъезда, и я вспоминаю об этом спектакле, как об одной из лучших среди известных мне работ Макса Рейнгардта.
Центром этого спектакля был Федя Протасов – Александр Моисси. Только увидев его на немецкой сцене, не в качестве гастролера, а органически связанного с другими исполнителями общим языком, замыслом режиссера, долговременным врастанием в атмосферу спектакля, повторяю, только здесь, в рейнгардтовском спектакле, я оценила по-настоящему гениальность Моисси. Обаяние Феди Протасова, его непосредственность, его наивность и вместе с тем напряженная духовная жизнь – все это звучало в каждом слове, чувствовалось в каждом жесте его рук, во взгляде больших, смотрящих в душу глаз этого неповторимого актера. Страдал, любил, метался, искал выхода из своей запутанной и сложной судьбы очень хороший и очень несчастный человек.
Нужно сказать, что все исполнители в этом спектакле были правдивы и убедительны. Впервые я поняла, что роль жены Протасова, Лизы, – интересная и сложная роль. Ее играла Елена Тиммих и вместо обычной трактовки Лизы, как банальной, светской, эгоистичной женщины, создала совсем новую Лизу, привлекательную своей чуткостью, нервностью. В какой-то части своего существа она была «парой» Протасову, но только до известного предела, за который она не хотела и не умела вырваться, связанная путами житейских условностей, и сама тяжко страдала от этого. Я видела Тиммих и в других ролях, более эффектных и выигрышных, чем роль Лизы Протасовой, но именно этот спектакль убедил меня, какая она тонкая актриса.
Зрители принимали «Живой труп» совершенно восторженно.
Конечно, это был не рядовой спектакль. Юбилей Толстого привлек в этот вечер в театр Рейнгардта самую интеллигентную и прогрессивную публику немецкой столицы. Моисси выступал в Берлине после довольно значительного перерыва: некоторое время он играл в венской труппе Рейнгардта, гастролировал в Америке, но все же прием, оказанный ему в этот вечер берлинцами, поразил меня. Вызовам не было конца. Сначала выходили кланяться все исполнители во главе с Максом Рейнгардтом, потом Моисси и Тиммих, потом один Моисси. Когда занавес опустили в тридцать второй раз (я, по актерской привычке, считала), Луначарский сказал мне:
– Ну, кажется, все. Пойдем за кулисы, поздравим Сандро.
Мы вошли за кулисы большой, уже полутемной сцены. Там во главе с Рейнгардтом стояли участники спектакля, некоторые еще в гриме и костюмах; все были радостно взволнованы этим триумфом. Аплодисменты из зала не только не умолкали, но продолжали нарастать. Мы увидели, что Моисси, усталый до изнеможения и, несмотря на это, сияющий, с радостной улыбкой снова вышел к публике за занавес… И вновь рукоплескания, возгласы. Слегка раздвинулся тяжелый бархатный занавес, и Моисси вернулся за кулисы. Его лицо блестело от слез и пота; он издали сразу заметил Луначарского. С криком: «Васильович! Дорогой мой Васильович!» – Моисси ринулся к нему и сжал его в объятиях. Публика продолжала неистовствовать, и кто-то из администрации настойчиво просил, чтобы Моисси вышел «в самый последний раз». Его буквально тащили на авансцену, но он охватил обеими руками руку Луначарского и повторял: «Не уходите, Васильович. Я так счастлив. Одну минутку – я вернусь сейчас же. Фрау Наташа, Васильович, я вас очень прошу – не уходите». Наконец в зале погасили свет, и Моисси вернулся к нам. Подошли Рейнгардт, Тиммих и увели нас в кабинет директора.
Моисси, радостно возбужденный, рассказывал Рейнгардту о своих московских спектаклях, о том, какую роль русская литература сыграла в его жизни, в его формировании актерском и человеческом. «Не в так называемом Новом Свете – Америке – будущее человечества, а в молодой, новой России», – повторял он. Все время он звал Луначарского «Васильович», считая, что так принято в России; меня он всегда называл «фрау Наташа» и, произнося наши имена, с какой-то детской, удивительно милой гордостью посматривал на своих коллег.
Мы ушли совершенно очарованные и нашим другом Александром Моисси, и талантливой, необычайно скромной Тиммих, и всегда молодым, энергичным, творчески неугомонным Максом Рейнгардтом.
В 1930 году Луначарский снова был в Берлине. Он готовился к выступлению на Всемирном конгрессе философов в Гамбурге и очень много работал.
Берлинская публичная библиотека любезно предоставила Анатолию Васильевичу возможность брать книги на дом, и мы жили под Берлином в живописном, уютном Ванзее, в санатории «Таннэк». Оказалось, что в нашем маленьком санатории на берегу озера часто отдыхал Моисси и сохранил наилучшие отношения с владелицей д-ром Р., очень образованной, симпатичной пожилой дамой, объездившей весь земной шар. Как-то за ужином она спросила, будем ли мы завтра днем на Ванзее (мы часто уезжали в Берлин), и прибавила, улыбаясь, что готовит нам сюрприз к ленчу. Я подумала, что сюрприз состоит в приготовлении какого-нибудь русского блюда, чем она и шеф-повар нас иногда баловали.
Но сюрприз был совсем иного рода. Когда мы после утренней прогулки проходили через холл, там сидел загорелый, поздоровевший, в светлом летнем костюме, Александр Моисси. Это действительно был замечательный сюрприз! Он приехал пригласить нас на свой спектакль «Идиот» в Берлинер театер. Поставил этот спектакль Владимир Александрович Соколов, бывший артист Московского Камерного театра, очень своеобразный и острый художник, в которого буквально влюбился Макс Рейнгардт во время гастролей Камерного театра в Берлине и «сманил» его в свой театр.
Соколов был автором инсценировки «Идиота», режиссером и исполнителем роли Рогожина. Моисси играл князя Мышкина. Он говорил о предстоящей премьере очень возбужденно, жестикулируя своими тонкими, выразительными руками.
– Вы не можете себе представить, Васильович, какой у меня на этот раз Lampenfieber[6]6
Боязнь рампы (нем.).
[Закрыть]. Я просыпаюсь ночью в холодном поту и до утра не могу заснуть, несмотря на всевозможные снотворные… Я не имею права плохо сыграть эту роль! Любую другую, только не эту! Достоевский так необъятно велик и так человечен… Мечта моей жизни, по крайней мере этих последних лет, сыграть князя Мышкина. Соколов сделал отличную инсценировку, он предлагал ее нашему великому Максу, но в театре Рейнгардта репертуар подобран на два года вперед. Пришлось Соколову и мне взяться за организацию спектакля, собрать ансамбль, договориться с Берлинер театер, а там свои планы, и дирекция дала нам очень короткий срок для репетиций. Пугает меня и публика Берлинер театер – ведь это совсем не то, что тонкая театральная публика у Рейнгардта. Берлинер театер где-то в стороне…
– Но, дорогой друг, как раз это не должно вас смущать, – возражает Луначарский. – Вспомните свои гастроли в Москве; основная наша публика – рабочие; и мы ставим для нее Софокла, Шекспира, Расина. У этой пролетарской публики великолепное чутье на все самое ценное и долговечное в искусстве.
– Но ведь вы уже в течение тринадцати лет воспитываете и развиваете интеллект и вкус русского пролетариата, а у нас же в окраинных «театрах для народа» театральные дельцы подделываются под вкус неискушенной, примитивной публики и пичкают ее мещанскими комедийками, сентиментальными и безвкусными. Да и находится Берлинер театер не в пролетарском Нордене – это было бы гораздо лучше, – а где-то посредине между рабочим и мелкобуржуазным Берлином. Я боюсь, как примет эта мещанская публика Достоевского. Обещайте мне, дорогой Васильович, и вы, фрау Наташа, приехать на нашу премьеру. Мне станет теплее на сердце, если я буду знать, что вы в зрительном зале. Не стоит больше говорить об этом спектакле. После премьеры я буду ждать, что вы скажете мне всю правду, как бы она ни была горька, а теперь…
– Теперь пойдем гулять, – дружески прерывает его Анатолий Васильевич. – Вы ведь знаете, какие здесь чудесные прогулки. А день какой благодатный. У нас в России такие сентябрьские дни называют бабьим летом.
– Как? Как вы сказали? – Моисси заинтересовался этим выражением.
– Это непереводимо, – ответила я, но Анатолий Васильевич образно изложил свое понимание происхождения и смысла этого термина.
– Удивительно, как метки эти народные названия, особенно русские. Да, ваш народ заслуживает счастья.
Мы шли тропинками соснового бора. Белки, не прячась и не пугаясь, прыгали с ветки на ветку и, как расшалившиеся дети, бросали в нас сосновыми шишками и ореховой скорлупой. Анатолий Васильевич похвастал, что у него теперь появилась «своя» ручная подружка-белочка. Очевидно, она обитает в дупле дерева возле виллы «Таннэк», и, когда Анатолий Васильевич по утрам работает у открытого окна, ему приятно, что за ним следят две блестящие бусины – глаза этого любопытного зверька.
– Постепенно моя белочка осмелела, – рассказывал Анатолий Васильевич, – и, когда я кладу для нее орехи на край подоконника, она прыгает чуть ли не в самую комнату и очень деловито их собирает. Она прячет орехи за щеку, на мгновение исчезает и возвращается за другими. По-видимому, готовит запасы на зиму. Сознаюсь, – добавляет он смеясь, – что отчасти из-за нее я не тороплюсь возвращаться в город.
В этот момент я вскрикнула: буквально из-под ног у меня выскочил заяц и скрылся в густом орешнике.
– И это в тридцати километрах от огромной, шумной столицы, в одном километре от фешенебельного теннисного клуба, куда съезжаются ежедневно сотни автомобилей. Как немцы умеют сберечь природу, сохранить лесную жизнь, лесных зверюшек чуть ли не в самом человеческом муравейнике!
– Да, великий народ-труженик, – вздохнул Моисси, – и я стольким обязан ему. Бедным мальчиком, почти не зная немецкого языка, попал я в Вену и на первых порах выступал в мюзик-холле как исполнитель песенок. Вскоре я перешел в Бургтеатер на небольшие роли… А потом моя встреча с Максом Рейнгардтом! Он поверил в меня, увез в свой театр в Берлине. Многие пожимали плечами – новые причуды Макса, чего ждать от этого юного итальянца, албанца или кто он такой вообще. Я сыграл Ромео, и немецкие зрители сразу «приняли» меня. С тех пор как я начал работать с Рейнгардтом, когда, как принято говорить, Рейнгардт «открыл» меня, я узнал и полюбил этот народ, я служил и служу немецкому искусству, насколько хватает моих сил и способностей, но последние годы мне все чаще и чаще напоминают, что я здесь чужой… Ах, довольно об этом, не хочу омрачать этот чудесный день.
Мы закончили вечер, сидя у большого горящего камина, и д-р Р., довольная своим «сюрпризом», готовила нам какой-то свой особенный кофе, который она привезла с острова Ява.
Перспектива увидеть «Идиота» привлекала Луначарского и несколько беспокоила его. Ему была неприятна предстоящая встреча с В. А. Соколовым.
Дело в том, что в период работы Соколова в Камерном театре Анатолий Васильевич очень ценил его, как интересного, оригинального актера. Луначарскому всегда импонировали художники с творческой инициативой, ищущие своих путей. А Соколов помимо блестящего исполнения таких ролей, как папа Болеро в «Жирофле-Жирофля», профессор в «Человеке, который был четвергом» Честертона, был одним из первых актеров-кукольников в Москве. Он выступал со своими куклами, которых сам мастерил, на «капустниках», в тесном кругу друзей, изредка на юбилеях перед широкой публикой, выступал талантливо и ярко.
В Москве его никто не «затирал» и не обижал; он был любим и популярен, и вдруг после гастролей в Западной Европе он остался за границей, причинив этим множество огорчений А. Я. Таирову, возглавлявшему Камерный театр. Правда, Соколову очень повезло в Германии, особенно на первых порах; он сразу занял отличное положение, в первом же сезоне сыграв в театре «Каммершпиле» роль Йошке-музыканта в пьесе «Певец своей печали» Осипа Дымова и в «Гросес Шаушпильхаус» главную роль в «Артистах варьете» того же Дымова; много и успешно он снимался в кино… И все же в глазах Анатолия Васильевича Соколов был «невозвращенцем».
На спектакль мы поехали вчетвером с фрау д-р Р. и одним видным сценаристом, жившим одновременно с нами в санатории «Таннэк».
В этот вечер в Берлинер театер был сверханшлаг, и публика собралась «премьерная», вопреки опасениям Моисси. Я заметила в первых рядах партера знаменитого театрального критика Альфреда Керра, с седеющими подстриженными бачками, как на портретах 40-х годов прошлого века, и заместителя Рейнгардта д-ра Роберта Клейна, и обаятельную Фрицци Массари, одинаково интересную в оперетте и лирической комедии, ее мужа, талантливого комика Палленберга, и многих известных представителей театрального Берлина. Очевидно, такое сочетание имен, как Достоевский, Моисси, Соколов, заинтересовало публику.
Должна сказать, что инсценировка Соколова была почти той же, которую я видела на московской и провинциальной сцене. Она была, во всяком случае, вполне корректна; в ней не было никакого подделывания под вкусы буржуазной публики, никакой отсебятины, ни особо подчеркнутой, модной тогда, «достоевщины».
К сожалению, в спектакле чувствовалось, что постановщик был ограничен во времени и в средствах. Вдобавок обе героини – Настасья Филипповна и Аглая – были бесцветны. Словом, интерес спектакля свелся к двум фигурам – князю Мышкину и Рогожину. Их разговором в вагоне начинается спектакль. Сразу приковало к себе внимание нервное, обаятельное лицо молодого князя – Моисси и широкоскулое, с косящими черными глазами, монгольское лицо Рогожина – Соколова. Сразу создалось впечатление, что случайная встреча в вагоне связала этих двух людей сложнейшими нитями. Они сидят друг против друга – обнищавший князь и «миллионер в тулупе», – и Рогожин с жадностью расспрашивает князя. Детское, «не от мира сего», простодушие князя Мышкина, сквозящее в неуверенных жестах, в интонациях задушевного музыкального голоса, подчеркнуто его внешним видом: мягкие, вьющиеся волосы, широкополая, сильно измятая шляпа, легкое, какое-то «легкомысленное», не по петербургскому климату заграничное дешевенькое пальто: все это сразу заставляет присматриваться, как к диковине, хищного, неотесанного, по-своему недюжинного, только недавно вырвавшегося из-под власти деспота-отца купца Рогожина. Эта встреча в вагоне – значительна и серьезна. И вдруг – деталь, пусть не очень важная, но которая как-то настораживает в отношении к постановщику, – у князя Мышкина в руке узелок из ярко-красного в желтых цветах ситцевого платка, а через руку переброшена огромная, достающая почти до пола связка баранок. Во время беседы с Рогожиным Мышкин то и дело разламывает баранки из этой связки и грызет их, а Рогожин из плетеной кошелки достает яйца вкрутую, разбивает их о край столика, солит и глотает одно за другим. Что это? Натурализм? Или «русская экзотика», «развесистая клюква», даже следов которой не было у немца Рейнгардта в его толстовских спектаклях и в первой же сцене давшая себя знать у москвича Соколова?
Анатолий Васильевич поморщился и шепнул мне:
– Соколов щеголяет знанием «стиль рюсс». Это безвкусно.
Мне кажется, что Мышкин мог бы стать лучшей ролью Моисси, что его актерская индивидуальность сливалась с этим образом до тождества. В мире, полном корысти, алчности, чванства, мстительности, животных страстей, появился человек с такой чистой и ясной душой, с таким огромным желанием послужить ближним, что даже тупые, одержимые похотью и стяжательством люди испытывают на себе лучи его тепла. «Мышкин – самый нормальный из людей, – сказал Салтыков-Щедрин. – Такими, как он, должны были бы быть все люди». Естественного, простодушного князя Мышкина играл Моисси.
Те Мышкины, которых мне приходилось видеть раньше (среди них – очень талантливые актеры), были истеричны и слезливы, у Моисси, напротив, Мышкин был спокоен и благостен – благостен без ханжества, зло как бы отскакивало от него. В сценах с Ганей Иволгиным, с Фердыщенко, Епанчиным он казался таким «настоящим», таким человечным, а они, мнящие себя нормальными, полноценными, при сравнении с этим «идиотом» становились какими-то уродливыми призраками.
Рогожин в спектаклях, виденных мною в Москве, был разудалым, загулявшим молодым купцом, «забубенной головушкой», пусть с большими страстями, но в плане «ндраву моему не препятствуй». В исполнении Соколова Рогожин – маленький, некрасивый, скуластый – казался патологически жестоким, коварным, но значительным человеком, ему была по плечу его дружба-вражда с князем. Столкновение этих двух характеров не могло не закончиться катастрофой.
Но невольно во время спектакля возникала мысль – как мог бы засверкать талант Моисси в другой, более тщательной, более продуманной постановке, в другом антураже.
Публика приняла спектакль с большой теплотой; аплодировали, вызывали, но, конечно, этот успех не мог сравниться с триумфальным приемом «Живого трупа» у Рейнгардта.
Луначарский исполнил свое обещание, и по окончании спектакля мы пошли в уборную Моисси. Тот обнял Анатолия Васильевича, поцеловал мне руку.
– Друзья, как я рад, как тронут. Не ругаете? У нас было так мало времени. Соколов – настоящий энтузиаст: он сделал все, что мог.
Соколову, очевидно, сказали, что Луначарский находится у Моисси, и он пришел, чтобы приветствовать Анатолия Васильевича. Анатолий Васильевич на его любезности отвечал вежливо, но холодновато. Моисси почувствовал какую-то неловкость и недоговоренность во время этой беседы; очевидно, причина была для него не совсем ясна, и он смотрел на Анатолия Васильевича несколько встревоженно своими большими карими глазами. Анатолий Васильевич поспешил успокоить его.
– Вас невозможно ругать. Мышкин у вас получился таким просветленным, детски-беспомощным и мудрым мудростью сердца. Эта роль должна остаться в вашей сокровищнице как одна из чистейших и крупнейших жемчужин. Ну, о спектакле в целом мы поговорим в другой раз. Тут я мог бы кое с чем не согласиться.
Мы условились встретиться в ближайшие дни и пригласили его на Ванзее, но Моисси каждый вечер был занят и поэтому обещал сообщить по телефону, когда сможет навестить нас.
В машине по дороге «домой», на Ванзее, д-р Р., сценарист и я стали упрекать Анатолия Васильевича за слишком требовательное отношение к спектаклю.
– Я – искушенная театралка, я смотрю все самое интересное в берлинских театрах, не пропускаю известных гастролеров, и тем не менее я была взволнована и растрогана игрой Моисси. Мышкин – одна из лучших его ролей.
Сценарист (в прошлом театральный драматург) прибавил:
– С моей точки зрения, Моисси заслуживает глубочайшего уважения: он ищет новые краски, создает новые образы. А ведь он мог бы «почить на лаврах». Ему обеспечен успех в его старых «коронных» ролях. Сейчас он переживает трудный момент: снова поднялась волна шовинизма и захватила даже деятелей театра. Вот хотя бы последняя история с перстнем Поссарта… Вы слышали о ней?
Мы ничего не слышали о перстне Поссарта и просили его продолжать.
– Великий Поссарт, уходя со сцены, завещал свой перстень Барнаю, как величайшему из немецких трагиков, с условием, что он в свою очередь передаст его крупнейшему актеру следующего поколения. Барнай завещал перстень Альберту Бассерману. Бассерман, как вы знаете, до сих пор красив, пластичен, обаятелен. Для него современные драматурги создают пьесы с центральной ролью этакого стареющего, обворожительного светского льва. В этих ролях он бесподобен. Но все же ему теперь много лет, и театральная общественность ждет, что он продолжит традицию и заранее публично назначит своего преемника, который после его смерти получит символический перстень. К Бассерману обратились журналисты, желая узнать его намерения. Он отделался шуткой, но заявил, что вскоре решит этот вопрос и сообщит печати. И вот тут начались закулисные волнения и громкие пересуды. Претендентов на перстень Поссарта оказалось, собственно, трое: Александр Моисси, Вернер Краус и Фриц Кортнер. Но из троих только Вернер Краус – чистокровный, стопроцентный немец. Шовинистические круги оказывают давление на выбор Бассермана и требуют, чтобы знаменитый перстень был надет на палец истинного германца. На это люди прогрессивные и разумные возражают, что Моисси сделал для германского театрального искусства больше всех своих современников. Вместо ответа правые газеты обливают грязью Моисси и его сторонников. Эта история с перстнем Поссарта очень характерна для Германии нашего времени. В здоровом могучем теле немецкого народа появился гнойный нарыв национализма, антисемитизма. Это может привести к огромной трагедии. Кстати, – прервал свой рассказ сценарист, – на днях будет просмотр звукового фильма «Дело Дрейфуса». Фриц Кортнер играет самого капитана Дрейфуса, Альберт Бассерман – полковника Пиккара, Гомолка – Эстергази.
– Непременно пойдем, – говорит Анатолий Васильевич. – Я читал, что готовится такой фильм. Он крайне нужен именно теперь. – Помолчав, он добавил: – А за Моисси не заступайтесь. Я люблю его не меньше, чем вы. Но его вдохновенному таланту нужна достойная его рамка: антураж, декорации. Соколов как режиссер разочаровал меня, я почти уверен, что, оторвавшись от советского театра, он скоро выдохнется и как актер. Такая же судьба грозит Михаилу Чехову. Миф об Антее… люди искусства должны помнить о нем!
Через несколько дней мы были на просмотре фильма «Дело Дрейфуса» в большом кинотеатре на Курфюрстендамм. Это был очень серьезно, очень вдумчиво сделанный фильм; казалось, что на экране не актеры, а подлинные действующие лица этой человеческой трагедии. Казалось, что смотришь фильм-документ.
Рыцарственно честный старый офицер, полковник Пиккар, в исполнении Бассермана был так правдив, что впоследствии, когда мне пришлось встретиться у общих знакомых с вдовой генерала Пиккара, мне все время хотелось сказать этой симпатичной старой даме: «А ведь я была знакома с вашим мужем».
Кортнер играл Дрейфуса, не спекулируя на чувстве жалости, не стараясь делать своего героя особенно симпатичным, – все равно публика сочувствовала ему. Дрейфус – скромный, дельный штабной офицер, не сделавший ничего дурного, ничего незаконного. И при всей очевидной невиновности – заточение на Чертовом острове, обвинение в государственной измене, позор! Когда после произнесения приговора с него срывают погоны, ломают шпагу и лицо этого спокойного, сдержанного человека на мгновение искажается от ужаса и незаслуженного смертельного оскорбления, – из темного кинозала послышались рыдания.
С невысохшими слезами на глазах я вышла на сверкающий разноцветными рекламами, оживленный, нарядный Курфюрстендамм. И вдруг перед нами… Моисси.
– Я позвонил на Ванзее, фрау доктор Р. сказала, что вы поехали в Берлин смотреть «Дело Дрейфуса», я решил вас встретить и уговорить зайти посидеть за стаканом вина где-нибудь, ну хотя бы здесь рядом, в «Романишес кафе». Это наша берлинская «Ротонда»: ведь неправда ли, Васильович, русские эмигранты часто собирались на Монпарнасе в «Ротонде»? Ах, я вижу, что фрау Наташа плачет…
– Я кажусь вам очень сентиментальной?
– Ничуть. Мне очень нравится такая эмоциональность. Если бы ее не было, пожалуй, не стоило бы быть актером. Понравился вам Фриц Кортнер? Знаете, он играет в Штаатстеатер Освальда в «Привидениях» Ибсена и критики без конца занимаются параллелями, сравнивают в этой роли его и меня.
– А вы видели его в этой роли?
Моисси покачал головой.
– Нет, нет, я почему-то боюсь. Боюсь утратить свое… Вот вы посмотрите и расскажите мне. Он очень талантлив, и он значительно моложе меня.
Мы пересекли площадь возле Гедехнискирхе и направились в знаменитое «Романишес кафе» – место встреч берлинской художественной богемы. Это Монмартр и Монпарнас Берлина, вместившиеся в один, правда, огромный зал.
«Романишес кафе» – это совсем особый мир, ничуть не похожий на бесчисленные бюргерские баварские пивные, с откормленными, краснощекими посетителями и толстыми певцами в зеленых национальных костюмах, с голыми, волосатыми икрами; еще меньше это кафе похоже на фешенебельные бары «Куин», «Казанова», «Эспланада», где царят безукоризненные фраки, меха, драгоценности.
В «Романишес кафе» не ходят гурманы, ценители тонких вин, туда не ходят, чтобы танцевать, поражать элегантными туалетами – туда одни приходят, чтобы поговорить об искусстве, поспорить, пофилософствовать, другие – чтобы, заплатив за чашку кофе, иметь право читать газеты и журналы на всех языках и всех направлений, а чаще всего приходят просто по привычке, чтобы побыть на людях. Там за кружкой пива можно просидеть до глубокой ночи, продать, пусть задешево, картину (скупщики картин специально заходят туда; прикидываясь меценатами, они знакомятся и угощают коньяком полуголодных художников). Среди посетителей много иностранцев, осевших в Берлине, непризнанных живописцев, ищущих издателя поэтов. Они приходят из вечера в вечер. Почти на половине столиков в этом огромном мрачноватом зале белеют надписи: «Reserviert»[7]7
Занято (нем).
[Закрыть].