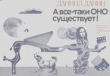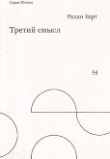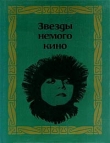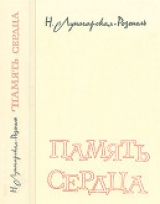
Текст книги "Память сердца"
Автор книги: Наталья Луначарская-Розенель
Жанры:
Искусство и Дизайн
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 31 страниц)
В этом грузном, массивном человеке все было предельно выразительно: лицо, руки и даже спина. Особенно спина! Нельзя забыть, как в роли бургомистра в «Розе Берндт» он в ожидании суда прохаживается по тесному судебному коридору. Он движется спиной к публике, в охотничьем костюме и толстых башмаках с блестящими крагами; он храбрится и вместе с тем робеет, зная свою вину; тростью он похлопывает по начищенным крагам; на его зеленой шляпе вздрагивает тетеревиное перо. Перед ним, первым человеком в деревне, сторонятся другие посетители, втихомолку злорадно улыбаясь. И в этой его прогулке – исчерпывающая характеристика грубого и эгоистичного человека, настоящего деревенского кулака; даже в его походке чувствуется смесь трусости и наглости. Не нужны слова, не нужны титры…
В «Ню» то же его потрясающее умение «играть спиной». Ню – Элизабет Бергнер, хрупкая, миниатюрная, возвращается с бала, где поэт, Конрад Вейдт, написал ей на обрывке серпантина слова любви. В спальне, не сняв бального платья, она украдкой перечитывает эти слова, а рядом в ванной комнате муж – Эмиль Яннингс, шумно умываясь и чистя зубы, делится с ней какими-то плоскими замечаниями о вечере. Но еще до его слов, только взглянув на его широкую спину с болтающимися, как двойной хвост, подтяжками, понимаешь, какой он примитивный и скучный, как Ню не по пути с ним.
В «Пути плоти» ярко запечатлелась сцена игры в кегли. Эмиль Яннингс – скромный житель тихого городка; кружка пива и партия в кегли – все его радости. Нужно видеть, как он бросает по кегельбану деревянные шары, как, пригнувшись, следит за ними, как сжимаются его пальцы и что-то алчное, плотское сквозит в облике этого пока добродетельного провинциала.
Последний фильм с Яннингсом, конечно, звуковой, который я видела сравнительно недавно, – «Трансвааль в огне». Он играл в нем президента Крюгера, играл необычайно сильно. Нельзя забыть, как в Лондоне он проходит перед войсками, и в этой сцене снова его, только Яннингсу свойственная, игра спиной. В его широкой, мужичьей спине столько упрямства и чувства собственного достоинства!
В начале 30-х годов в одном очень культурном обществе в Париже говорили об актерах кино:
– В Европе существует один-единственный, не имеющий себе равных актер. Это – Жанен! – сказал мне хозяин дома. – Вы согласны со мной?
– Кто это Жанен? Я не знаю такого актера.
Я была удивлена и даже несколько сконфужена.
– Неужели? Как можно не знать Жанена? Великого Эмиля Жанена!
– Ах, Эмилия Жанена? Я вполне согласна с вами, только я привыкла произносить его имя Яннингс.
Так высоко ценили во Франции Эмиля Яннингса, искажая на свой лад его фамилию.
Впервые мы встретились с Яннингсом в 1931 году в Вене за завтраком, устроенным венской интеллигенцией в честь Луначарского. Яннингса, как и многих других, разочаровала Америка. Его американский фильм «Последний приказ» производил сильное впечатление, хотя, как в большинстве фильмов из русской жизни, был полон «развесистой клюквы».
Яннингс играл в этой картине великого князя, главнокомандующего русской армией, близкого родственника царя, и был загримирован под Александра III, что очень подходило к его природным данным. Он играл ограниченного, надменного и жестокого человека, который, потеряв после революции все состояние и рассорившись со всеми Романовыми, работает, чтобы не умереть с голоду, статистом на кинофабрике в Голливуде. Он принижен и озлоблен. Он одевается и гримируется для пробы; наконец-то, после долгого ожидания – работа! Он получил роль русского генерала – главнокомандующего. Мальчишка-помреж развязно учит его, как надеть русские ордена. Он должен играть самого себя. Снимается сцена, где главнокомандующий бросает последние части белой армии на революционные войска. И тут во время съемок он встречает женщину, с которой сталкивался до революции. Она – жена революционера, эсера, который, по-видимому, готовил террористический акт против великого князя. Женщина добилась свидания с ним и умоляла о помиловании для мужа; он издевательски унижал ее; мужа все-таки казнили. Теперь в Америке она сделалась знаменитой киноактрисой. Опустившийся, жалкий, пожилой мужчина с помощью грима и костюма превратился в того надменного, властного тирана, каким он был десять лет тому назад. На съемке между ним и режиссером возникает спор относительно дислокации войск и каких-то еще военных деталей. В запальчивости он выдает свое инкогнито, но и режиссер, и все присутствующие считают этого полунищего эмигранта наглым самозванцем; над ним смеются.
– Старик спятил!
– Нет, это правда. Это – он, – говорит женщина, когда-то смертельно им оскорбленная.
И от ее ненавидящего взгляда человек в мундире главнокомандующего шатается, он рвет воротник мундира, он пробует крикнуть: «В атаку!»
Он падает. В дощатой, жалкой уборной во время агонии перед ним проносятся отрывочные картины его прошлого, он видит среди чужих, равнодушных людей, собравшихся поглазеть на него, только лицо этой женщины, ее горящие местью глаза. Тут было, что играть Яннингсу. Ну а детали? Кто из американских зрителей знал, что в Киеве никогда не было императорских театров, что главковерх Николай Николаевич совсем не был похож на Александра III и, следовательно, на Яннингса?
Меня поражало, что, несмотря на множество русских эмигрантов, наводнивших кинофабрики в Германии, Франции, Америке, допускались такие грубые ошибки, такие несуразные имена, как «княгиня Гришка» в «Сыне шейха» с Рудольфо Валентино. Это – небрежность, недобросовестность постановщика и, возможно, хулиганство разных белоэмигрантов-неудачников, пристроившихся к кино, как было в «Деле прокурора М.».
Во всяком случае, Яннингс вовремя вернулся на родину: ведь уже года через полтора кинофабрики ком переключились на звуковые фильмы; в Америке ему пришлось бы преодолевать языковые трудности, овладевать английским языком, что в его возрасте было не так легко. А в Германии в 1931 году Яннингс создал своего знаменитого учителя Унрата в «Голубом ангеле» (по роману Генриха Манна «Учитель Унрат»). Постановщик этого фильма – Джозеф Штернберг, партнерша Яннингса – Марлен Дитрих, громкая слава которой началась именно с этого фильма. После оглушительного успеха «Голубого ангела» Марлен Дитрих и Йозеф фон Штернберг были приглашены в Голливуд; Яннингс, создавший неподражаемый образ учителя Унрата, не был приглашен. Мне хотелось понять, в чем тут дело. Прямо спросить было бы бестактно, но на мои осторожные вопросы Яннингс отвечал уклончиво:
– Heimweh[21]21
Тоска по родине (нем.).
[Закрыть].
Если американцы не оценили этого огромного мастера, тем хуже для них.
Наряду с Яннингсом среди артистов в немом кино Германии останавливала на себе внимание Аста Нильсен. В ее внешности, темных гладко подстриженных волосах с челкой до бровей, как у средневекового пажа, в огромных карих с золотистым отливом глазах, в ее высокой стройной фигуре было неповторимое своеобразие. Аста Нильсен была так самобытна, что у нее почти не было подражательниц. Все другие прославленные, модные киноактрисы вызывали волну подражания: сколько Грет Гарбо, Мей Муррей, Глорий Свенсон можно было встретить в любом магазине, в любом кафе, но Асты Нильсен почти не появлялись, настолько Аста была вне шаблона.
И в жизни ее отличала смелость и порывистость. Она полюбила русского эмигранта Хмару, в то время актера без театра, человека без языка, без родины. Никогда не видя его на сцене, поверила в него и полюбила его актерский талант, так сказать, на слово. Для него она порвала с мужем, известным режиссером и директором «Асты-Нильсен-фильм».
Луначарский и я познакомились с Астой Нильсен в 1927 году в павильонах «Освальд-фильм», где она тогда снималась. Мы сфотографировались вчетвером: Анатолий Васильевич, Аста Нильсен, Оскар Освальд и я. Луначарский тогда впервые увидел актеров, загримированных для съемок при ртутном освещении.
– Какие страшные! Неужели и тебя будут раскрашивать под утопленницу?
И вот передо мной наше фото: Аста, красивая, молодая, сохранившая все свое обаяние, а я, несмотря на то, что была лет на двадцать моложе Асты Нильсен, выгляжу словно после тяжелой болезни. Вот какие фокусы проделывают освещение и грим.
Аста Нильсен была настоящей артисткой, мастером, она – прямая противоположность тех актрис, которые выделяются только своими внешними данными. Она играла и стареющих женщин и дурнушек, как, например, в фильме «Любовница Запольского». Она изображает там бедную, уволенную из театра кордебалетную танцовщицу. Плохо одетая, раздраженная, она хочет бежать объясниться с директором, она хочет настаивать, льстить, умолять, она готова ударить… И вдруг она замечает, что на ее чулке спустилась петля; она пробует зашить ее, поставив ногу на табуретку, ее глаза наполняются слезами… Какой ужас – она опаздывает. В таком состоянии она выходит из дому, и ее сбивает машина знаменитого дельца, миллионера Запольского. Он усаживает ее в машину и увозит к себе, в загородную виллу. Он – старый больной человек; он дает девушке скромный чек и отправляет ее в город на своей машине. Фоторепортеры засняли их вместе; эти фото появились в журналах. И через день бедная фигурантка знаменита и богата. Директор умоляет ее вернуться в театр в качестве солистки. Портнихи присылают ей свои лучшие модели, ювелиры – колье и браслеты. Для всех она «любовница Запольского». Только она одна не знает, чему обязана такой переменой, она считает, что ее талант наконец оценен по достоинству. Она не видела фотографий в журналах.
До Запольского доходят эти слухи, он считает ее шантажисткой и посылает к ней секретаря. Узнав причину своего внезапного везения, униженная упреками в шантаже, девушка принимает яд. Затем старик-миллионер, со слов секретаря понявший, что имеет дело с порядочной девушкой, едет к ней в ее убогую комнатку и… как полагается, happy end[22]22
Счастливый конец (англ.).
[Закрыть] – Запольский удочеряет ее. При всей банальности сюжета талант Асты Нильсен спасает все: сама она никогда не бывала банальной.
Обычно, приезжая в Берлин, Анатолий Васильевич и я каждый раз встречались с Астой Нильсен. Особенно часто мы виделись, когда я снималась в Штаакене вместе с Хмарой. Уже и в тот период жизнь не баловала эту высокоодаренную пару: Аста была немолода, требовалась изобретательность сценаристов, чтобы создать фильмы, где в центре действия была бы женщина за сорок лет. Без конца варьировалась тема о последней, «осенней» любви стареющей женщины. (У нас в Москве пользовался большим успехом фильм с участием Асты Нильсен «Опасный возраст».)
Но и эта тема мало-помалу исчерпала себя. А для режиссеров и сценаристов, привыкших к штампам, стало все сложнее предоставлять работу в качестве star Асте Нильсен, несмотря на ее громкое имя. Во вторых ролях она не хотела сниматься и с точки зрения буржуазного кино была совершенно права: согласиться на второстепенные роли было бы для нее равносильно самоубийству.
Положение Хмары было еще более сложным. Кое-кто из продюсеров готов был приклеить к нему обидный ярлык «мужа знаменитости»; другие верили в него, верили, что он – настоящий художник, но не находили для него подходящих образов, вернее, того узкого амплуа, без которого они не мыслили себе актерского успеха.
В обществе, за бокалом вина, с гитарой в руках, Хмара умел быть красноречивым и убедительным, он зажигался сам и увлекал других идеями создания новых, нешаблонных фильмов: готов был применить в кино опыт, почерпнутый им в Московском Художественном театре. Но ему фатально не везло… Однажды он уговорил каких-то кинодеятелей снять с ним «Жизнь Иисуса Христа». Было затрачено много средств: массовые сцены, исторические костюмы чуть не разорили предпринимателей, и в результате фильм был запрещен… за кощунство. С ханжеским негодованием говорили, что в сценах Голгофы Хмара играл Христа, будучи совершенно пьяным. Фильм попал, как говорится, на полку, а дельцы, поплатившиеся своими деньгами, слышать не хотели даже имени Хмары.
Я бывала в доме у Асты Нильсен. В ее обстановке было то же своеобразие, что и во всей ее личности. На меня произвели впечатление деревянная скульптура и мебель стиля Ренессанс; на коврах стояли огромные вазы с чудесными белыми каннами. Слушая планы Григория Михайловича относительно работы Асты Нильсен и его в советском кино, я пыталась представить себе Асту в обстановке московской квартиры того времени. Это было нелегко, но возможно… Мы бывали вместе в кино, театрах. Как-то мы слушали выступление Вертинского, Аста Нильсен, аплодируя ему, крикнула:
– Душка!
Это было одно из десяти русских слов, которыми она владела. По-немецки Аста Нильсен говорила бегло, но с очень сильным датским акцентом. Было забавно слышать, как Хмара говорит по-немецки с датским акцентом, а Аста частично переняла у него русское произношение. Главное – они хорошо понимали друг друга.
Конрад Вейдт во время моей работы на берлинских кинофабриках был в Америке, и я встречалась с ним только мельком двумя годами раньше. Нельзя забыть «Кабинет доктора Калигари», «Скрипача из Флоренции», «Ню» Осипа Дымова; в двух последних фильмах его партнершей была Элизабет Бергнер, похожая как две капли воды на В. Ф. Комиссаржевскую. Особенно хорош был Конрад Вейдт в роли Цезаря Борджиа в «Лукреции Борджиа» и адмирала Нельсона в фильме «Леди Гамильтон». Даже исполнение Лоуренсом Оливье роли адмирала Нельсона не затмило в моей памяти Конрада Вейдта в этой роли. Москва видела его вскоре после окончания войны в английских фильмах, поставленных режиссером Александром Корда, венгром по происхождению. Видела я Конрада Вейдта и на сцене в пьесе А. Мюссе «Лорензаччо», и он произвел на меня сильнейшее впечатление. Правда, в Берлине не все разделяли мое восхищение Конрадом Вейдтом на сцене, но ведь «о вкусах не спорят». Что касается Конрада Вейдта в кино, он пользовался всеобщим признанием и большой популярностью; однако находились скептики, которые критиковали его из снобизма.
Мне вспоминается очень своеобразный, с широким монгольским лицом и раскосыми глазами Пауль Вегенер. Советские зрители старшего поколения помнят его по фильмам «Доктор Мабузо» и «Нибелунги». В Берлине Пауль Вегенер пригласил Луначарского и меня в театр Эрвина Пискатора на генеральную репетицию «Заговора императрицы», где он очень своеобразно трактовал роль Распутина. Позднее мы встречались с ним в Москве и Одессе во время съемок «Восстания рыбаков» по роману Анны Зегерс в постановке Пискатора. Съемка «Восстания рыбаков» очень затянулась. Группа актеров во главе с Паулем Вегенером и А. Д. Диким жила в Одессе, бездельничая и скучая. Встретившись в Лондонской гостинице с Анатолием Васильевичем, Пауль Вегенер жаловался:
– Aber, Anatol Wasiliewitsch, es ist doch вредительство.
Анатолий Васильевич шутил, что Вегенер не без пользы провел это время: научился выговаривать слово «вредительство» и имя с отчеством.
Пришлось мне встречаться и беседовать об искусстве с крупнейшим артистом немецкого театра Фрицем Кортнером. В 1928–1929 годах Кортнер играл Эдипа в софокловском «Эдипе» в Государственном театре драмы и одновременно снимался в Штаакене в «Ящике Пандоры» Ведекинда. Он приглашал меня не только на премьеры своих спектаклей, но и на репетиции. Таким образом, я видела его в «Замке Веттерштейн» Ведекинда, «Эдипе», «Привидениях» Ибсена и в одной пьесе из русской жизни в театре Барновского («Красный генерал»), о деталях постановки которой он хотел узнать мое мнение. В 1932 году Луначарский видел его в драме «Бог, император и мужик» и в «Деле Дрейфуса» и считал его крупнейшим актером Германии. Анатолий Васильевич опубликовал большую статью в «Известиях» о «Боге, императоре и мужике».
В смысле «смеси одежд и лиц» киномир Берлина мог сравниться только с Голливудом или древним Вавилоном. Я познакомилась там с венгерками Агнес Эстергази, Женни Юго, Кэтэ Надь, с чешкой Анни Ондра, с элегантной и холодной англичанкой Вивиан Гибсон, с пикантной смуглой болгаркой Маней Цачевой, уж я не говорю о русских, поляках… Это был пестрый калейдоскоп. «Звезды» всходили и закатывались. Многие из них меняли небосклон, уезжали на западное полушарие нашей планеты. Для многих Берлин был преддверием Голливуда. Так было с Полой Негри, Гретой Гарбо, с Вильмой Банки, с Конрадом Вейдтом, Марлен Дитрих и множеством других.
Из режиссеров мы чаще всего встречались с Пабстом, Фрицем Лангом, Джоэ Май, Грюне, Мейнертом, Оскаром Освальдом, Фрицем Фехером, Гансом Абелем, Чареллем. Анатолий Васильевич и я бывали по приглашению дирекции и режиссеров в павильонах «УФА» на съемках «Метрополиса» с Бригиттой Хельм, в постановке смелого, талантливого режиссера Фрица Ланга; позднее нас покорил его фильм «Таинственное М.», глубоко психологический, тонкий фильм, вскрывавший ужасы «джунглей» большого современного города. Пабст, прославившийся «Безрадостной улицей», ставил затем «Любовь Жанны Ней» по роману И. Эренбурга; мы бывали и на этих съемках. Пабст был веселый, жизнерадостный человек, остро чувствующий современность. Чарелл – мастер нарядных, с большими массовыми сценами, комедийных, так называемых Millionen, film'ов, бывал у нас в отеле «Кайзерхоф», он мечтал поставить тогда «Макбета» (что резко выпадало из обычного стиля его постановок); он хотел, подражая англичанам и парижскому театру Питоевых, ставить «Макбета» в современных костюмах и обстановке. Роль леди Макбет он предлагал мне. Позднее Чарелл прославился изящной кинокомедией «Конгресс танцует» с Лилиан Гарвей и Вилли Фричем в главных ролях. После успеха этого фильма он переехал в Америку.
С одним из лучших и знаменитейших немецких режиссеров – Эрнстом Любичем – я познакомилась на банкете в Фильмклубе, а потом несколько раз встречалась в частных домах. Он уже лет пять работал в Америке. Уехал он вскоре после инфляции.
– Я в восторге, как быстро у вас в Германии восстановилась жизнь. Дети! – восклицал он. – Насколько вы лучше умеете жить, чем американцы. Там не живут, там делают деньги.
Тем не менее он вернулся в Америку.
Очень нравился нам Георг Александер, режиссер и актер. Его суровая мужественность, угловатые манеры производили сильное впечатление. Особенно запомнила я фильм «Май-Вонг», где он играл роль артиста бродячего цирка; он же ставил этот фильм. Буду откровенна: Луначарский не разделял моего восторга, он нашел этот фильм чересчур жестоким, лишенным чувства меры. По его мнению, виноват был сценарий; исполнение Георга Александера и его партнерши – гибкой, тонкой, как тростинка, китаянки – было на большой высоте.
Нет, не перечислить даже самого яркого!
Хочу только добавить, что и во Франции мы бывали в павильонах бр. Патэ и Ciné-France. Видели у Патэ съемку «Отверженных» и «Наш кюре у богатых». Встречались мы с молодыми режиссерами, мечтавшими об обновлении киноискусства, о постоянном культурном обмене с Советским Союзом.
Познакомились мы также с Рене Клером, который следил с большим вниманием за достижениями советского кино. В тот период Рене Клер выпустил оригинальный фильм «Париж уснул» и сразу стал заметной фигурой в кино. Еще через несколько лет он создал замечательный фильм «Под крышами Парижа». С Рене Клером мы встретились на завтраке у Патэ, а потом поехали к нам в отель «Лютеция». Тогда во Францию почти не попадали наши фильмы, и осведомленность Рене Клера о достижениях советского кино приятно удивила Анатолия Васильевича. Рене Клер видел «Крылья холопа»; кроме Леонидова, об игре которого он говорил с восхищением, ему понравился Клюквин, в роли холопа. Он говорил, что охотно поставил бы «Идиота» с Мышкиным – Клюквиным, и подробно рассказал о плане этой постановки. Меня он намечал на роль Настасьи Филипповны. Не буду повторять его лестных для меня слов, это было бы нескромно, и вообще, беседуя с парижанином, нельзя брать всерьез все любезности, сказанные собеседнику, тем паче собеседнице. Он смотрел «Мать», «Броненосец „Потемкин“», «Медвежью свадьбу». Эти фильмы были показаны не на открытых экранах, а на просмотрах в полпредстве.
С Абелем Гансом мы познакомились в Париже, а затем встречались в Женеве. Тогда он снимал грандиозный исторический фильм «Наполеон». Формальная особенность этого фильма заключалась в том, что действие идет на трех полотнах, и таким образом составляется триптих с центральной частью, как обычный экран, и боковыми в половину средней части. В общем это было приближение к нынешнему широкоэкранному кино. Фильм рассказывал о жизни Наполеона с детских лет и до Термидора. После долгих поисков Абель Ганс нашел актера (Дьедонне), очень похожего на портрет Наполеона кисти Давида, Наполеона молодого, худощавого, длинноволосого. Наполеон-мальчик в первой части был просто очарователен, и я запомнила кадры, на которых маленькие кадетики берут приступом вал, бросая друг в друга снежками, а «боем» командует маленький корсиканец. Фильм был очень верен исторически, была соблюдена точность во всех деталях; даже собачка Жозефины де Богарнэ, Фортюнэ, в ошейнике которой передавались письма в тюрьму, даже лохматый Фортюнэ был на месте. Сам Абель Ганс играл Сен-Жюста очень одухотворенно и с увлечением. Абель Ганс переписывался с Анатолием Васильевичем.
В 1961 году он приезжал в Москву на Второй московский международный кинофестиваль.
Среди зарубежных деятелей кино, встречавшихся с Луначарским, подавляющее большинство были люди прогрессивные, разделявшие передовые идеи своего времени. Анатолий Васильевич наряду с их профессиональным мастерством и талантом ценил идейность и социальную направленность их работы, даже отдавая предпочтение последнему качеству. Кинорежиссеры и актеры, с которыми мы общались, сочетали в себе увлечение новыми формами в киноискусстве с новой тематикой. Такие режиссеры, как Пабст, Фриц Ланг, Грюне и другие в Германии, Рене Клер, Ренуар, Абель Ганс во Франции, не ставили просто развлекательных, салонных, адюльтерных картин; они искали для своих фильмов значительные темы и создавали новые формы их воплощения.
– Вряд ли в каком-либо другом произведении искусства, включая литературу, театр, живопись, так отражен тяжелейший кризис, распад, переживавшийся Германией во время инфляции, как в «Безрадостной улице» Пабста, – не раз говорил Анатолий Васильевич.
Если тематика фильмов, созданных передовыми режиссерами, не была целиком посвящена анализу социальных взаимоотношений, она, во всяком случае, была демократична и гуманна: понимание переживаний «человека с улицы», маленького человека, часто являлось содержанием таких фильмов. «Последний человек», «Мыльная пена» – даже эти названия дают представление о направленности передовых деятелей кино. Они признавали большое влияние советской кинематографии на их творчество. Может быть, именно поэтому при встречах с Анатолием Васильевичем они так внимательно слушали его высказывания, так жадно расспрашивали Луначарского о планах и достижениях наших кинематографистов.
Я помню, как мы вместе с Пабстом смотрели «Ничейную землю», поставленную им совместно с В. Тривасом. Анатолий Васильевич сказал:
– Мне моментами кажется, что я смотрю наш, советский фильм.
– Именно этого мы и хотели, – обрадованно ответил Пабст.
Разумеется, значительно глубже, активнее, многообразнее были связи Анатолия Васильевича Луначарского с нашей советской кинематографией и ее работниками.
Здесь я не буду говорить об участии Луначарского как наркома просвещения в организации советской кинопромышленности, в работе кинофабрик, производстве художественных и документальных фильмов.
Не буду я также касаться деятельности Анатолия Васильевича как кинокритика; им написано много статей о кино, теоретических и критических, по конкретным поводам.
Я коснусь здесь только фактов, свидетельницей которых я была: встреч Луначарского с советскими кинематографистами и его работы как кинодраматурга. Я имела возможность вместе с Анатолием Васильевичем посещать кинофабрики, бывать на закрытых просмотрах и на сеансах в кинотеатрах, встречаться с выдающимися режиссерами, актерами, организаторами кинопроизводства, следить за работой Луначарского над своими киносценариями.
В 1919 году в Киеве я увидела афиши фильма «Уплотнение», поставленного в Петрограде в 1918 году по сценарию А. Луначарского.
– Неужели это написал нарком? – удивилась я и тут же купила билеты в кинотеатр. Я знала о государственной и партийной деятельности Луначарского, читала его статьи о литературе и театре, но, помню, как меня удивило, что при такой интенсивной государственной и политической деятельности у него нашлось время написать сценарий для фильма.
С весны 1922 года мы начали нашу общую жизнь с Анатолием Васильевичем и больше не расставались; а если наша работа вынуждала нас к кратковременным разлукам, мы писали друг другу подробные письма, в которых делились впечатлениями обо всем виденном и пережитом.
Для Анатолия Васильевича, так же как и для меня, самым любимым зрелищем было кино; спорить с ним мог только театр. Был ли перевес на стороне театра или кино, очень трудно ответить: очевидно, в разные периоды жизни бывало по-разному. В последний год жизни Анатолия Васильевича самым дорогим из всех видов искусства для него сделалась музыка; это объясняется отчасти тем, что из-за болезни глаз ему пришлось ограничить посещения кино.
Луначарский был хорошо знаком со многими работниками кино. Он уважал и ценил старых мастеров – Я. А. Протазанова, В. Р. Гардина, И. Н. Перестиани, П. И. Чардынина, А. В. Ивановского, А. И. Бек-Назарова, Ю. В. Тарича, Ю. А. Желябужского; он и познакомил меня с этими корифеями советского кино. От души радовался Анатолий Васильевич выдвижению новых талантливых режиссеров: Пудовкина, Кулешова, Барнета, Эйзенштейна, Эггерта, Александрова и многих других. Он придавал большое значение работе операторов и никогда не забывал упоминать о заслугах Левицкого, Форестье, Желябужского, Гибера, Тиссэ, Ермолова, Головни, Москвина.
Анатолий Васильевич бесконечно радовался успехам нашего кино, сразу вышедшего на мировые экраны. Огромное значение придавал Луначарский документальным, научно-популярным фильмам и кинохронике. Он всемерно поддерживал режиссеров, специализировавшихся на документальном кино: он отмечал вкус и талантливость В. Турина, поставившего «Турксиб», Э. Шуб, создавшей картину «Падение династии Романовых», Дзиги Вертова, создавшего «Шестую часть мира». Научно-популярные фильмы он считал делом первостепенной важности. Я отлично помню, как одобрительно отзывался он о первом самостоятельном фильме Всеволода Илларионовича Пудовкина – «Механика головного мозга», популяризировавшем теорию Павлова.
Вообще Анатолий Васильевич придавал большое значение тому, чтобы новая смена режиссеров, вступая на творческий путь, уже имела за собой опыт работы в кино, хотя бы в смежных, если так можно выразиться, цехах.
В 20-е годы в кинорежиссуру пришло молодое поколение: С. Эйзенштейн, В. Пудовкин, Б. Барнет, Ю. Райзман, Ф. Эрмлер, Е. Иванов-Барков, И. Пырьев, Г. Рошаль, В. Корш-Саблин. Анатолий Васильевич предсказывал блестящую будущность молодым кинематографистам, начавшим свою работу с «азов»: помрежами, ассистентами, монтажерами. Он утверждал, что им легче, чем театральным режиссерам, овладеть спецификой киноискусства.
Луначарский любил искусство кино и был к нему требователен. Пустенькие салонные комедии не доставляли ему удовольствия, даже иной раз раздражали его, но настоящее произведение киноискусства Анатолий Васильевич мог смотреть по нескольку раз, находя все новые и новые штрихи, обсуждать, спорить.
Из старых кинорежиссеров он особенно ценил Протазанова. Как-то на просмотре в «Межрабпом-Руси» протазановского фильма «Его призыв» Луначарский сказал:
– Я не сомневался в успехе. Ведь Протазанов – мэтр.
С тех пор в «Межрабпоме», говоря о Протазанове, все прибавляли «мэтр», некоторые с оттенком иронии, большей же частью сознавая, что он, как никто другой, заслуживает этот почетный эпитет.
Мне иногда кажется, что Якова Александровича Протазанова до сих пор не оценили по-настоящему. Все, что он делал, была работа мастера – уверенная, ясная, четкая и вместе с тем талантливая. Я не знаю у Протазанова срывов, неудач. «Аэлита», «Его призыв», «Закройщик из Торжка», «Дон Диего и Пелагея», «Праздник св. Йоргена» и так далее… Он был очень плодовит: не перечесть всего, что он сделал, и все – на очень высоком профессиональном уровне. Человек он был выдержанный, спокойный, доброжелательный, огромной работоспособности. Я ясно помню его высокую фигуру и загорелое улыбающееся лицо. К блестящим качествам Протазанова относилось его умение работать с актерами, его тонкое проникновение в характеры действующих лиц. Особенно удавалась ему работа над экранизацией выдающихся произведений литературы: «Отец Сергий» по Л. Н. Толстому, «Чины и люди» по А. П. Чехову, «Бесприданница» по А. Н. Островскому.
Луначарский удивительно метко обронил словцо «мэтр», говоря о Протазанове, поэтому оно словно приросло к Якову Александровичу.
В начале 20-х годов Анатолий Васильевич часто встречался с Дмитрием Николаевичем Бассалыго – бывшим матросом, большевиком с яркой биографией, живым, темпераментным, моментами юношески восторженным. Он работал тогда в Пролеткино, просуществовавшем недолго, и затем перешел в Совкино. Из его фильмов я запомнила «Рейс мистера Ллойда» и «Глаза Андозии». Луначарский ценил его энтузиазм и преданность делу. Д. Н. Бассалыго уговорил Анатолия Васильевича написать сценарий по драме «Королевский брадобрей». Луначарский отказывался, ссылался на занятость, на неумение писать сценарии. Бассалыго обещал, что сам переведет сценарий на язык кино, и просил Анатолия Васильевича сделать только либретто. Анатолий Васильевич увлекся и написал прекрасную поэтичную новеллу, от которой Бассалыго пришел в восторг; художественный совет Госкино тоже одобрил этот план, но Бассалыго перешел в Востоккино, и план этот не был реализован.
Один из старейших кинематографистов – Е. А. Иванов-Барков, начавший работать как художник-декоратор на фабрике Ханжонковых. Среди удачно поставленных им фильмов особенно выделяется «Яд» по одноименной пьесе Луначарского. При постановке «Яда» Иванов-Барков сильно отошел от первоначального замысла сценария и от пьесы Луначарского. Мне думается, что, если бы он больше посчитался с автором, фильм мог бы значительно выиграть и в идейном и в художественном плане. Тем не менее в картине «Яд» были удачные, запоминающиеся моменты и исполнители.
Константина Владимировича Эггерта Анатолий Васильевич знал по его работе в Камерном и Малом театрах и в театре «Романеск». До революции Эггерт время от времени снимался на кинофабрике Тимана и Рейнгардта, а с 1924 года его пригласили работать в «Межрабпом» в качестве актера и режиссера. Это был несомненно очень талантливый человек, не только как актер, но и как постановщик. Он умел работать с массовками; «народ, толпа и духовенство» у него никогда не были инертными, вялыми, он заставлял их жить на экране напряженно и ярко. Умел он как режиссер увлечь своими замыслами актеров. Такой огромный актер, как Л. М. Леонидов, очень охотно работал с Эггертом как партнером и режиссером. Беда Эггерта была в его пристрастии к переделкам, «досъемкам» и «пересъемкам», которые обычно вместо поправок только портили фильм, лишая его единства. Анатолий Васильевич часто говорил, что, если бы «Межрабпом» научился держать Эггерта в ежовых рукавицах, то есть не давал ему возможности мудрить над уже отснятым фильмом, он бы внес большой вклад в киноискусство. Самые удачные его фильмы – «Медвежья свадьба» и «Гобсек».