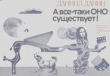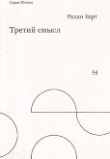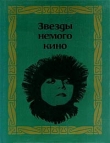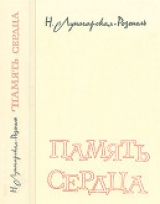
Текст книги "Память сердца"
Автор книги: Наталья Луначарская-Розенель
Жанры:
Искусство и Дизайн
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 31 страниц)
В Малом театре я играла в драме А. В. Луначарского «Медвежья свадьба» в очередь с Е. Н. Гоголевой роль Юльки. Спектакль этот поставил Константин Владимирович Эггерт в сезон 1923/24 года. Осенью 1924 года Эггерт не вернулся в Малый театр: возглавляемая им Студия русского театра получила большое помещение; в этой студии он готовил два спектакля – «Испанцы» Лермонтова и «Поджигатели» Луначарского. Для участия в «Поджигателях» Эггерт предложил мне работать в студии по совместительству с основной службой в Малом театре.
В то же время акционерное общество «Межрабпом-Русь» пригласило Эггерта сниматься в приключенческом фильме «4 и 5» в постановке В. Гардина. Съемки длились недолго; осенью того же года фильм появился на экранах и пользовался большим успехом. Эггерт играл иностранного шпиона; положительного героя, советского летчика, играл Борис Ливанов. Злодейку, связанную со шпионской организацией, играла Е. М. Ильющенко; честную простую девушку, спасшую летчика, Нина Ли.
Все это, наверно, показалось бы теперь наивным, но фильм нравился, а Ливанов и Эггерт с тех пор прочно связали свои судьбы с кино.
Снимался Эггерт и в фильме «Аэлита», у Протазанова.
Затем «Межрабпом-Русь» поручила Эггерту самостоятельную работу над фильмом о шахтерах – «Черное золото». Как я слышала от директоров «Межрабпом-Руси», они считали, что это будет практической учебой для Эггерта, на которого они возлагали большие надежды.
«Медвежья свадьба» с большим успехом шла в Малом театре, в Харькове в постановке Синельникова с Н. Н. Рыбниковым в главной роли и во всех крупных городах Советского Союза. Экранизацию этой драмы запланировала также дирекция «Межрабпом-Руси».
В то время в «Межрабпом-Руси» работал Трофимов, основной акционер дореволюционной кинофирмы «Русь». С ним работал М. Н. Алейников, кинорежиссер, изучивший за границей всю техническую премудрость кинопроизводства, человек большой культуры, тактичный, доброжелательный и очень преданный делу. Были еще акционеры, среди них братья Оцеп; младший брат Ф. А. Оцеп работал в качестве режиссера. Надо сказать, что меня тогда мало интересовала структура акционерного общества, права и обязанности акционеров. Но нельзя было не знать Трофимова: он был совершенно неутомимый старик, проводил все время в ателье, входил во все мелочи, чуть ли не помогал рабочим-декораторам ставить выгородки.
Он пригласил А. В. Луначарского и меня посмотреть «4 и 5» в просмотровом зале «Межрабпом-Руси» до выпуска картины на экран и тут же, не дав опомниться Анатолию Васильевичу, добился его письменного разрешения поставить в кино «Медвежью свадьбу». В качестве режиссера был приглашен В. Р. Гардин, на главную роль графа Шемета – К. В. Эггерт, сценарий должны были написать А. В. Луначарский и Георг Эдуардович Гребнер.
С этого времени началась творческая и личная дружба Анатолия Васильевича с Гребнером, бывшим моряком, человеком очень одаренным и незаурядным.
Трофимов был таким энергичным «хозяином», что лениться не приходилось ни сценаристам, ни режиссерам, ни актерам, но все же сценарий запаздывал: у одного из сценаристов – А. В. Луначарского – были дела поважнее сценарных. Между тем Трофимов и Алейников волновались, боясь пропустить зиму: ведь медвежья охота, с которой начинается фильм, должна была сниматься в зимнем заснеженном лесу. Словом, пролог фильма был вытащен из пишущей машинки «еще тепленьким»… Гардин тут же приступил к работе.
В прологе К. В. Эггерт играл графа Шемета-отца, А. П. Карцева – графиню, Ю. А. Завадский – графа Ольгерда.
Весна, как назло, наступила слишком рано… Все же Гардину удалось заснять и кавалькаду вельможных охотников на породистых лошадях, и свору борзых с егерями и доезжачими, и непроходимые литовские пущи (где-то в районе Хотькова, Абрамцева)… и тут же сразу началась оттепель, зажурчали ручьи. Но благодаря профессиональному умению Гардина и неутомимого «подгонялы» Трофимова ничего не пришлось ни доснимать, ни переснимать (это задержало бы выпуск фильма на год). Интерьерные сцены пролога спокойно закончили в павильоне и тут же смонтировали весь пролог.
Начались пробы актеров для основных частей фильма: вслед за этим пошли споры и несогласия. Неожиданно отказался режиссировать Гардин – ему предложили работу в Ленинграде, которая его больше устраивала. Дирекция передала режиссуру Эггерту. Разумеется, ему, еще неопытному кинематографисту, было нелегко режиссировать и играть центральную роль, но его уговорили и… смелость города берет!
В конце апреля 1925 года меня вызвали на пробу в студию «Межрабпом-Русь».
На Масловку, широкую немощеную полудеревенскую улицу, застроенную деревянными домами-дачками, выходила территория студии, большая, если б это было частное, загородное владение, но совершенно недостаточная для лучшей киностудии Москвы. Вместительный и нескладный деревянный дом на каменном первом этаже, со стеклянной крышей и несколькими пристройками; за домом сад, вернее, отгороженная часть Петровского парка, с елями и березками – там по мере сил концентрировались все натурные съемки. Дирекция старалась обходиться без дорогостоящих и отнимающих много времени экспедиций. Среди деревьев появлялись то классические колонны, то избушка под соломенной крышей, то терраса дворянской усадьбы. «Хозяева» были экономны, а художники изобретательны.
Все же «Межрабпом-Русь» была в лучшем положении, чем Совкино на Житной, которое не имело ни одного квадратного метра своей территории для пленэра.
Сняли меня в современном платье и в платье 30-х годов прошлого века. Пробные съемки делались на натуре (благо, дни стояли теплые), чтобы зря не занимать павильон и не расходовать освещение.
Как я уже писала, в Малом театре я играла вместе с Е. Н. Гоголевой роль панны Юльки – ветреной, легкомысленной с виду, но волевой, честолюбивой, умной, жадно стремящейся к богатству, к великосветской, придворной жизни. Чтобы достичь богатства и знатности, она закрывает глаза на предостережения Марии и пастора, на заметные ей самой странности ревнивого и угрюмого литовского магната графа Шемета. Она уже много выезжала, вскружила немало голов…. Но среди ее поклонников только один граф Шемет мог бы вырвать ее из скучной и тусклой среды провинциальной шляхты, ввести ее в высшее общество Петербурга, Парижа, где она мечтает царить и сверкать на балах. Младшая сестра Юльки Мария совсем непохожа на нее: она читала Сен-Симона и других философов-утопистов, она рано задумывалась о пороках и несправедливостях окружающего ее общества. Доктор Бредис, интеллигент-разночинец «из мужиков», делается ее учителем и наставником. С ужасом видит Мария, в какую пропасть стремится ее тщеславная и порывистая сестра: брак с Шеметом – бездна, которая поглотит и Юльку и ее мужа. А Мария втайне любит графа. Когда после трагической свадебной ночи обезумевший Шемет скрывается в лесу и все окрестное население охотится за ним, как за диким зверем, – эта замкнутая, кроткая девушка убивает его выстрелом из револьвера, чтобы не отдать на растерзание озверевшей толпе.
В сценарии характеристика этих двух женских образов сильно изменилась: Юлька оказалась милым, шаловливым ребенком, наивным и бездумным, типичной «инженю-комик». Образ Марии тоже несколько упростился. Однако в тот период он увлекал меня больше, чем Юлька.
Я попросила дирекцию, пригласившую меня на роль Юльки, найти другую исполнительницу для этой роли, а мне поручить роль Марии. После долгих уговоров на это согласились.
Теперь, приезжая на фабрику, я могла наблюдать, как перед все теми же тремя березками дефилировали претендентки на Юльку. Их было очень много. Все хорошенькие девушки Москвы пробовались на Юльку. Присылали фотографии и приезжали сами девушки из других городов. Операторы выезжали в Киев и Харьков. Наконец, когда каждый из дирекции и художественного совета перессорился со своими коллегами, отстаивая свою кандидатку, возникла кандидатура Веры Малиновской. Она недавно закончила съемку в «Коллежском регистраторе», и на столе перед директорами и членами художественного совета лежал ряд ее фотографий. Она была очень хорошенькой и фотогеничной… Соответственно ее индивидуальности роль Юльки еще больше отошла от своего прообраза в пьесе. На возражения по этому поводу кинематографисты безапелляционно отвечали, что кино имеет свою специфику… Это в какой-то мере было верно, потому что в спектакле роль Юльки изобилует остроумными репликами, тонкими замечаниями, которые нельзя было передать в немом кино, и взамен острого текста пришлось вводить детские выходки и наивные шалости Юльки.
Ассистентом Эггерта назначен был Всеволод Илларионович Пудовкин, и Анатолий Васильевич был этим очень доволен. Но Пудовкин недолго проработал с нашей группой; вскоре ему поручили поставить научную картину «Механика головного мозга».
Московское лето коротко… Нужно было торопиться с натурными съемками, они составляли большую часть фильма: мрачный замок Мединтилтас, владение графа Шемета; прелестная светлая ампирная усадьба пани Довгелло, тетушки Марии и Юльки; тенистые аллеи старинных парков и ива, склоненная над заросшим прудом, и страшные леса и овраги, где скрывается Шемет, – и все это нужно было заснять в Подмосковье, не дальше 40–60 километров (тогда еще – верст) от города.
Я очень охотно присоединялась к Эггерту, Пудовкину и художнику Егорову, когда они выезжали смотреть места для съемок. И надо сказать, что места они выбирали удачно.
Начались наши натурные съемки – «дом и парк пани Довгелло» – в усадьбе Соколово, тогда санаторий им. А. И. Герцена. Усадьба удивительно подходила к тому уютному легкому стилю русского ампира, который нужен был постановщику для поместья Довгелло.
Приняли нас очень любезно. И врачи и отдыхающие в санатории отнеслись к приезду «киношников», как к веселому аттракциону, бесплатному развлечению. Малиновской, мне, Эггерту, Ю. Я. Райзману и А. А. Гейроту (артисту МХАТ, игравшему пастора) предоставили хорошие комнаты в благоустроенном флигеле. Удобно разместили и других артистов и «массовку»; нашлось место даже для старомодных карет, ландо и для упряжных верховых лошадей. Стояли чудесные дни начала лета, длинные и солнечные. Ни разу наше пребывание в Соколове не было омрачено ни пасмурной погодой, ни недоразумением в нашей среде. Работали бодро, все были любезны и предупредительны друг к другу. Словом – сплошная идиллия.
Был у нас администратор, добродушный пожилой человек с невозможным польско-еврейским акцентом. В семь часов утра он стучал в двери комнаты, где спали Малиновская и я, и говорил всегда одну и ту же фразу:
– Кофи есть, сир есть, масло есть, апаратер едет!
Мы с Верой Степановной давились от смеха, зарывались лицом в подушки, а он, не слыша нашего ответа, повторял свое:
– Кофи есть, сир есть…
«Кофи, сир» и прочее подавались на террасе главного корпуса, выходящей в парк. После завтрака мы шли гримироваться и одеваться, и съемки начинались среди цветников и белых колонн ампирного дома. Работали мы очень много, заканчивали съемку, когда темнело, наспех обедали на той же террасе. Но, окончив дневной труд, не расходились отдыхать, а отправлялись гулять в лес или на реку, купаться при лунном свете.
Наш «босс» Трофимов сердился, ворчал, что мы не отдыхаем, не высыпаемся, что это может отразиться на нашей работоспособности, а главное, на нашей внешности.
– И глазки могут опухнуть и личики осунуться, – пугал он. Но мы не пугались. Трофимов надзирал за нами, как дядька Савельич за Гриневым; он даже выбрал себе проходную комнату в качестве наблюдательного пункта, и мы, возвращаясь ночью с прогулок, разговаривали шепотом и заранее снимали туфли, чтобы не разбудить его, но «хозяин», делая вид, что спит, точно засекал время нашего возвращения и утром журил нас. Мне кажется, что ни настроение, ни «личики» у нас не пострадали от недосыпания: молодость выручала нас.
Под конец съемок в Соколове наши отношения с санаторием несколько испортились: начались «массовки»; по территории санатория катались разнообразные тяжелые колымаги, бегали форейторы и выездные лакеи в ливреях, а наши «гусары» то и дело падали со своих лошадей на цветущие кусты жасмина, на флоксы и пионы. Это, конечно, нарушало санаторный порядок; больные роптали. А тут еще актриса, игравшая тетушку Довгелло, седая, с красивым молодым лицом, но невероятно толстая раздражала своим видом худых и анемичных отдыхающих.
– Вот какие откормленные эти артисты, а тут за месяц насилу прибавишь два кило.
Вторым местом наших натурных съемок было Остафьево, где А. В. Луначарский и я вместе с нашей семьей проводили лето. В самой усадьбе Остафьево и в ближайших окрестностях снимался ряд сцен: игра в жмурки в дубовом лесу, мои сцены с Бредисом у пруда под сенью старинной липы (Бредиса играл артист МХАТ II Афонин), моя сцена с Эггертом в липовой аллее, сцены Шемета с Юлькой. Участники съемок, размещенные во флигеле совхоза, проводили свои вечера у нас, и Анатолий Васильевич очень охотно беседовал с Пудовкиным, Эггертом, Гейротом.
Нашему художнику Егорову удалось так скомбинировать природу двух непохожих, находящихся в разных районах Подмосковья усадеб, что получилось одно дышащее покоем и миром «дворянское гнездо» прошлого века. Я очень высоко ценила Егорова как художника и человека, но не могу не упрекнуть его за костюмы: он отнесся к ним недостаточно внимательно; может быть, доля вины падает на нашу дирекцию, которая в основном прибегала к прокатным костюмам; но и те новые, которые делались по эскизам Егорова, были не слишком удачны.
Директором усадьбы-музея Остафьево был его бывший владелец П. С. Шереметьев, который несказанно обрадовался, что кино увековечит его обожаемое Остафьево. Он так растрогался, что отдал Эггерту сохранившийся у него серый цилиндр «боливар»[19]19
Надев широкий боливар,Онегин едет на бульвар. (Пушкин).
[Закрыть], принадлежавший другу Пушкина, князю Вяземскому.
Тишина и поэтичность Остафьева очень помогли постановщику и артистам почувствовать атмосферу и стиль начала XIX века – эпохи, так хорошо описанной Проспером Мериме в его «Локисе».
Затем на некоторое время работу перенесли в павильон на Масловку. И тут, неожиданно для меня, Ф. А. Оцеп предложил мне участвовать в задуманном им фильме «Мисс Менд», вернее, тогда он назывался «Месс Менд». Я с радостью согласилась и снялась для пробы в гриме и костюмах «жены американского миллионера». Но сразу я не могла приступить к работе – нужно было закончить «Медвежью свадьбу».
Значительные куски фильма были уже смонтированы, их показывали участникам, и тут на смену моему радужному настроению пришло сомнение. Мне казалось, что режиссер все дальше и дальше отходит от замысла пьесы А. В. Луначарского и отчасти даже искажает ее смысл. В пьесе кроме образа графа Шемета имеются и другие яркие мужские роли: революционера, крестьянского сына доктора Бредиса; ученого пастора-немца, кроткого, миролюбивого, книжного человека, который невольно втягивается в вихрь страстей, бушующих в литовском замке; пустого, но жизнерадостного офицера Аполлона Зуева, однополчанина Лермонтова. В фильме эти роли сделались бледными, эпизодическими и не по вине актеров. Эггерт играл Шемета ярко, талантливо, но он вытеснил собой всех других исполнителей. Исчезли силы, борющиеся с Шеметом, следовательно, исчезла борьба. Невольно я сравнивала спектакль Малого театра с фильмом – как хорош и убедителен был В. Р. Ольховский в роли Бредиса, С. И. Днепров, позднее Н. А. Соловьев в роли пастора Виттельбаха, В. Н. Аксенов и Б. П. Бриллиантов в роли Аполлона Зуева… и никого из этих персонажей, в сущности, не было в фильме, хотя сценарий мало расходился с пьесой. Зато фильм расходился со сценарием. Г. Э. Гребнер соглашался со мной, но он был молодым сценаристом, и ему трудно было отстоять свое мнение. Что касается Анатолия Васильевича, он был крайне терпим к режиссерскому своеволию даже в театре, а главное, ему из-за массы партийных и государственных дел некогда было заняться этим фильмом. Мне казалось, что, если бы Эггерт придерживался сценария, фильм значительно выиграл бы, особенно в своем идейно-политическом значении. Иногда мне удавалось в каких-то деталях переубедить Эггерта, но только иногда. Я упрекала Анатолия Васильевича за его равнодушие к своему «детищу», но он обычно отвечал:
– Пьеса издана, она идет во многих театрах. Пусть читают, смотрят и сравнивают.
Анатолий Васильевич не учитывал того, что кинозрители гораздо многочисленнее зрителей театральных. Обычно он совершенно не вмешивался в ход работы над своим произведением ни в театре, ни в кино, он разрешал режиссерам делать любые изменения; я объясняю его невмешательство прежде всего занятостью, кроме того, он считал, что его положение наркома просвещения, в ведении которого в те времена была вся культурная жизнь Республики, не позволяет ему настаивать на своем мнении, когда дело касается его собственного творчества.
Последняя часть натурных съемок происходила в конце августа и в начале сентября. Это были самые ответственные массовые сцены: свадьба графа Шемета, народное гулянье с кострами и цыганскими плясками, а затем облава на Шемета, когда егеря, дворовые, крестьяне травят, как дикого зверя, вельможного графа.
Замком Мединтилтас служил слегка «подгримированный» Егоровым дворец в Покровском-Стрешневе, мрачный и громоздкий. Особенно эффектно он выглядел во время ночной съемки, освещенный факелами и кострами. Эггерт как режиссер был очень силен в массовых сценах, может быть, здесь сказались плоды его работы со Станиславским, когда он служил в Художественном театре: у него не было «статистов», каждый человек в массовке жил полноценной собственной жизнью, и эти разнообразные жизни он умел соединить в одно целое. Это качество Эггерта-режиссера сказывалось в его театральных постановках, а особенно в кино.
В эти дни в парке Покровского-Стрешнева уже чувствовалась осень… Рано темнело, к четырем часам приходилось кончать работу (разумеется, за исключением ночных сцен при факелах); это увеличивало количество съемочных дней. Мы зябли в открытых бальных платьях 30-х годов и в перерывах поверх платьев набрасывали пальто и шали. Но парк с золотыми листьями клена и берег Сходни были очень красивы, а наша «ряженая» толпа – шляхта, гусары в мундирах, цыгане, музыканты-евреи в лапсердаках, литовские крестьяне, егеря – привлекала многочисленных зрителей, которые, несмотря на все кордоны, прорывались в парк.
Как-то во время перерыва, гуляя по берегу Сходни, Эггерт сказал:
– Помните, как вы и Вера Степановна купались в реке? Мне пришла мысль: ведь Юлька танцует танец «медведя и русалки»; вот было бы здорово, если бы показать на экране сон Шемета: он видит Юльку и Марию в воде, при лунном свете – две девушки-русалки.
Мы с Малиновской ахнули:
– Но ведь не теперь же! Уже осень… Неужели вы отложите из-за этих «русалок» выпуск картины на целый год?
– И не подумаю. Нужно будет найти уголок реки, где еще не слишком чувствуется осень. Вы только окунетесь, а на берегу вас будут ждать теплые простыни, одеяла, всякие там шали, горячий кофе… Неужели вы такие трусихи?
Мы согласились – была не была! Эту съемку устроили недели через две, когда «леса с печальным шумом обнажались».
Нас вывезли на натуру (кажется, это был пруд в Крюкове), посоветовали густо намазать кремом все тело, надели на нас легкие, увитые водорослями хитоны и бросили в воду… Мне показалось, что я попала в крутой, обжигающий кипяток. Я услышала: «Приготовились, начали!», – но с криком: «Не начали, а кончили!» – я выскочила из воды. Малиновскую пришлось через полминуты вытащить из пруда, ей стало дурно. Тем не менее режиссер хвалил ее за выдержку, а меня ругал за отсутствие дисциплины… Через десять минут, растертые теплыми махровыми простынями, закутанные в пальто и одеяла, согретые чаем с ромом, мы обе смеялись и были отлично настроены. Эггерт уверял, что получатся великолепные кадры… На самом деле ничего не получилось: был плохой, пасмурный день, торчали голые ветки деревьев, а в пруду барахтались две утопленницы. На фабрике хохотали, просматривая этот кусок, и назвали его «Кошмар Шемета».
Дома мне досталось от Анатолия Васильевича за «русалок в пруду». Он возмущался деспотизмом режиссера и нашей «тупой покорностью», как он выражался.
– Что, у вас там на кинофабрике не существует охраны труда?
Акционерное общество «Русь» превратилось в «Межрабпом-Русь», а вскоре в «Межрабпомфильм».
Кинопроизводство стало шире, приглашены были новые режиссеры и операторы, но во главе производства по-прежнему был Алейников, и в художественной части основные кадры сохранились: Протазанов, Желябужский, Оцеп, Эггерт.
Эггерт занялся монтажом «Медвежьей свадьбы», а у меня начались павильонные съемки «Мисс Менд».
Это был фильм в трех сериях, то есть, в сущности, три полнометражных фильма. Режиссировал Федор Александрович Оцеп, сорежиссером был Борис Васильевич Барнет; он же играл одного из друзей-журналистов вместе с Владимиром Фогелем. Влюбленного чудака клерка играл Игорь Ильинский, мисс Менд – Наталия Глан, моего мужа – М. Н. Розен-Санин, его сына – И. И. Коваль-Самборский, фашиста Чиче – С. П. Комаров.
Первоначально фильм должен был экранизировать приключенческий роман М. С. Шагинян «Месс Менд», который пользовался тогда большим успехом у читателей. Критика тоже очень хорошо отозвалась об этой книге. Речь в ней идет о содружестве рабочих, назвавшихся «Месс Менд», – это был пароль, который устанавливал их контакт со своими единомышленниками. Рабочие – создатели вещей, и эти вещи должны были служить в их борьбе с капиталистами. Но за два с половиной года работы над фильмом постановщик и сценарист забыли о романе, и даже таинственные слова – пароль «Месс Менд», отзыв «Менд Месс» – превратились в собственное имя героини – мисс Менд.
Кажется, Шагинян протестовала против этих искажений, но безрезультатно. Сходство фильма с романом почти исчезло.
Я изображала вторую жену миллионера, молодую, но довольно свирепую даму, безнадежно влюбленную в фашиста Чиче, превратившего ее в слепое орудие своих планов.
Удивительно емкий павильон на Масловке вмещал апартаменты американского капиталиста, будуар его жены, редакцию газеты, холл, зал заседаний, таинственную лабораторию и т. д. Декорации выглядели довольно эффектно, в несколько формалистическом плане.
Съемки начались со сцен в будуаре миссис Стронг, то есть у меня; мне предстояло вместе с Чиче «убрать» незаконного сына моего покойного мужа, умерщвленного тем же самым фашистом Чиче. Для этого решено было похитить у заботливой старшей сестры, героини фильма, мисс Менд ни в чем неповинного пятилетнего мальчика и угостить его заранее отравленным яблоком. В павильон привели чудесного, румяного бутуза. Мальчику объяснили:
– Ты боишься вот этой тети и вот того дяди; ты просишь, чтобы тебя отпустили домой, ты кричишь и плачешь.
– Я никогда не плачу, – ответил мальчик.
– Очень хорошо… Умница… А теперь ты все-таки поплачь.
– Не буду.
– Этот дядя злой, ты боишься дяди.
– Я никого не боюсь, – гордо ответил маленький актер.
Долго возились с ним Оцеп и Барнет. Наконец, они прибегли к последнему средству: попросили его мать сделать вид, будто она уходит из павильона, и сказали:
– Боренька, твоя мама ушла домой и бросила здесь тебя одного.
Тут мальчик заревел благим матом, вырвался из рук миссис Стронг и Чиче и бросился разыскивать свою маму. За ним ассистент, помреж, костюмерша… Наконец мать принесла его плачущего на руках, и тут режиссеру удалось найти подходящий момент для съемки – мальчик, рыдая, повторял:
– Мама, не уходи, мамочка!
Получилось очень хорошо и правдиво.
Вскоре павильонные съемки пришлось прервать – нужно было снимать улицы и набережную в Ленинграде, затем в Одессе, то есть конец второй части и середину первой.
К сценам с мальчиком вернулись через два с половиной года. В той же декорации Чиче – С. П. Комаров и я – миссис Стронг ждем нашего малютку. И вдруг с такой же молодой и приветливой мамой появился худой и длинный чернявый парень.
– Сколько же тебе лет? – спросил оторопевший Оцеп.
– Девятый, – ответил «малюточка басом».
– Нет, нет, ему семь, ему только на днях исполнится восемь, – торопливо поправила мама.
– Гм… странно, – заметил Оцеп, – я бы его не узнал… Почему-то никто из нас не изменился за это время.
– «Гражданка, за время пути собачка могла подрасти», – шепнул мне Розен-Санин.
Словом, пришлось искать нового пятилетнего мальчика и с ним наново снимать всю сцену отравления. Недавно мне рассказали, что этот второй мальчик, вопреки надеждам своих родителей, не сделался советским Джекки Куганом: он теперь хороший инженер и отец семейства.
– Странно, – сказал бы Оцеп, – а никто из нас за это время не изменился.
Предположим.
В конце октября наша экспедиция выехала для съемок в Одессу. Мы водрузили, говоря фигурально, наш стяг над Лондонской гостиницей и стали ждать погоды. Я поняла тогда, что значит выражение: ждать у моря погоды. Это довольно тоскливое занятие. Я в первый раз была в Одессе, и меня занимала жизнь города. Но одесский порт в те годы почти не работал, кафе Фанкони перешло в Нарпит, и мое представление об Одессе, сложившееся по книгам и чужим рассказам, поддерживали только мальчишки-беспризорники и старики из бывших биржевиков по виду.
Мальчишки не отставали ни на шаг от нашей группы. Интересовал их больше всего Игорь Ильинский, но и других актеров они не оставляли в покое. Особенно запомнился мне один из них, по прозвищу «Сенька-дивертисмент». Он подходил, шмыгал носом и спрашивал:
– Тетя, хочете я вам представлю дивертисмент?
Независимо от того, хотели вы или нет, он «представлял дивертисмент»: становился на руки, отбивал чечетку и пел куплеты; рефрен одного был: «Полфунта вошей буржуям на компот». Получив за это монетку, он говорил: «Пока!» – и уходил развинченной походкой старого моряка.
В первый же день приезда меня и Оцепа остановил у входа в гостиницу какой-то пожилой человек с тросточкой и в канотье, не совсем по сезону в эти уже прохладные дни.
– Извиняюсь, вы будете гражданин Оцеп?
– Да, я Оцеп.
– Главный режиссер?
– Да, я режиссер.
– Извиняюсь за нескромный вопрос: вся Одесса говорит, что вы взяли Оську Рабиновича администратором, чтоб он набрал артистов для массовок?
– Да, взял.
– Боже мой, это же ужас! Вся Одесса в ужасе! Рабинович – пройдоха, жулик, каких мало!
– А нам как раз такого и нужно!
– Ах, вам такого нужно? Так Оська Рабинович, по-вашему, жулик? Ой, не смешите меня! Хотите иметь жулика? Приглашайте меня!
– Что ж, договоритесь с Рабиновичем, может быть, вы тоже пригодитесь.
Денька через три небо несколько прояснилось, и мы в костюмах и гриме отправились в порт. Рабинович и его конкурент постарались: на набережной было полно людей, которые за двенадцать рублей в съемочный день изображали «сливки общества» в Америке. Девяносто процентов собравшихся были люди в годах; мужчины были одеты в старомодные сюртуки и визитки, в котелках; дамы в шляпах с перьями; у многих на поводках были собаки (больше всего было чисто вымытых, с голубыми бантами белых шпицев).
– Что здесь делают эти люди? – растерянно спросил Оцеп.
– Это же шикарная американская публика!
– А почему вы решили, что они – шикарная публика?
– Как? Они не шикарная публика?! Смотрите, вот тот с усами, он же на бирже был царь! А вот эта роскошная дама – это мадам Кривко; ее второй муж был нотариус!
– А почему столько собак?
– Ой, я вижу, на вас не угодишь! Буржуазные дамы всегда гуляют с собачками, чтоб вы знали! Я им обещал прибавить по три рубля за собаку.
Мы подошли к «массовке»; там царил густой запах нафталина, который распространяли парадные костюмы, вынутые из сундуков. Настроение нашей «массовки» было самое радужное: встретились со старыми знакомыми, вывели погулять собачек, снимаются с московскими артистами, да еще получат двенадцать рублей, а с собачкой пятнадцать!
Оцеп понял, что ничего другого администраторы ему не доставят, и смирился.
По трапу сносили гроб Стронга, за ним следовала миссис Стронг в глубоком трауре; толпа ждала. Потом пошел дождь, и все «американцы» разбежались по парадным подъездам, спасая от дождя «шикарные» костюмы.
Редко-редко выпадал час-другой ясной погоды, но с утра приходилось гримироваться, одеваться и ждать.
По вечерам мы собирались все вместе, чаще всего в моем номере; строили планы, мечтали о новых фильмах… Отношения в нашей группе были очень хорошие, товарищеские; было много надежд, много планов. Иногда мы просто дурачились, как дети. Оцеп удивлялся, почему нам так весело, – он сам был расстроен, что нас так подводит хваленая одесская осень. Наконец судьба сжалилась над нами, и мы в сравнительно короткий срок отсняли сцены на палубе парохода. В последний день решено было не делать никаких перерывов, не терять ни минуты, использовать все время. К часу дня мы все были чертовски голодны. Я стояла у пристани вместе с Барнетом и горестно вздыхала:
– А ведь я думала, что здесь, в Одессе, у самого берега моря есть рестораны, поплавки, бары, всюду креветки, устрицы, мидии…
– А что такое мидии? – спросил Борис Васильевич.
– Ракушки, такие серые, совсем невзрачные с виду, но такие вкусные.
Барнет куда-то ушел, а я, оставшись одна, грустно смотрела на серое небо, на свинцовые волны… Какая досада, что Оцеп не отпускает нас в город хоть слегка закусить… Вдруг откуда-то появился Барнет, в руках и в карманах у него были какие-то раковины и слизняки.
– Прошу вас, вот они, устрицы! – сказал он, улыбаясь всеми ямочками на щеках, и раскусил какую-то отвратительного вида ракушку. Стоявшие тут же одесситы закричали и замахали на него руками: это было какое-то совсем несъедобное, чуть ли не ядовитое существо. Среди «массовки» началась настоящая паника. Барнета окружили, давали ему десятки советов, рекомендовали противоядия. Только после этой невольной демонстрации Оцеп командировал помрежа привезти нам из ближайшего кафе бутерброды и булочки. Мы готовы были качать Барнета: чрезвычайно брезгливый Оцеп пришел в ужас от того, что его актеры готовы есть каких-то неведомых морских тварей, и пожертвовал получасом, чтобы накормить голодающих…
Я уехала в Москву, а оттуда через неделю выехала за границу вместе с А. В. Луначарским.
Когда мы вернулись, «Медвежья свадьба» была смонтирована, и в кино «Арс» (ныне театр имени Станиславского) была назначена премьера. Теперь такие премьеры бывают только в Доме кино или в двух-трех кинотеатрах во время международных фестивалей. В кино «Арс» собралась многочисленная публика, состоявшая в основном из людей, причастных к искусству. Фильм понравился, ему много аплодировали, вызывали исполнителей, особенно Эггерта. После сеанса был устроен банкет, на котором присутствовал А. В. Луначарский, ведущие работники «Межрабпом-Руси», работники театра, журналисты, писатели.