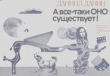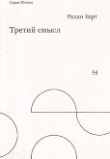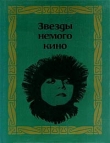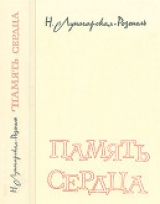
Текст книги "Память сердца"
Автор книги: Наталья Луначарская-Розенель
Жанры:
Искусство и Дизайн
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 31 страниц)
Марджанов
Летом 1924 года Анатолий Васильевич Луначарский решил провести свой отпуск в Грузии вместе со мной и моим братом Игорем.
Анатолий Васильевич до этого никогда не бывал в Закавказье, а я была там подростком, с родителями, и для меня это оставалось самым романтическим и прекрасным из всех впечатлений ранней юности. Я предвкушала удовольствие, с каким буду показывать Анатолию Васильевичу эти уже виденные мной красоты.
Сверкающим ранним утром из Владикавказа вышли на Военно-Грузинскую дорогу три открытых «фиата»; нас встретили во Владикавказе грузинские товарищи, и с нами выехали, чтобы проводить до Тифлиса (ныне Тбилиси), представители правительства Горской республики, в которую входили Осетия, Ингушетия и Чечня.
Все было радостно, празднично.
С гор спускались группы всадников в бурках и низко надвинутых папахах; на своих стройных, породистых лошадях они джигитовали вокруг наших машин в таких местах, где и просто проехать казалось мудреной задачей! Это аулы высылали свои почетные эскорты, чтобы приветствовать Луначарского.
Мрачная романтика Дарьяльского ущелья после Перевала сменилась мягким, зеленым грузинским пейзажем. И во всем была красота! Фантастическая, грандиозная, какая-то неправдоподобная красота!
На станции Пассанаури нас ждал сюрприз: туда, навстречу нам, выехала компания наших тифлисских друзей, и мы обедали там в большом и веселом обществе. Тут произошел один трагикомический инцидент. Анатолий Васильевич очень любил животных и гордился, что они отвечают ему взаимностью. В саду при ресторане было несколько светло-бурых, как будто плюшевых, совсем игрушечных медвежат, настолько добродушных с виду, что Анатолий Васильевич решил их погладить. Но внешность оказалась обманчивой, и самый крупный медвежонок довольно сильно прокусил ему руку. Анатолию Васильевичу это маленькое происшествие нисколько не испортило настроения, и он искренне утешал директора ресторана, который был ужасно расстроен таким нарушением законов гостеприимства со стороны своего питомца.
Мы приехали в Тифлис только к вечеру, уже в сумерки, усталые от огромных впечатлений.
В старомодной, пышной, с гобеленами и позолотой гостинице «Ориент» мы только-только успели привести себя в порядок, как раздался телефонный звонок. Звонил приехавший вместе с нами из Москвы один из видных работников Грузии Шалва Элиава; он просил разрешения подняться к нам с нашим старым знакомым.
– С кем?
– Позвольте не называть, через минуту мы будем у вас. Надеюсь, вы не рассердитесь.
Анатолий Васильевич вышел в гостиную навстречу им, я услышала оживленные голоса, радостные восклицания и, войдя, увидела, как Анатолий Васильевич дружески приветствует черноглазого, слегка седеющего человека.
– Константин Александрович, как я рад!
Ну, конечно, это был он – реформатор и глава грузинского театра, один из виднейших русских режиссеров – Константин Александрович Марджанов, Котэ Марджанишвили, как его здесь называли.
Анатолий Васильевич хотел представить мне Марджанова.
– Мы давно знакомы. А помните, где мы с вами впервые встретились? – спросил, улыбаясь, Константин Александрович.
– Я-то помню, для меня, ученицы, мечтающей о сцене, знакомство с Марджановым было огромным событием. Но неужели вы, Константин Александрович, действительно помните это давнее, мимолетное знакомство?
– В Киеве в 19-м году в «Кривом Джимми» нас познакомил Гарольд, ведь верно? А потом я видел вас в Москве, в компании имажинистов с Есениным и Шершеневичем в «Хромом Джо».
– Да, да, все верно. Какая изумительная память!
Тут вмешался Шалва Зурабович:
– Странные у вас места для встреч: «Кривой Джимми», «Хромой Джо», ну а теперь в Тифлисе вы тоже встретились в присутствии хромого. (Он действительно заметно хромал.)
– Это значит – до конца выдерживать стиль, – заметил Анатолий Васильевич.
– Идемте гулять, – зовет Марджанов, – Посмотрите ночной Тифлис.
Анатолий Васильевич соглашается, и мы отправляемся бродить по улицам Тифлиса.
Южный город и не собирался затихать в эти поздние часы. Белые костюмы мужчин, яркие женские платья, блестящие глаза, ослепительные улыбки, гортанный говор – все кажется красивым, неожиданным, манящим новизной.
– А помните Киев? – говорит Константин Александрович.
Я считаю счастьем и удачей, что на самой ранней заре моей театральной жизни мне пришлось, пусть мельком, встретиться с Марджановым.
Я еще только робко мечтала о сцене в этот бурный, незабываемый 1919 год, когда в Киеве, истерзанном гражданской войной, но все же живом и прекрасном, появился Константин Марджанов.
В течение 1918 года Киев видел многое, слишком многое: прусских офицеров с моноклями, и гетманских «синежупанников», и петлюровских гайдамаков, и обломки старого Петербурга и старой Москвы во время повального бегства на юг. Вся эта накипь была сметена Красной Армией в январе 1919 года. И тут же в израненном городе началось могучее созидание.
Во главе киевских театров стал Марджанов, человек с огромной энергией и необузданной фантазией.
Я мечтала осенью 1919 года поступить в театральную студию, учиться и работать у Марджанова и совсем не беспокоилась, как при этом сложится моя личная судьба на сцене: раз с Марджановым – значит, захватывающе интересно! Старшие товарищи, ученики студии при театре «Соловцов», помогли мне пробраться на репетицию «Овечьего источника»; тогда я впервые увидела работу режиссера, и какого режиссера! Не буду останавливаться на спектакле «Овечий источник»: о нем много написано.
То, что живет столетиями в драме Лопе де Вега, то, что было нужнее насущного хлеба молодежи тех лет, – все было воплощено в этом спектакле: «Свобода! Свобода или смерть!»
Усилия Марджанова, Юреневой, Рабиновича, даже самого скромного исполнителя роли без слов, сливались в единый мощный порыв борьбы с угнетателями.
Может быть, юность, свежесть восприятия способствовали тому, что я так безоговорочно полюбила весь спектакль целиком, что «Овечий источник» в постановке Марджанова стал для меня каким-то откровением. Но ведь я была не одна! Каждый спектакль «Овечьего источника» был триумфом: весь театр бушевал и безумствовал от восторга!
И этот вихрь, это волшебство создал он, стройный человек, с серебряными нитями в темных волосах, о котором киевская театральная молодежь рассказывала бесконечные трогательные и забавные истории.
И вдруг… событие первостепенной для меня важности: на спектакле в подвальчике-кабаре «Кривой Джимми» известный киевский журналист и критик Гарольд во время антракта познакомил меня с Марджановым. Это было так неожиданно, что я не успела ни смутиться, ни испугаться. Гарольд сказал, что я собираюсь поступить в театральную студию и что я сестра композитора Ильи Саца. Глаза Марджанова засветились очень теплым и ласковым светом, он усадил за столик меня и Гарольда и, волнуясь, заговорил об Илье. Их творческие пути неоднократно скрещивались: «Гамлет» в МХТ, в режиссерской работе над которым принимал участие Марджанов, «У жизни в лапах» Гамсуна – первая самостоятельная постановка Марджанова в Художественном театре; «Слезы» – созданный специально для Юреневой спектакль-мимодрама, – везде звучала своеобразная музыка Ильи Саца. Во всех постановках режиссер и композитор работали в чудесном вдохновенном единении, помогая друг другу.
Не только в их творчестве, но и в их человеческом облике было много общего, и их связывала большая и нежная дружба.
– Фанфары из «Гамлета» вспоминаешь и… мороз по коже! А вальс из «У жизни в лапах»! А сколько у нас с Ильей осталось замечательных, увы, неосуществленных замыслов! Как Илья был бы нужен сейчас. Что бы мы с ним натворили!
К моим мечтам о сцене Марджанов отнесся очень тепло, сказал мне несколько ободряющих и задушевных слов, которые привели меня в совершенный восторг, а на прощанье добавил:
– Значит, я, во всяком случае, увижу вас в августе на испытаниях в соловцовской студии. Если вам до этого захочется посоветоваться со мной, я всегда к вашим услугам. Вы мне не чужой человек, вы – сестра Ильи.
Последний акт я слушала и смотрела сквозь какой-то радужный туман. Конечно, «Кривой Джимми» был в моих глазах лучшим, остроумнейшим, изящнейшим среди всех театров этого жанра; Курихин, Хенкин, Перегонец – чудесными, увлекательными актерами; а лучше всех был Марджанов, большой режиссер и такой простой и обаятельный человек.
В это лето я пережила тяжелое горе. Но молодость брала свое и, несмотря на переживания, в ожидании августа я усердно готовила монологи, стихи, басни.
Можно привыкнуть к очень многому; и киевляне тех лет привыкли к постоянным звукам канонады. «Это стреляют, там, на Ирпене», – говорили таким тоном, будто Ирпень находится где-то на другом полушарии.
А потом появились тревожные сводки, поползли панические слухи, которым не хотелось верить и которые оказались правдой. На север потянулись обозы. Эвакуировались киевские учреждения; Красная Армия отступала. Марджанов уехал в Петроград.
После нескольких дней артиллерийского обстрела наш многострадальный Киев оказался в руках деникинцев.
Наступили мрачные дни; осадное положение, перестрелки, обыски, расправы с большевиками.
Из зрелищ процветали только шантаны «Аполло» и «Жар-птица», где кутили пьяные офицеры.
В сентябре я была принята в студию «Театральная Академия», во главе которой стояла группа высококультурных и одаренных преподавателей – актеров и театроведов. Но обстановка для работы была крайне неблагоприятная.
Помещалась наша «Академия» возле Золотоворотского сквера, возвращаться приходилось поздно, на темных улицах бесчинствовали, грабили, приставали к женщинам офицеры «дикой дивизии». Но нас, молодежь, поддерживала уверенность, что все это ненадолго, и несмолкаемая канонада в окрестностях Киева воспринималась теперь как близкое освобождение.
Мы, студийцы, часто вспоминали Марджанова, его постановки в соловцовском театре, его заботу о молодежи, его грандиозные планы. Вслед за Марджановым в Петроград уехали некоторые выпускники театральных студий, и мы завидовали им. В Петрограде была блокада, было холодно и голодно, но каждый из нас охотно переносил бы любые лишения за право работать с Марджановым.
Вот об этом периоде киевской жизни мы вспоминали с Константином Александровичем в Тифлисе, в «Симпатии» – так называлась шашлычная, где на стенах в овальных медальонах были портреты великих людей, все совершенно одинаковые; различить их можно было только по усам, бакенбардам, прическам, а главным образом по подписям: Сократ, Лермонтов, Наполеон, Галилей – у всех было одно лицо, с удлиненными черными, как маслины, глазами.
Марджанов спросил Луначарского:
– А помните Петроград?
И снова в его передаче воскресали страницы яркой созидательной работы режиссера-новатора, вечного искателя непроторенных путей.
Анатолий Васильевич вспоминает постановку Марджанова «К мировой Коммуне» в Петрограде в 1920 году, в которой участвовало четыре тысячи человек. Ни до, ни после нельзя было увидеть равного по грандиозности зрелища. В этот же период Марджанов предложил Луначарскому широкий план создания массового театра под открытым небом в излучине Москвы-реки, возле бывшей дачи Ноева, где самой природой устроен великолепный амфитеатр. Он же разработал режиссерский сценарий «1 Мая». Поистине, марджановская фантазия была неисчерпаема.
Летом 1924 года в Тифлисе гостил Александр Иванович Сумбатов-Южин, к которому Марджанов относился с особым уважением и теплотой. В их творческой судьбе было известное сходство: оба – грузины по рождению, оба – крупнейшие деятели русского театра, остававшиеся в то же время пламенными патриотами родной Грузии. Южин, старше Марджанова на семнадцать лет, представитель старейшего русского академического театра, признанный актер, маститый драматург, охотно слушал, иногда улыбаясь чуть иронически, пламенные импровизации Котэ, но это была улыбка умудренного жизнью человека, а горячность и непрактичность Марджанова ему, по-видимому, очень нравились.
В это лето Южин после большого перерыва снова посетил родной Тифлис, где провел свои юные годы; он разыскивал знакомые места в старых кварталах города, вспоминал людей и события своих далеких гимназических лет.
Для него Марджанов устроил трогательную и забавную инсценировку: «День в старом Тифлисе», – в которой был автором, режиссером и одним из исполнителей.
Марджанов, Южин и их друзья провели несколько часов в бане Орбелиани, где их по всем правилам мяли и избивали замечательные банщики-массажисты; туда же приносили шашлыки на раскаленных шампурах и бурдюки с кахетинским. Потом в знаменитых тифлисских «фаэтонах» они отправились в Мцхет послушать народные песенки и остроумные прибаутки широко известного в ту пору духанщика Захара Захаровича, «последнего кинто», как его называли. Популярность Захара Захаровича была так велика, что его сняли в нескольких фильмах, и его появление на экране обычно вызывало бурную реакцию в публике. Он сам гордился своими успехами в кино, больше чем признанием в качестве народного певца-импровизатора.
Выехали под вечер; лошади были разубраны пестрыми лентами и цветами, в одном из «фаэтонов» сидели музыканты с сазандари и зурной.
Южин был в восторге от этой затеи: так талантливо воскресил для него Марджанов Тифлис его юности, уже давно ушедший Тифлис 80-х годов.
В «Заре Востока» появилось сердитое осуждение этих «феодальных замашек» (так было сказано). Но мне кажется, что и здесь отразилась творческая фантазия этих двух замечательно одаренных людей, которые так самозабвенно отдавались игре не только на сцене, но и в жизни, несмотря на свои седые виски.
В этот приезд мы часто виделись с Константином Александровичем, и все встречи с ним были интересными, во всех беседах проявлялись его блеск, его темперамент.
Особенно запомнился мне прием, который грузинская интеллигенция устроила в честь Луначарского в Доме писателя. В этом красивом особняке собрались ученые, писатели, художники, артисты, музыканты. В большом зале «покоем» были расставлены столы, за которыми сидели все самые именитые и прославленные люди Грузии. «Вела стол» целая бригада тулумбашей, человек, наверно, пять, не меньше, и самым активным и неисчерпаемым оказался Марджанов. Порядок был такой: произнесен был первый приветственный тост в честь Луначарского, потом почествовали меня (тут особенно блеснул красноречием Марджанов), потом тамада представлял Анатолию Васильевичу каждого из присутствующих, и тот, в свою очередь, должен был спеть, продекламировать, сыграть, протанцевать или произнести ответную речь. Впервые Анатолий Васильевич и я познакомились с ритуалом праздничного грузинского стола в таком масштабе. Анатолий Васильевич говорил, что красноречие и пластичность движений, очевидно, врожденные черты грузин: люди самых различных профессий говорили, как прирожденные ораторы, а лезгинку отплясывали, едва касаясь паркета, не одни балетные артисты, а иной раз даже почтенные академики. Константин Александрович, главный «постановщик» этого вечера, видел, что его затея удалась, и был как-то особенно в ударе: его огненные глаза сверкали, он щедро рассыпал изящные и тонкие сравнения и остроты.
Все же к утру я почувствовала себя усталой и попросила моего соседа композитора Баланчивадзе показать сад. Там журчал фонтан, росли пышные субтропические растения. Была чудесная предутренняя прохлада. Вскоре к нам присоединился поэт Паоло Яшвили, «грузинский Маяковский», как его называли, а затем Марджанов. Константин Александрович подошел к беседке крадущейся походкой тигра и разыграл пародию на тему «ревность»: он «приревновал» меня к Баланчивадзе, которому уже тогда было сильно за семьдесят. Разыграл он сцену ревности по всем правилам традиционного театра «плаща и шпаги»: сверкал глазами, скрежетал зубами, требовал дуэли… Я еще раз убедилась, как ему близка буффонада, как она органична для Марджанова-художника.

М. Ф. Андреева

Афиша лекции-концерта, посвященного Беранже. 1935 г.
Не забуду приезд Константина Александровича в Боржоми и нашей прогулки в Цагвери и Бакуриани. Но, гуляя, наслаждаясь отдыхом в чудесном Ликанском парке, сидя за стаканом вина в деревенском духане, Константин Александрович вел с Анатолием Васильевичем интересные, содержательные беседы о советском театре, о литературе, о планах и перспективах театра имени Руставели.
Константин Александрович приобрел свой актерский и режиссерский опыт главным образом в русских театрах, работая с русскими актерами; как художественный руководитель он часто обращался к лучшим образцам классического наследия западноевропейского театра; но вместе с тем он был страстным патриотом, и в тот период основной целью его жизни было утверждение нового грузинского театра.
Во время летнего отпуска, когда театр не работал, режиссер Марджанов вынашивал свои замыслы. Он охотно делился ими с Анатолием Васильевичем и получал от него ценную поддержку и добрые советы.
В те годы только начинало зарождаться советское кино и, надо отдать должное, первые фильмы грузинского кино были удачными – там работали опытные кинорежиссеры Перестиани, Бек-Назаров. Анатолий Васильевич очень ценил фильмы Госкинпрома Грузии и одобрял намерение Марджанова включиться в работу кино.
Константин Александрович всегда горел, всегда преодолевал огромные препятствия и, казалось, сил и энергии у него избыток, а его пристрастие к грандиозным масштабам, массовым сценам могло бы найти особое применение в кино.
В 1926 году Анатолий Васильевич был снова в Грузии. Наркомпрос Грузии пригласил Луначарского в Каджори, дачное место вблизи Тифлиса, славившееся прекрасным горным воздухом. Туда выезжали на лето некоторые детские дома и пионерские лагери.
На открытой площадке дети показывали Анатолию Васильевичу свое самодеятельное искусство: они прекрасно пели в свойственной грузинскому народу полифонической манере хорового пения. Девочка лет тринадцати-четырнадцати читала свои стихи о Ленине и о старой большевистской гвардии, которые она посвятила Анатолию Васильевичу. Стихи она читала по-грузински, и мы не понимали слов, но Мария Платоновна Орахелашвили, заместитель наркома и старый друг Анатолия Васильевича еще по 1905 году, сказала, что они очень хороши и непосредственны. Прекрасны были физкультурные упражнения, но с особым увлечением показывали танцы. Танцевали солисты, пары и большие группы. На Анатолия Васильевича чудесное впечатление произвел один мальчуган лет шести-семи, который продемонстрировал просто чудо темперамента и танцевальной техники: он бегал на «пуантах», как классическая балерина, поднимая зубами платок, а «под занавес» прошелся по кругу с кинжалом (деревянным) в зубах. Анатолий Васильевич не выдержал, схватил его на руки и расцеловал в смуглые щечки. Мальчик был очень недоволен, что ему таким образом сорвали финал; он сверкал огромными черными глазищами и даже схватился за свой бутафорский кинжал: ему не понравилось, что с ним обошлись, как с ребенком.
– Браво, браво, – услышали мы за собой знакомый голос. – Я из него сделаю нашего Джекки Кугана, вот увидите.
Это был Константин Александрович, он узнал, что коллегия Наркомпроса во главе с М. П. Орахелашвили пригласила Анатолия Васильевича в Каджори, и приехал туда, зная, что его приезд будет всем приятен. Он не представлял себе, что его ожидает такое восхитительное зрелище: игры и танцы детей на фоне горного ландшафта. С искренним восторгом Марджанов сказал об этом наркомпросовцам и педагогам. Но тут же он возмутился отсутствием инициативы и оперативности у киноработников.
– О чем думают наши киношники? Как можно было не заснять все это? Луначарский, окруженный грузинскими детьми! Танцы, акробатика, физкультурные упражнения здесь, под открытым небом! Пусть бы за границей посмотрели, какие условия мы создали для ребят! Тупые, инертные люди! Чиновники от кинематографии!
Он возмущался и горячился и в его обычно безукоризненно чистой русской речи слышался грузинский акцент, еле-еле заметная гортанность. Представители Наркомпроса согласились с ним, они уведомили отдел документальных фильмов о празднике в Каджори, но Госкинпром не организовал съемки, очевидно, не представляя себе, что праздник в пионерлагерях превратится в такую демонстрацию самодеятельных талантов школьников. Константин Александрович со всем присущим ему темпераментом продолжал ругать на чем свет стоит работников Госкинпрома:
– Чиновники! Ни размаха, ни фантазии, ни любви к делу.
Анатолий Васильевич, посмеиваясь, говорил Марджанову:
– Ну вот, теперь вы включились в работу Госкинпрома. Покрепче заберите их в руки.
Живя в разных городах, много путешествуя, мы все же сохраняли контакт с Марджановым. Анатолий Васильевич очень огорчился, когда узнал о тяжелой болезни Константина Александровича, и искренне был рад его выздоровлению и возвращению к работе.
В 1928 году, после двухлетнего перерыва, Котэ Марджанишвили вновь целиком отдался театральной деятельности. В созданном им в 1922 году театре имени Руставели во время его тяжелой болезни работали его бывшие ученики во главе с энергичным и одаренным Сандро Ахметели. Они восприняли многое от творческой индивидуальности своего учителя и основоположника театра и стремились продолжать поиски новых театральных форм.
Константин Александрович решил, что возвращение в этот театр может иметь отрицательные последствия и для него, как художника, и для грузинского театра в целом. Он считал, что такая театральная страна, как Грузия, должна иметь несколько драматических театров, конкурирующих друг с другом, взаимно стимулирующих творческую работу. Наличие нескольких крупных театров создавало бы предпосылки для более интенсивной работы грузинских драматургов, для создания нового, советского репертуара.
За свою бурную жизнь Марджанов пережил не один кризис, когда, казалось, рушится здание, созданное им с таким подъемом, с такой затратой сил. Не раз Марджанову приходилось начинать все сызнова. И с этим, последним кризисом – уходом из созданного им театра имени Руставели – Марджанов справился блестяще: как Феникс из пепла, он вновь возник, такой же пламенный, такой же устремленный.
Второй по значению город в Грузии – Кутаис – сделался колыбелью нового марджановского театра, получившего название: 2-й Гостеатр Грузии. Группа даровитых актеров, режиссеров, композиторов сплотилась вокруг Марджанова и образовала ядро театра.
В 1930 году Москва увидела блестящие постановки созданного Марджановым нового грузинского театра.
Во время московских гастролей особенно сильное впечатление произвел «Уриэль Акоста». Все – игра артистов, трактовка образов, особый ритм спектакля – создавало полную величия трагедию борьбы за свободу мысли. Спектакль Марджанова был значительнее и глубже пьесы Гудкова. Марджанов облагородил эту драму, приподнял ее над бытом, сохранив ее реалистическое звучание.
Марджанов отводил в своих постановках огромное место художнику, и, надо сказать, он умел выбирать художников и зажигать их идеей своей постановки. Молодой художник П. Оцхели оказался на высоте требований постановщика. В его оформлении «Уриэля Акосты» было сочетание монументальности с легкостью. Ни традиционных раззолоченных павильонов, ни связывающих движения актеров тяжелых бархатных и парчовых костюмов; никаких этнографических, даже исторических деталей не было в этом оформлении: поэтому все общечеловеческое – страсти, борьба идей – выявилось особенно ярко.
Как всегда в марджановских постановках, музыка была совершенно органична в этом спектакле, она помогала актерам, определяла ритм спектакля.
И вот еще штрих, который произвел на меня сильное впечатление: «ориентальность». Сколько мне ни приходилось видеть постановок «Уриэля Акосты», ни в одной, за исключением спектакля грузинского театра, не было восточного колорита. А здесь в чем-то едва уловимом этот «Восток» присутствовал, и казалось понятным, что Уриэль, Юдифь, Эсфирь, Бен Акиба унаследовали свою пластику, свою эмоциональность от предков из библейских времен.
Черно-желтые колонны декораций, чистый и благородный образ Уриэля, необыкновенно пластичная и одухотворенная Юдифь – Верико Анджапаридзе – все это сохраняется в памяти как большая художественная ценность.
Зал был переполнен. Присутствовала вся театральная Москва, дипломатический корпус. Молодежь, заполнявшая балконы, неистовствовала. Жена одного посла, когда-то известная в Европе трагическая актриса, сказала мне:
– Я сама много раз играла Юдифь с крупнейшими трагиками в роли Акосты, но только сегодня я поняла, что это великое произведение. Слава Марджанову!
Анатолий Васильевич был в восторге от спектакля, принимал его безоговорочно, целиком. В антракте он горячо поздравлял Марджанова с большим и заслуженным успехом.
Он дал высокую оценку спектаклю в разговоре с присутствовавшими в театре членами грузинского правительства, говоря, что они вправе гордиться своим замечательным земляком, получившим такое признание в Москве.
– Марджанов не только крупнейший театральный деятель Грузии, он – яркое явление русского театра, – сказал Анатолий Васильевич и прибавил полушутя: – Берегите Марджанова, создайте ему наилучшие условия для работы – не то, предупреждаю вас, друзья, Москва его похитит, здесь он очень нужен.
Через несколько дней мы смотрели пьесу обаятельного, живописного Ш. Дадиани «В самое сердце». Спектакль пленял свежестью, прекрасными, чисто марджановскими мизансценами. В театральных кругах Москвы успех был бесспорный; о Марджанове, его ярком таланте и созревшем мастерстве писали и говорили крупнейшие деятели театра, а актеры мечтали о работе под его руководством.
В присутствии крупнейших театральных работников столицы, собравшихся в театре бывш. Корша, чтобы поблагодарить и поздравить Марджанова, Анатолий Васильевич сказал:
– Такой мастер, такой большой художник имеет право на заботу и внимание своей страны. Надеюсь, в Грузии сумеют сделать вывод из московских успехов театра Марджанова и позаботятся о дальнейшем его развитии. Параллельно с работой во 2-м Гостеатре Грузии Марджанов должен дать ряд постановок в московских театрах.
Анатолий Васильевич оказался пророком: после такого полного признания, какое театр получил в Москве, его перевели в столицу Грузии и назвали именем Котэ Марджанишвили, а создателю его присвоили звание народного артиста.
Тяжелая болезнь, волнения, связанные с реорганизацией театра, наложили свой отпечаток на внешность Константина Александровича: в его густой и темной шевелюре появилось много серебряных прядей, иногда на его обычно оживленном и жизнерадостном лице заметны были следы усталости и озабоченности.
Но ни болезнь, ни усталость не отразились на Марджанове-художнике.
Вскоре Марджанов был приглашен для постановки пьесы Ибсена «Строитель Сольнес» в театр «Комедия» (бывш. Корша).
Луначарский содействовал этому приглашению; он принял участие в обсуждении на расширенном Художественном совете театра пьесы «Строитель Сольнес». Интересно выступил на этом совещании профессор И. С. Гроссман-Рощин, который предостерегал театр от возможности идеологических ошибок при интерпретации Г. Ибсена. Анатолий Васильевич находил мысль воплотить на сцене «Сольнеса» своевременной и правильной.
Актерский состав спектакля был очень сильный: участвовали В. Н. Попова, Н. М. Радин, А. П. Кторов. С их слов я знаю, что работа над спектаклем проходила в атмосфере доверия к режиссеру; работали увлеченно и дружно.
Спектакль получился своеобразный, интересный, хотя далеко не все удовлетворяло в нем. Ряд технических режиссерских находок (например, свет) в этом спектакле был изумителен. Хороша была В. Н. Попова в роли Гильды – озорная, жестокая, очень юная, с несколько угловатой, почти мальчишеской живостью. Интересной фру Сольнес была Н. Л. Бершадская: она полностью приняла задание режиссера, доверилась ему, и, вероятно, поэтому созданный ею образ был цельным и оригинальным. При всем моем глубочайшем уважении к Н. М. Радину, я должна сказать, что роль Сольнеса была не в плане его дарования; Радин был по преимуществу комедийный актер, непревзойденный мастер диалога, и мне думается, что драматургия Ибсена была чужда его актерской индивидуальности. Но, несмотря на отдельные погрешности, Москва, увидев «Сольнеса», убедилась, какого режиссера она может приобрести в лице Марджанова.
Во время работы над «Сольнесом» мы часто виделись с Константином Александровичем, чаще всего у нас дома. Анатолий Васильевич всегда был рад встретиться с ним.
От Анатолия Васильевича исходила мысль привлечь Марджанова к работе в Малом театре, который, обладая замечательной труппой, хронически болел «безрежиссерьем». Анатолий Васильевич часто говорил Марджанову:
– Вы – один из крупнейших режиссеров-постановщиков в Союзе. Не порывайте с вашим детищем в Тифлисе, тем паче, что ребенок у вас получился одаренный. Но не замыкайтесь только в Грузии. Вы нужны московским театрам: актеры вам верят.
В феврале 1933 года Анатолий Васильевич и я вернулись из-за границы после почти годичного отсутствия. За это время Анатолий Васильевич тяжело болел и перенес серьезную глазную операцию. Как ни трудно было Анатолию Васильевичу при его подвижности и темпераменте, но в этот период ему самому стало ясно, что нужно покориться требованиям врачей и переключиться на более спокойную, преимущественно научную работу.
Врачи настаивали, чтобы Анатолий Васильевич жил, по возможности, за городом, и мы поселились в доме отдыха «Морозовка», в семидесяти километрах от Москвы. С нами жил мой брат Игорь, который нес обязанности литературного секретаря Луначарского. Анатолий Васильевич приезжал в Москву в Ученый комитет, в Академию, на важнейшие совещания редакций не чаще двух-трех раз в неделю. Я уезжала в Москву только на спектакли, а все остальное время мы проводили за городом.
Еще до нашего возвращения из-за границы Марджанов приехал в Москву и приступил к работе в Малом театре. Он ставил «Дон Карлоса», самую романтическую и яркую из шиллеровских драм. Роли были распределены, намечены два состава: мне была обещана роль королевы в очередь с Н. А. Белёвцевой, но при постоянной тревоге за здоровье мужа и необходимости жить за городом мне пришлось отложить свое участие в репетициях «Карлоса» на неопределенное время.
Конечно, в один из первых же дней после нашего приезда мы встретились с Константином Александровичем. Марджанов только знакомился с труппой Малого театра, и его очень радовало, что актеры, вернее, большая часть актеров, встретили его приход в старейший русский театр с неподдельной радостью.