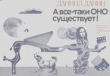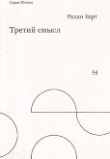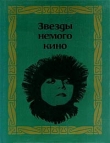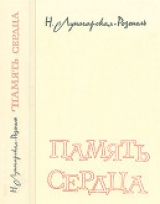
Текст книги "Память сердца"
Автор книги: Наталья Луначарская-Розенель
Жанры:
Искусство и Дизайн
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 31 страниц)
Двери открывает сам хозяин; он в вязаном пуловере, в тех же маленьких очках в металлической оправе. Нет, на «Мюрже» здесь не похоже. Перед нами большая, очень большая, необыкновенно чистая и светлая мансарда, напоминающая мастерскую художника или скульптора, только вместо подрамников и влажной глины несколько больших некрашеных столов, и всюду книги, очень много книг – немецких, французских, английских. В гостях у поэта несколько друзей. Я узнаю популярную актрису, известного «левого» архитектора, мадьяра по происхождению; некоторые лица нам незнакомы. Мужчины – в костюмах для улицы, женщины – в вязаных платьях (в мансарде не слишком тепло). В первый момент меня несколько смущает этот диссонанс с нашим «оформлением»: мы приехали прямо с официального приема. Но никто не обращает на это внимания, и через десять минут я бросаю на стол шляпу, перчатки и помогаю раздавать чашки с чаем. Вглядываюсь в обстановку и начинаю понимать, что здесь, наверное, очень хорошо работается, – так много места и никакой украшающей мебели, ничего лишнего.
– Здесь поэт может шагать из угла в угол, обдумывая новые строчки и при этом не укорачивать шаг. За сколько минут вы обходите свою мастерскую? – шутит Луначарский. Он сам любит диктовать, расхаживая по комнате.
К чаю – лимон, поджаренные ломтики хлеба (тосты), сухое печенье, привезенное кем-то из Америки в подарок Брехту. Почему-то все кажется очень вкусным.
Возобновляется прерванный нашим приходом разговор.
– Кончилась немецкая литература, искусство. В Германии больше нет места прогрессивным идеям, гуманизму. Левая интеллигенция либо будет физически уничтожена, либо будет влачить жалкое существование в эмиграции, либо уйдет в подполье, – говорит один из присутствующих.
– Нет, не может быть! Еще не все потеряно: вспомните результаты последнего голосования, – возражает актриса.
– Маньяк ефрейтор был бы бессилен, если бы его не поддерживали Крупп, И. Г. Фарбениндустри и прочие. Что можем мы, интеллигенты?
– Бороться, – говорит Луначарский, – бороться до последнего издыхания, бороться на своем посту, каждый своим оружием: писать статьи и романы, проектировать дома, читать стихи, играть на сцене, если придется, сражаться на баррикадах.
– Придется эмигрировать, уйти в подполье.
– Ну что же, и в эмиграции и в подполье продолжайте борьбу. Вспомните нас, русских большевиков. Мы не складывали оружия ни на чужбине в эмиграции, ни на каторге в Сибири. Мы знали, что победим. В Швейцарии, будучи эмигрантом, я изучал школьное дело. Я знал, что, когда революция победит, мне придется работать в области просвещения, и я готовился к этому. – Анатолий Васильевич повернулся к Брехту. – Вот вы, Брехт, пишите пьесы, сейчас их не поставит ни один театр, но через несколько лет в Берлине, я не сомневаюсь, будет театр Брехта, где вы будете автором, режиссером, быть может, актером.
– Брехт не может жить без театра, – засмеялась актриса, – за неимением лучшего он согласится быть суфлером.
– И пожарным в театре, – подхватил кто-то.
– Значит, да здравствует театр Брехта, ну хотя бы на Шиффбауэрдамм, – заключил Анатолий Васильевич. Мог ли он предполагать, что его тост осуществится буквально?
– Нет, об этом нечего и мечтать, – сказал со вздохом Брехт. – Недаром Гергарт Гауптман назвал свою последнюю пьесу «Перед заходом солнца», она шла в начале сезона в юбилей автора. Теперь этот «заход» надвинулся еще ближе. Происходят страшные вещи: обыски, вторжение хулиганов в квартиры ученых, писателей, безнаказанные убийства… Надвигается тьма. Но Луначарский прав – это все ненадолго. Я верю в наш народ, – тихо говорит Брехт.
Он берет объемистую рукопись, напечатанную на машинке, и, не повышая голоса, избегая подчеркиваний и эффектов, начинает читать. Он читает отрывки из «Иоанны Чикагских скотобоен», он читает «Болотных солдат». Время от времени он спрашивает: «Не устали?» Его просят продолжать. Никто не устал. Напротив – это негромкое, спокойное чтение увлекает все больше и больше. И автор сам увлечен. Анатолий Васильевич просит его прочитать одно из ранних произведений – «Песню о мертвом солдате». Мы ее знали по талантливому исполнению Эрнста Буша. Но вот Брехт закашлялся раз, другой.
– Надо и совесть знать, – говорит наконец Анатолий Васильевич, крепко пожимая руку поэту.
– Берегите себя, – говорит на прощание Брехт, и его суровое лицо с тонким волевым ртом вдруг теплеет. – Я себя так ругаю, что вовлек вас в это путешествие по чердакам. Я не подумал о том, что это вредно для вашего сердца. Я приеду к вам в гостиницу и буду читать хоть до утра. Извините меня.
– Нет-нет, сердце у меня сейчас в отличном состоянии. И я ухожу из вашей мастерской с хорошим чувством, с уверенностью, что в Германии сохранится честная, прогрессивная интеллигенция – вот вы все.
Мы вышли на улицу и несколько кварталов шли пешком. Навстречу нам шагали штурмовики. От их группы отделился парень с приплюснутым носом и низким угреватым лбом. Он нагло протянул кружку для сбора в пользу СС чуть не к самому лицу. Анатолий Васильевич сделал вид, что не замечает кружки, и ускорил шаг, обращаясь ко мне с каким-то посторонним замечанием. «Polnishe Schweine», – выругался штурмовик.
– Ты видел их физиономии? Какие кретины, идиоты, дегенераты! – возмущалась я.
– Я тебе советую – говори: болваны, дураки, ублюдки. А ты употребляешь слова, не нуждающиеся в переводе. Не надо связываться с такой сволочью. Вот тебе еще один термин – сволочь. Да, есть среди немцев и такие выродки. И тем не менее эта страна «мыслителей и поэтов». Вот мы с тобой только что слушали настоящего поэта.
26 декабря 1933 года Анатолий Васильевич скончался в Ментоне, на юге Франции. Когда осенью 1933 года Луначарский лечился в парижском санатории, его навещали жившие в Париже немецкие эмигранты-коммунисты и антифашисты, в их числе бывший рейхсканцлер д-р Вирт, академик Каро, писательница Эльвира Кальковска и другие. Они успокоили Анатолия Васильевича относительно судьбы Брехта: ему удалось вовремя уехать в Чехословакию.
В 1936 году в Москве летом на приеме, устроенном М. Е. Кольцовым в Жургазобъединении, мне пришлось снова встретиться с Брехтом. За эти три года он изменился, и, хотя выглядел гораздо моложе своих лет, прежнего «студенческого» в нем уже было мало. Человеку, любящему, как он, свою родину, свою культуру, свой народ, тяжко было сознавать, что все это топчут сапоги нацистов. И хотя его творческая деятельность не прекращалась, чувствовалось, что он угнетен. В один из ближайших дней я пригласила Брехта к себе. Я собрала у себя нескольких друзей, в их числе М. Е. Кольцова, И. М. Беспалова, А. И. Дейча, К. А. Уманского. С Брехтом пришел его друг – кинорежиссер Златан Дудов. Все присутствовавшие, одни – лучше, другие – хуже, говорили по-немецки. Разговор сразу стал общим, и настроение было непринужденное. В Москве Бертольт Брехт не чувствовал себя иностранцем, чужим; он с увлечением говорил о том, как за последние годы выросла и похорошела Москва. Его радовало наше нарядное, всегда праздничное метро, Тушинский аэродром, новые гранитные набережные на Москве-реке. Несмотря на летнее театральное затишье, он успел за свое короткое пребывание многое посмотреть в театрах и говорил о своих впечатлениях без банальных любезностей иностранца и гостя, а как близкий друг, который радуется удаче, но отнюдь не склонен проходить мимо недостатков. Он просто и дружелюбно говорил и о недостатках. Во время прежних приездов Брехта в Москву Луначарский отсутствовал, и у нас дома Брехт был впервые. Он попросил меня показать ему рабочую комнату Анатолия Васильевича. Он внимательно, точно стараясь запомнить все подробности, осмотрел стол, книжные шкафы. Долго вглядывался в портрет. Потом сказал:
– Какой это был мужественный и сердечный человек! Помните, как он говорил мне тогда о «моем» театре? Я помню эти слова.
Луначарский и Моисси
Радостная весть облетела театральную Москву в начале зимы 1923 года: к нам из Германии приедут Александр Моисси и Конрад Вейдт.
Люди разных поколений по-разному реагировали на эту весть. Старшее поколение помнило замечательные гастроли театра Макса Рейнгардта во главе с Моисси в 1911 году, постановку «Царя Эдипа» на арене цирка, Эдипа – Моисси.
Мы, тогдашняя молодежь, знали о театре Рейнгардта только понаслышке – когда он гастролировал в России, мы были еще детьми. Во время войны и первых лет революции наша родина была совершенно разобщена с Западом, и лишь в конце 1922 и в 1923 году к нам начали проникать зарубежные фильмы, главным образом американские и немецкие производства УФА. Старшее поколение в начале 20-х годов еще не совсем всерьез принимало кино – «синематограф», как тогда говорили, – но молодежь уже и тогда увлекалась «великим немым» и ценила это большое, новое искусство, в котором Конрад Вейдт занял видное место. «Индийская гробница», «Кабинет доктора Калигари», «Леди Гамильтон» – в этих фильмах запомнилось больше всего странное, жесткое лицо с непроницаемыми, холодными глазами и высокая элегантная фигура Конрада Вейдта.
Мы представляли себе, что этот герой сойдет с полотна, сделается трехмерным, объемным, заговорит! Конрад Вейдт должен был выступить в Москве в «Лорензаччо» Мюссе и в инсценировке «Кабинета доктора Калигари». (Но, к нашему огорчению, он не приехал.)
О Моисси мы знали из книг, из рассказов старших и также мечтали о его приезде.
Вскоре наши мечты приняли реальные очертания: стало известно, что в Берлине подписан договор с Моисси о его московских гастролях, что в марте 1924 года Моисси будет играть ряд спектаклей в помещении Экспериментального театра (теперь Театр оперетты), что партнерами его будут в основном артисты Малого театра. Этим переговорам содействовал Анатолий Васильевич Луначарский, который хорошо знал и ценил талант Моисси.
Во время эмиграции Анатолий Васильевич жил больше всего в Швейцарии, Франции и Италии, в Германии он бывал только наездами, когда по поручению партии выступал с лекциями в Берлине, Мюнхене и других крупных немецких городах. Но он не пропускал случая ознакомиться с работами Рейнгардта, мейнингенцев, с байрейтскими спектаклями и т. д. Луначарский писал о Моисси в своих парижских корреспонденциях после гастролей театра Рейнгардта в столице Франции. Он видел Моисси во многих ролях и считал его одним из интереснейших актеров в Европе.
Вскоре выяснилось, что Моисси будет выступать в «Гамлете», в «Живом трупе», «Привидениях», «Зеленом попугае» и «От ней все качества». Распределили роли среди артистов Малого театра, где я тогда служила, работая в сезоне 1923/24 года параллельно и в театре МГСПС. Случилось так, что к приезду Моисси я была занята в нескольких спектаклях: в Малом репетировала «Стакан воды» Скриба, в театре МГСПС участвовала в «Кине» Дюма, в «Тайфуне», а в драме Луначарского «Герцог» репетировала роль герцогини Иоанны. Совмещать работу в двух театрах было крайне сложно, но у меня не хватило силы воли отказаться от участия в гастролях Моисси, и я была очень рада, когда мне предложили играть роль Саши в «Живом трупе». Подготовить эти спектакли взялись Н. О. Волконский и С. И. Ланской, один из очередных режиссеров Малого театра, специализировавшийся на «вводах».
Восьмого марта 1924 года (я навсегда запомнила эту дату) в театре МГСПС шла репетиция «Герцога», которого ставил Евсей Осипович Любимов-Ланской. Состав исполнителей был блестящий: папа – С. Л. Кузнецов, Фома Кампанелла – А. Н. Андреев, Герцог – В. А. Синицын, инквизитор – И. Н. Певцов. Едва я кончила свою сцену с Фомой Кампанеллой, как меня громким шепотом окликнули из-за кулис: «Ланской просит вас прийти в фойе. Ведь вы свободны в двух следующих сценах». В это время Любимов-Ланской, стоя на авансцене, что-то втолковывал группе монахов. Я несколько удивилась, что он вызывает меня не в свой кабинет, а в фойе, но сейчас же туда побежала. Там меня ждал совсем другой Ланской – из Малого театра, он держал в руках начерченные на бумажках мизансцены и с места в карьер сказал:
– Репетируем сцену с Карениным. Вот у меня мизансцены, присланные Моисси, пройдем также ваши сцены с Федей; завтра, возможно, Моисси будет репетировать сам, а пока я буду подавать вам реплики за него.
– А Моисси уже приехал?
– Нет, нет, мы ждем его завтра.
Я начала читать сцену с Карениным – В. Р. Ольховским. Едва мы успели закончить одно явление, как прибежал помреж театра МГСПС.
– Через две минуты ваша картина. Любимов-Ланской просит не опаздывать.
Я бегом бросилась от просто Ланского к Любимову-Ланскому, чтобы, окончив сцену из «Герцога», тем же аллюром вернуться в фойе к просто Ланскому. «Какое счастье, – пронеслось у меня в голове, – что для репетиций Моисси назначено фойе театра МГСПС (он помещался тогда в Каретном ряду, в „Эрмитаже“), будь репетиции в другом месте, мне пришлось бы отказаться от участия в гастролях Моисси».
– Саша выходит из этой двери, сталкивается с Протасовым вот здесь, справа, – говорит Ланской. «Нет, Саша, ты должна понять…» – продолжал монотонно, как пономарь, подавать реплики режиссер… и вдруг я услышала изумительный, редкой красоты голос. Эта неожиданность заставила меня вздрогнуть. Мягким движением отодвинув Ланского, на его место стал невысокий, стройный человек в сером спортивном костюме и небрежно перекинутом через плечо длинном вязаном шарфе. Глядя мне в зрачки широко раскрытыми светло-карими глазами, он продолжил реплику Протасова по-немецки. «Боже мой, Моисси!» У меня от радости и неожиданности перехватило дыхание… Он, ласково и ободряюще улыбаясь, назвал себя, пожал мне руку, и мы вернулись к прерванной репетиции.
Уйти из фойе было выше моих сил, и я, сидя в группе участников спектакля, следила за Моисси во время его работы с другими исполнителями.
Идет сцена Протасова с Машей – О. Н. Поляковой. Тут мне почудилось какое-то движение, перешептывание: оказалось, в дверях в шубе и шапке стоит Анатолий Васильевич Луначарский. С. И. Ланской, увидев Анатолия Васильевича, пригласил его войти и познакомиться с Моисси. Здесь, среди перевернутых стульев, служивших выгородками, состоялось их первое знакомство, здесь же Анатолий Васильевич от души сказал ему:
– Willkommen! Herzlich willkommen![4]4
Добро пожаловать! (нем.).
[Закрыть]
На другой день Моисси посетил Луначарского в Наркомпросе, и между ними состоялся большой и серьезный разговор, о котором Анатолий Васильевич с увлечением потом рассказывал:
– Это настоящий актер и настоящий передовой европейский интеллигент. Это «думающий» актер. В нашей стране его интересует все: главным образом новые взаимоотношения людей в социалистическом обществе, литература, театры, воспитание. Он задавал множество вопросов, и подчас сложных вопросов.
Через день мне пришлось пережить большое огорчение. Как я и боялась, репетиции с Моисси перенесли на сцену Экспериментального театра, а «Герцога» начали «прогонять» в костюмах и гриме.
На мои просьбы и уговоры Е. О. Любимов-Ланской отвечал, укоризненно качая головой: «Ну есть от чего расстраиваться! Очень вам нужна эта Саша, да еще в кое-как, наспех слаженных спектаклях. А отпустить вас нельзя, об этом не может быть и речи». Пришлось просить, чтобы меня заменили в «Живом трупе», и удовольствоваться ролью зрительницы.
Зато этой ролью я насладилась в полной мере, посещая спектакли Моисси. Вместе с Анатолием Васильевичем я смотрела «Гамлет», «Живой труп», «Привидения», «От ней все качества» и «Зеленый попугай».
В этих спектаклях все внимание сосредоточивалось на гастролере. В этом была и сила и слабость спектаклей. Правда, на афишах были фамилии режиссеров С. И. Ланского и Н. О. Волконского, играли с Моисси хорошие, опытные актеры, но «разноязычие» ощущалось во всем, не только в немецко-русской речи. Обставленная разностильной мебелью сцена, взятые из разных пьес костюмы, профессиональный, «крепкий», но не связанный с гастролером тон партнеров Моисси, – все это лишало спектакль цельности, законченности и моментами вызывало досаду. Но среди нагримированных лиц в париках, с наклеенными бородами особенно выделялся он – Гамлет, Федя, Освальд. Он – Человек, одинокий и страдающий.
Таким приняла Александра Моисси в его гастрольных ролях московская публика, таким он сохранился навсегда в моей памяти.
Труднее всего мне было принять Моисси в образе Феди Протасова – слишком свежим было еще впечатление от Феди – Москвина. Этот русский барин с широким носом и мягкими, расплывчатыми чертами лица, захотевший «загулять», сбросить оковы условностей, уйти от «приличной», «порядочной» семьи, – таким Протасовым был Москвин; Москвина – Федю Протасова, казалось, все видели, знали, встречали в повседневной жизни, и только недостаток чуткости, черствость души мешали понять трагедию этого самого обыкновенного с виду человека. Моисси – Протасова никто не мог принять, хотя бы ненадолго, за рядового, обычного человека. Это была мятущаяся душа, пришелец из иного мира. Моисси казался таким чистым, таким почти детски беспомощным, легко ранимым среди окружающих его эгоистичных и лицемерных обывателей. Его отношения с Машей были совсем непохожи на «роман» барина с цыганкой, для него Маша была воплощением таборной, свободной, то ликующей, то печальной песни.
Его Федя Протасов был существом, живущим своей особой духовной жизнью, и к тем, кто окружал его, от кого хотел уйти, он относился мягко и кротко, прощая все, хотя и не разделяя ни их волнений, ни их обывательской, ханжеской морали.
В московском спектакле это «существование в другом мире» подчеркивалось еще и разностью языков, создавало еще дополнительную черту обособленности Феди. Моисси удивительно умел «слушать» партнеров, он как бы впитывал в себя слова собеседника, и все же эти слова оставались чужими для Моисси – Протасова, его окружала как бы невидимая оболочка, и он был трагически одинок среди людей.
Поражало мастерство Моисси, его неповторимые руки, его виртуозная техника, но эта техника никогда не становилась самодовлеющей, она осознавалась зрителями только впоследствии, когда, анализируя спектакль, вспоминали те или иные сцены. В конце последнего акта Федю, смертельно раненного, поддерживают под руки, и вдруг перед зрителями возникает распятие. Человек чистый и самоотверженный, добровольно отдавший свою жизнь, распятый на кресте пошлости, а вокруг него выжженная, пустынная Голгофа – лживое и ничтожное общество. Таков был финал, итог этой драмы.
На Анатолия Васильевича самое сильное впечатление произвел «Гамлет».
Моисси никогда не гримировался, он не надевал париков, не признавал сложных театральных костюмов. Юношески гибкое, стройное, тренированное тело Моисси было обтянуто чем-то черным, вроде закрытого трико гимнаста, и только традиционный черный плащ датского принца романтически дополнял его фигуру, любой его жест. Высокий лоб мечтателя, поэта, этого, по словам Луначарского, «утонченного интеллигента», обрамленный волнистыми каштановыми волосами, огромные вопрошающие глаза и голос, который способен передать все: нежный шепот влюбленного и раскаты безудержного гнева. Сцена поединка с Лаэртом у Моисси была чудом виртуозной ловкости и пластичности и, как с огорчением отметил Анатолий Васильевич, подчеркнула отсутствие техники и беспомощность Лаэрта.
– Актеры, особенно такого театра, как Малый, должны владеть своим телом! Нужно заниматься фехтованием, танцами ежедневно всем актерам, невзирая на ранги. У нас почему-то принято считать, что движением занимаются актеры у Мейерхольда и Таирова, а остальные могут ходить вразвалку! Театр, ставящий классику, должен особенно работать над пластикой.
В этих словах Анатолия Васильевича звучала обида за любимый им Малый театр. «Ну, конечно, выдержать сравнение с Моисси – дело нелегкое».
Незабываема была сцена смерти Гамлета с эффектнейшим финалом, когда неподвижное тело Гамлета воины уносят на вытянутых руках и его плащ, ниспадая, тянется вслед траурной, черной лентой.
В «Привидениях» Ибсена мы увидели Освальда – Моисси, изящного, нежного юношу, обреченного и беспомощного. Как он тянется к жизни, как он хочет забыть о своей обреченности! Как много этот юный художник взял от Италии, от Парижа, какой он чужой здесь, среди холодных, скучных, чопорных северян, под хмурым северным небом. Как чужда ему фарисейская мораль пастора Мандерса, как пугает его мать, замкнувшаяся в своем справедливом гневе и страхе за будущее. Регина – корыстная, примитивная, но здоровая, жизнерадостная, и он стремится к ней в судорожном порыве.
Надо сказать, что по общей слаженности спектакль «Привидения» был благополучнее «Живого трупа» и «Гамлета», вероятно, благодаря своей камерности. Одна декорация, всего пять действующих лиц. В этом спектакле очень хорош был О. Н. Абдулов – плотник, отец Регины, тогда еще совсем молодой, начинающий актер. Темпераментной, яркой Региной была Е. Н. Гоголева, может быть, слишком благородно красивая для этой роли.
Сначала кажется, что в сумрачный дом фру Альвинг вступила молодость, весна – так беззаботно, беспечно смеясь и радуясь жизни, появляется в нем Освальд. На его оживленном, нервном лице еще чувствуется отблеск огней Монмартра, сияние прекрасного итальянского неба. И тем страшнее, тем трагичнее беспощадная правда, когда уже ничто не в силах скрыть ее.
Распад всего существа, распад физический и моральный… Развратный отец не только передал сыну тлетворную болезнь: по его вине Регина, казавшаяся Освальду лучом надежды, превращается в страшный призрак кровосмешения. Последний акт… Разум Освальда меркнет, полная безнадежность… и вдруг из большого венецианского окна, за которым все время виднелось только серое, мутное небо, моросящий дождь, выглянул луч солнца. Солнце, по которому так тосковал вернувшийся из южных стран юноша, солнце, которого так не хватало художнику для его творчества. И этот луч на мгновение осветил непроницаемый мрак, в который бесповоротно погрузилось его сознание, его душа. «Солнце, мама, солнце!» И он тянется к этому лучу, единственному, последнему в его жизни перед полным угасанием.
Вместе с «Зеленым попугаем» Моисси играл небольшую пьесу Толстого «От ней все качества», в которой он с блеском и теплотой исполнил роль талантливого и вместе с тем жалкого люмпена, отщепенца. Но ни России, ни Толстого, в этом, хотя и очень интересном, образе я не почувствовала.
Особняком в гастролях Моисси 1924 года был «Зеленый попугай» Артура Шницлера. В трех предыдущих спектаклях Моисси сам давал план своих мизансцен, так как ни «Гамлета», ни «Привидений», ни «Живого трупа» не было в репертуаре Малого театра, и их в кратчайший срок подготовили специально для гастролей Моисси.
«Зеленый попугай» шел в театре-студии имени Ф. И. Шаляпина в постановке А. Д. Дикого и имел большой успех. Анатолий Васильевич в свое время видел премьеру этого спектакля и остался очень доволен и молодым коллективом и работой Дикого. Здесь Моисси принял готовое режиссерское решение, мизансцены, трактовку и т. д.
Анри в «Зеленом попугае» он играл, как и всегда, без парика и грима, преображаясь только благодаря своей богатой мимике и яркой эмоциональности. В этом спектакле он показался мне Арлекином из комедии дель арте – такое змеино-гибкое у него было тело в сверкающем золотисто-красном наряде, столько дьявольского сарказма было во всем его существе, особенно в смехе.
Со своими партнерами, виднейшими актерами московских театров, Моисси встречался совсем запросто; его принимали без всякой официальной помпы, совершенно не стесняясь той бытовой неустроенности, которая царила в те годы. В «Кружке» (так назывался тогда клуб работников искусства), где был устроен прием в его честь, К. С. Станиславский приветствовал Моисси как большого художника сцены. Он сказал ему: «Вы наш» – и нежно его расцеловал. В гостях у товарищей по сцене Моисси спорил, пел, танцевал, читал монологи из своих любимых ролей, ухаживал за молодыми актрисами. Свою широкополую фетровую шляпу он заменил каракулевой шапкой, плотнее закутывал горло в мягкий вязаный шарф и не уставал в свободное от спектаклей и репетиций время бродить по заснеженным московским улицам и переулкам, знакомясь с достопримечательностями нашей столицы. Особенно увлекался он прогулками на маленьких извозчичьих санках с бубенчиками и лошадью под цветной сеткой.
Перед отъездом Моисси заехал к Анатолию Васильевичу домой с прощальным визитом. С искренним восхищением и благодарностью он говорил о нашем зрителе, о том, что уезжает окрыленный, и обещал скоро вернуться. Он сознался, что во время переговоров о своей поездке в Москву переживал много сомнений и колебаний, прежде чем согласиться на гастроли.
– Мне говорили, что в Советской России сейчас не до искусства, что там театр превращен в трибуну для политической агитации. Вздор! Я убедился, какой разнообразный, современный и классический репертуар в ваших старых, дореволюционных театрах – в Малом и Художественном, как они сберегли и своих мастеров и свой исполнительский стиль. А сколько создано новых театров! Каждый из них имеет свой собственный репертуар, свое лицо и свою публику. Ах, если бы не договоры, которые связывают меня по рукам и ногам, я бы охотно пожил в Советском Союзе, посмотрел музеи, картинные галереи, театры, встретился с молодежью, коллегами. Когда я вместе с Рейнгардтом приезжал в Россию до войны, мне пришлось меньше, чем в этот раз, встречаться с товарищами по искусству – ведь весь состав исполнителей «Эдипа» приехал из Берлина, русские участвовали только в массовых сценах, главным образом молодежь из студий. Теперь на репетициях я познакомился с товарищами по профессии: прекрасные актеры и настоящие «русские люди с открытым сердцем».
Моисси прибавил со свойственной ему задушевно-застенчивой улыбкой:
– Как хорошо, что во главе искусства и науки вы – талантливый ученый, обаятельный художник и человек!
– Во главе – партия! Она назначила меня на этот беспокойный пост. Во всяком случае, я рад, что вы так высоко оценили наши театры.
– И вашу публику! Еще раз благодарю, спасибо! («Благодарю» и «спасибо» он сказал по-русски.)
– До скорого свидания в Москве, – говорил Луначарский, провожая его до дверей.
Следующая встреча Луначарского с Моисси состоялась в конце октября 1925 года в Берлине.
Германское министерство просвещения и культуры совместно с профсоюзом работников искусств устроило большой прием в честь Анатолия Васильевича, с тщательно обдуманной и богатой программой концерта.
С чтением стихов Уланда и Гельдерлина выступил Александр Моисси. Не знаю, было ли это совпадением вкусов или Моисси сознательно выбрал двух немецких поэтов, творчеству которых, после Гёте, Луначарский в своих работах отдал наибольшее внимание.
Читал Моисси великолепно; как завороженная, слушала я музыку этого необыкновенного голоса. Недаром Анатолий Васильевич назвал его величайшим декламатором наших дней. Я взглянула на Анатолия Васильевича: у него на мгновение выступили слезы на глазах, что было признаком величайшего восхищения. Вообще Луначарский не склонен был к слезам, особенно к слезам, вызванным жалостью или огорчением; но слезы восторга я замечала у него не раз, и чтение Моисси вызвало у него именно такие слезы.
Когда мы покинули зрительный зал и сидели за столом с хозяевами этого приема, я обратила внимание на пустое кресло и лежащую перед ним на приборе карточку. Кто-то из знатных гостей, по-видимому, опаздывал. Но кто? Вдруг, встреченный аплодисментами, в комнату как вихрь влетел Моисси и направился к нам. Он задержался, так как решил после выступления переодеться: все присутствующие были в городских костюмах, об этом даже упоминалось в пригласительных билетах, и ему не захотелось выделяться во время ужина своим «фрачным» видом. Луначарский поднялся ему навстречу, и они троекратно, по-русски, облобызались. Прием, оказанный ему, как чтецу, в этот вечер такой избранной и взыскательной аудиторией, как-то особенно окрылил и взволновал Моисси. Он был радостно возбужден и с жадностью впитывал те похвалы, которыми искренне и щедро одарил его Луначарский.
– Только Качалов может соперничать с вашим богатством тембра, силой, выразительностью голоса. Я не знаю равных вам и Качалову ни у нас, ни в Западной Европе.
Лицо Моисси порозовело от удовольствия.
– О, г-н Луначарский, в самых смелых мечтах я не сравниваю себя с Качаловым. Это – идеал актера и человека.
Поскольку позволял общий разговор за столом, Моисси расспрашивал меня о Москве, об актерах, участвовавших в его гастролях, многих называл уменьшительными именами, искажая их только чуть-чуть. Он так много работал над Толстым, Достоевским, так любил Чехова, что привык и сроднился с русскими именами; чувствовалось, что ему доставляет особое удовольствие произносить: «Оля, Катя, Александр Иваныч».
На следующий день Моисси приехал в полпредство на Унтер ден Линден, где останавливался тогда Анатолий Васильевич. Мы сидели втроем в небольшой гостиной. Вчерашнее оживление Моисси как рукой сняло, он казался утомленным и озабоченным. Когда Анатолий Васильевич коснулся его вчерашнего успеха, он только устало махнул рукой.
– Да-да, аплодировали, вызывали… Самое ценное для меня, что мое исполнение доставило удовольствие вам. Но вот, взгляните. – Он вынул из кармана две бумажки, исписанные крупным, явно измененным почерком. – Вот два письма от «истинных германцев»: их оскорбило, видите ли, что я, иностранец по происхождению, осмеливаюсь исполнять «их» классиков! Как будто классики не являются достоянием всего мира. – Он прочел: «Вы – нахальный итальянец, албанец или левантиец, наплевать, кто именно, коверкаете, искажаете своим иностранным акцентом не только слова, но и самый дух великой немецкой поэзии! Недолго осталось вам воображать себя первым немецким актером! У немцев возрождается национальная гордость, и потомки тевтонов выбросят за дверь вас и вам подобных!»
Второе письмо было еще грубее и грязнее: в нем Моисси называли большевистским шпионом.
– Эти письма не подписаны? – спросил Луначарский.
– Конечно, нет.
– Зачем же вы их читаете? Вы вчера слышали аплодисменты всего зала, восторженные возгласы, публика не отпускала вас, пока не погасили люстры, а вы огорчаетесь из-за двух грязных анонимок! Ах, дорогой друг, если бы вы знали, сколько я получал подметных писем, особенно в 1917 и 1918 годах. Из-под многих подворотен меня облаивали охрипшие от злости белогвардейские шавки, но я не позволял себе раздражаться этим лаем. Да зачем оглядываться так далеко? Вот вчера на приеме берлинцы устроили мне, члену советского правительства, овацию, а сегодня один из монархических листков, редактор которого был у меня вместе с другими журналистами на пресс-конференции, вздыхает о том, что в блаженные времена, при кайзере Вильгельме II, полицайпрезидиум выслал Луначарского в двадцать четыре часа из Берлина, а вот теперь, в 1925 году, этого безбожника-большевика чествуют официальные лица.