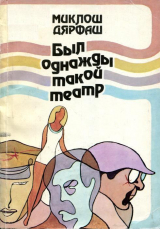
Текст книги "Был однажды такой театр (Повести)"
Автор книги: Миклош Дярфаш
Жанр:
Повесть
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 19 страниц)
После спектакля, кланяясь публике, никак не желавшей расходиться, Дюла вдруг почувствовал необыкновенную легкость, сродни той, которую он испытал, прыгая с моста в Тису. Вот и сейчас его вдруг потянуло прыгнуть в зрительный зал, в самую гущу аплодисментов, только на этот раз не из-за кого-то другого, а из-за самого себя. Он наклонился вперед, пристально вглядываясь в лица, и тут его пронизала острая боль. Сердце словно стиснули рукой. Ему пришлось вцепиться в занавес, чтобы не упасть. Зрители толпились у самой сцены, чуть не заглядывая ему в рот. В эту самую минуту он вдруг с необыкновенной ясностью почувствовал, что все это не имеет смысла. То, чего требовал от театра Тордаи, так или иначе недостижимо. Самые высокие цели не спасают от превращения в комедианта. «Ничего им не нужно, кроме мишуры», – подумал Дюла. Не было, не было смысла, и Шандор Йоо со своей апостольской бородой на месте отрезанного подбородка тоже показался ему смешным. Внезапно ему захотелось отпустить плотную ткань занавеса и рухнуть в разверзающуюся под ногами пропасть. Он попробовал разжать пальцы, но они помимо его воли снова вцепились в занавес. Та самая рука, которая секунду назад готова была подтолкнуть его к гибели, теперь как будто отдернула назад. Все это длилось не больше минуты, но за минуту торжество успело превратиться в страх. Под гром предназначенных ему аплодисментов он впервые испытал страх смерти. Неприятное чувство улетучилось, как только восстановилось дыхание. Он снова стал различать отдельные лица, за минуту перед тем слившиеся в аморфную массу. Аплодисменты гремели со всех сторон, сливаясь в монотонный гул, от которого дрожал воздух. Стоило звуку где-нибудь затихнуть, как тотчас же обнаруживались новые источники – Дюлу Торша опять и опять вызывали на сцену.
За кулисами его поджидали «свои». Актеры, директор, секретарь, двое-трое журналистов переминались с ноги на ногу и глядели на него с обожанием. На ходу отвечая на восторженные улыбки и рукопожатия, он прошел в свою уборную. Там уже сидел автор пьесы Ласло Акли.
Ласло Акли было около пятидесяти, он был сед, худощав и элегантен. Его легкие, развлекательные мюзиклы ставили во всем мире. Идеи Акли казались занятными, имели успех у публики. Даже маститые критики его признавали, правда, в этом признании был легкий оттенок иронии.
Дюлу Акли заметил на экзамене в театральном институте и тотчас же решил взять странного юношу под покровительство. На него подействовал голос молодого актера – в нем были горечь, высокомерие, мужественность, словом, что-то очень современное и в высшей степени притягательное. Акли давно чувствовал, что пора ему, знаменитому драматургу, открыть новый актерский талант. Моряка Франсуа он выдумал специально для Торша, во всяком случае, так ему казалось до самой премьеры. Однако во время спектакля ему пришлось убедиться, что получилось совсем не то, чего он ожидал, актер взбунтовался против пьесы, и успех полностью принадлежал ему. Поэтому Акли вышел кланяться только раз, после чего отправился пережидать овацию за кулисы.
Когда Дюла вошел в уборную и захлопнул дверь, отрезая дорогу бесчисленным поздравителям, Акли, будучи человеком далеко не глупым, уже твердо решил, что отныне ему шагу нельзя ступить без этого гениального актера, если он хочет по-прежнему иметь успех. Он встал Дюле навстречу и горячо обнял его.
– Друг мой! – воскликнул он. – Ты все сделал как надо. Если пьесу соберутся печатать, непременно исправлю все по твоему усмотрению. Я написал посредственную вещицу, а ты умудрился сделать из нее шедевр…
Дюла сел перед зеркалом и намазал лицо кремом. Он молчал, предоставляя автору болтать сколько влезет.
– Нынче вечером ты стал большим актером, – писатель щелкнул крышкой узенького золотого портсигара, – а завтра проснешься кумиром всего Пешта. По-видимому, людям больше не нужна чистая лирика, им нужно то, что делаешь ты. Ирония, грубоватый цинизм… Я затрудняюсь определить, что именно… Однако факт тот, что сегодня ты стал звездой первой величины. Затрудняюсь и затрудняюсь, черт с ним, в конце-то концов… есть в твоем голосе что-то совсем новое, а мой вот, напротив, в чем-то устарел. Я думаю, мне есть чему у тебя поучиться.
Каждое слово Акли свидетельствовало о том, что он предлагает молодому актеру свою дружбу. Открытие это поразило Дюлу и вызвало у него искреннее уважение. Дюла не обладал настоящим литературным вкусом, более того, в институте он не раз вынужден был признаваться самому себе, что не понимает, чем так уж хороши Шекспир или Мольер. Отдавая себе отчет в том, что пьесы вроде сегодняшней немногого стоят, он все-таки получал от них известное удовольствие. Теперь же, глядя в широкое зеркало и видя в нем писателя, не раз склонявшегося перед берлинской и лондонской публикой, он вдруг подумал, что тот и вправду в чем-то велик и достоин бессмертия. Быть может, дело в том, что он хорошо знает цену себе и своим возможностям.
Дюла стер с лица грим, растворенный кремом, потом склонился над раковиной и умылся до пояса. Акли тем временем накинул поверх фрака черное пальто из мягкой английской шерсти и небрежно повязал белоснежное шелковое кашне.
– Мне пора. Нужно прийти пораньше, проверить, все ли в порядке с банкетом. Ты будешь сидеть рядом со мной, сынок. – Акли успел прийти в себя, и в голосе его зазвучали привычные командирские нотки.
– Спасибо, мэтр…
– И давай не «выкать». С сегодняшнего дня можешь спокойно говорить мне «ты».
Дюла окунул лицо в воду, издав нечто среднее между словами благодарности и бульканьем.
– Значит, через полчаса в «Нью-Йорке».
Он похлопал Дюлу по плечу, потом напустил на себя солидность и вышел в коридор.
Дюла насухо вытерся полотенцем, проверил, не осталось ли краски у корней волос, и сердито потряс головой. Ему не нравилось то, что он сделал сегодня вечером, но делиться этим с Акли не было ни малейшего желания. Драматург вообще не вызывал у него доверия. Пожав плечами, Дюла улыбнулся собственному отражению.
«В общем-то, я всего лишь высмеял эту роль, – подумал он. – Выставил на посмешище сентиментального болвана по имени Франсуа. Это что, искусство? Вряд ли», – ответил он сам себе, состроив гримасу, и уселся в кресло, продолжая изучать свое отражение в зеркале. Вспомнив о том, как бесновалась публика, он фыркнул. Выходит, такой чепухи довольно, чтобы тебя признали великим актером? Он стал припоминать зрительный зал. Раскрасневшиеся лица молодых женщин, приоткрытые алые рты с ослепительно белыми зубами, гладко выбритые, исполненные одобрения лица мужчин, бледные лица старух в оправе из драгоценностей. Кокетливый смех девиц, сдержанные улыбки мужчин, пустые, бессмысленные взгляды, униженный восторг покоренных, а еще – умильные кивки торговок, довольных, что не зря потратили деньги. Зрительный зал. Дюле хотелось разобраться в самом себе. Этот вечер, вознесший его над другими людьми, оставил в душе неприятный осадок. Слишком просто было то, что произошло. Люди в зале отнеслись к его игре, как к трюкам воздушного гимнаста. Им-то небось казалось, что он просто играет, а не живет и не страдает на сцене. Ну а что, если так оно и было? Всего лишь холодный расчет? Может, ему просто захотелось поиздеваться над выспренностью этого несчастного Франсуа? Почему люди так щедры? Почему они так бездумно и беззаботно выбирают того, в ком надеются обрести исполнителя своих желаний? Он усмехнулся. Ведь у него сегодня есть все основания радоваться, а он не находит себе места. Нет, решительно он не в силах разобраться в самом себе. Дюла снова взглянул в зеркало и скорчил рожу.
Потом ему вдруг вспомнился Шандор Йоо. Точнее, то, старое, письмо – листок бумаги в линейку, исписанный жирными каракулями господина Шулека:
«…Вам, сэр Коржик, должно быть, известно, что господин Йоо как вернулся с фронта, так с тех пор и не просыхает, но таких дел еще не было. И ведь срам-то какой – все прямо в театре, ажно занавес пришлось опустить, а тот, который при занавесе стоял, не сразу понял, что да как, ну и схлопотал от дежурного полицейского в зубы. А дело было так: господин Йоо в тот раз Банк Бана [3] играл, ну, с бородой, понятное дело. Вот обнимает он королеву, а сам подходит вплотную к суфлерской будке. Ежели помните, сэр Коржик, он там должен сказать что-то навроде: не аплодируйте, мол, а то Банк Бан боится. А он вместо того подходит к рампе, а сам пьяный, лыка не вяжет, и давай орать: хватит, мол, мстить, хватит убивать революционеров, а заодно и всех подряд. Вы и представить себе не можете, что тут началось. Там повсюду офицеры сидели, ну, которые нас оккупировали. Спектакль-то в честь победы белых давали. А он стоит, орет, руками машет… Так и стоял, пока занавес не опустили».
Дюла отчетливо представлял себе, как в зрительном зале вспыхивает свет, как вскакивают в ложах хортисты и вытягиваются в струнку, ожидая приказа разрубить этого пьяного Банк Бана на куски. Внизу, в партере, смущенно перешептываются приглашенные на спектакль чиновники, новая городская власть. А Шандор Йоо все еще кричит там, наверху, на сцене. Отчаянный, рыдающий голос рвется сквозь тяжелый бархат занавеса…
Да, вот так… А ведь Шандор Йоо – настоящий артист, пожалуй, единственный из всех, кого он знает, не считая, разумеется, Тордаи; все остальные, по большому счету, – халтурщики. Как завидовал он в эту минуту несчастному Йоо!
Все эти мысли окончательно вымотали его. Он повесил матросский костюм на вешалку и оделся. Выйдя из уборной, он обнаружил, что театр опустел. Шаги гулко отдавались в пустынном коридоре. У распахнутой железной двери стоял пожарный. Он улыбнулся Дюле и сказал:
– А я вас поджидаю, господин артист. Только вы один и остались. Закрываться пора.
– Спасибо.
– Замечтались, должно быть?
– Да.
– Еще бы! Такой успех!
Пожарному было за шестьдесят, по нему сразу можно было сказать, что большую часть жизни он проработал в театре. Он напоминал скорее актера в костюме и гриме пожарного, нежели того, кому действительно приходилось тушить огонь.
Они пожали друг другу руки. Пожатие старика означало, что он доволен игрой господина Торша и готов зачислить его в разряд больших артистов, многие из которых дебютировали на его глазах. По лестнице они спускались молча, два человека, на сегодня покончивших с делами.
– Надо поторопиться, – пожарный взял Дюлу под руку, – а не то опоздаете на банкет…
– Да…
– Большой будет банкет?
– Да, наверное.
– Что ж, удачи вам, господин артист, – пожарный снова протянул ему руку. – Дай вам бог сыграть еще много славных ролей в нашем театре.
Швейцар, господин Брунхубер, поднес руку к фуражке, улыбаясь и кивая с добродушной снисходительностью большого знатока: порядок, мол, все прошло отлично.
Дюла вышел на улицу. У ворот его поджидала девушка по имени Ица, работавшая осветителем. В руке у нее было письмо.
– Господин артист, это вам от господина директора.
Письмо состояло всего из нескольких строк, написанных крупным, неровным почерком. Директор театра ставил Дюлу в известность, что намеревается заключить с ним контракт на пять лет, и просил дать ответ сегодня же, на банкете. Дюла сунул письмо в карман и протянул девушке руку.
– Спасибо.
– Не за что. Можно мне вас поздравить?
– Если вам кажется, что я это заслужил…
– Вы очень хорошо играли, – сказала девушка.
Дюла внимательно взглянул на нее. Взгляд был беспощадный, мужской. Девушка смутилась и опустила глаза. Ице было восемнадцать, она была полненькая и хорошенькая. В театр она устроилась два года назад, помощницей главного осветителя. Девушка оказалась ловкой, толковой и к тому же на удивление скромной. Она сторонилась всех актеров и декораторов, пытавшихся за ней приударить. Был, правда, один человек, утверждавший, что она не девица. Михай Гара, один из самых известных и ценимых актеров Пештского театра. Сей шестидесятилетний ловелас клялся, что переспал с ней, и добавлял, смеясь, что занялся растлением малолетних исключительно из любопытства: уж очень ему хотелось узнать, каковы в постели осветители. Когда он хвастался своим приключением, Дюла с трудом удерживался, чтобы не ударить его. Этот мерзкий тип был, кроме всего прочего, любимцем правительства, официальным актером номер один – отличный образчик венгерской нации, с головой бизона, вмещавшей ровно столько мыслей, сколько требовалось на данный момент.
– Знаете, о чем я думаю, Ица? – спросил Дюла.
Девушка взглянула на него робко и преданно.
– О чем?
– Я думаю, что сейчас мы с вами пойдем куда-нибудь ужинать.
– Ну зачем вы такое говорите, господин актер? Вас ведь на банкете ждут.
– Ну и черт с ними!
– Батюшки!
– Не охайте, Ица! Не пойду я на этот банкет.
Стоило ему выговорить эти слова, как горький привкус во рту исчез, точно по волшебству. Дюла как-то разом успокоился. Нет ему дела до тех, кто называет эту пакость искусством. Его прямо-таки пот прошиб при мысли о бесчисленных здравицах, которые ему предстояло бы выслушать нынче вечером. Сидел бы среди слащавых театральных лицемеров, среди шакалов, сбежавшихся на запах успеха, среди продажных журналистов и слушал бы, как его славят в качестве находки Ласло Акли.
Он взял девушку под руку.
– Пойдемте, Ица, так будет лучше, поужинаем вдвоем. Какое нам дело до всей этой шайки-лейки!
Девушка не могла понять, что нашло на актера, с которым она за все время пребывания в театре едва ли обменялась двумя-тремя словами. Прислонившись к стене, она быстро и настороженно взглянула на Дюлу и отстранилась.
– Что вам от меня нужно? – в голосе ее прозвучала тоска. Она явно ожидала подвоха.
– Не бойтесь, Ица. – Дюла почему-то почувствовал себя виноватым. – Мне бы очень хотелось, чтобы вы пошли со мной. А потом я проводил бы вас домой, к родителям.
– Почему вы не хотите идти на банкет? – спросила девушка, с трудом унимая дрожь.
– Потому что я их ненавижу.
– Не надо так шутить. Спокойной ночи…
Она повернулась и торопливо пошла прочь, словно спасаясь бегством. Дюла последовал за ней. Поравнявшись с девушкой, он снова взял ее под руку.
– Не оставляйте меня сегодня одного, Ица! Слышите? Не оставляйте меня одного!
Девушка поплотнее запахнула дешевое пальтецо и взглянула на него с совершенно детским испугом.
– Так вы правда не хотите туда идти?
– Ну конечно, правда. Сперва я хотел остаться один, но потом увидел вас у ворот и передумал.
– Я не одета… – девушка сопротивлялась из последних сил.
– Глупости… Не имеет значения.
Дюла махнул проезжавшему такси и помог девушке сесть. Ему хотелось оказаться как можно дальше от театра, и он назвал шоферу загородный ресторан.
– Что они скажут, когда увидят, что нет главного героя? – тревожилась девушка, все еще не до конца поверившая в то, что произошло.
– Разозлятся, должно быть, – Дюла рассмеялся.
– Это ведь и вправду большая обида.
– Возможно.
– Знаете, что я подумала… давайте поедем в Буду, вы тем временем немного проветритесь, потом вернемся по мосту Эржебет… и…
– Не говорите глупостей, Ица.
– Но я боюсь.
– Ну и бойтесь себе на здоровье. Это пройдет.
– Почему вы решили остаться со мной?
– Потому что хочу, чтобы вы рассказали мне о себе.
– Вас интересует моя жизнь? Что же вам рассказать?
– Расскажите о том, что привело вас в театр.
– Ничего особенного. У папы тут кое-какие связи. На завод меня не брали.
– Кто он, ваш отец?
– Носильщик.
– А теперь вы рады, что попали в театр?
– Нет.
– Почему?
– Из-за мужчин.
– Пристают?
– Да.
– Вас кто-нибудь обидел?
Глаза девушки наполнились слезами. Дюла сжал ее руку.
– Гара?
– Он сказал, что выкинет меня из театра, если я не…
– Старый негодяй.
– Это было так противно. Я думала утопиться, да родителей жалко стало.
Такси подъехало к ресторану. Стоял тихий октябрьский вечер. Теплый ветерок, долетевший откуда-то из ушедшего лета, казалось, удивлялся сухим осенним листьям. В воздухе стоял нежный запах опавшей листвы. Время как будто остановилось, не желая идти навстречу холодным дождям и ветрам. Мягкие, пушистые облака были похожи на одеяло, укутавшее мир. Дюла взял девушку за руку.
– Пойдемте ужинать.
Они вошли в ресторан и сели друг против друга за угловой столик. Дюла понятия не имел, как и чем следует развлекать девушку во время совместного ужина. Деньги завелись у него всего два месяца назад, когда усилиями Акли он попал в Пештский театр. С деньгами, кстати, в последнее время творились чудеса: они своенравно рядились во все новые и новые нули. Бутылка содовой, к примеру, стоила в этот вечер тысячу крон.
Дюла был очень голоден. Сперва он старался вести себя так, как, по его мнению, подобало большому артисту, а потому не столько ел, сколько ковырял бургундское жаркое, степенно поддевая вилкой крошечные кусочки. Ица старательно подражала его «великосветской» манере. Спектакль, впрочем, длился недолго. Дюлин желудок несколько лет безнадежно бунтовал против скудного столовского рациона – изумительный запах бургундского в винном соусе в конце концов взял свое, Дюла плюнул на правила хорошего тона, перестал «вкушать» и набросился на еду.
Увидев, что господин Торш вдруг утратил весь свой аристократизм, Ица тоже взялась за дело всерьез. Смущения как не бывало, оба весело и вдохновенно заказывали все подряд, словно двое уличных ребятишек, которым удалось проникнуть сквозь яркую витрину. От натянутости не осталось и следа. Они сидели друг против друга и наедались до отвала – молодые, веселые, здоровые. Должно быть, с такой же великолепной жадностью наедался по ночам за гладильной доской Дюлин отец. Как он завидовал тогда могуществу своего отца, имевшего возможность «питаться» не только в отведенное для еды время, но и тогда, когда весь город спал! Дюла размышлял об этом, поглощая одно за другим ресторанные блюда. Беззаботно заказывая все подряд и не думая при этом об экономии, он испытывал что-то похожее на торжество. Невзирая на всю его ненависть к «тому человеку», он получал особое удовольствие оттого, что в эти минуты уподоблялся ему.
Ужин обошелся в двести тысяч крон. Дюла молча выложил официанту несколько тысяч на чай. Общение с отпрысками господских семей, привыкшими к бирже и к золоту, а также с пожилыми сановниками, имеющими богатый опыт деловых операций, научило его не воспринимать деньги всерьез.
Оркестр наигрывал модную песенку «У моей малютки черная кожа», оркестранты скалили зубы, саксофонист в упоении вращал своим серебряным инструментом, за барабаном возвышался огромный негр, женщины на танцевальной площадке самозабвенно трясли коленками. Однорукий молодой человек попытался пройти по залу, прося подаяние, но косолапый метрдотель решительно вытолкал его. Какой-то хмельной воротила развлекал своих дам, сжигая над тарелкой десятитысячные купюры.
Отужинав, они вышли на улицу. У ресторана стояло много машин, в том числе и такси. Стало гораздо холоднее. Рассвет обещал быть морозным.
С горы спускались пешком, глядя вниз, на испещренную огоньками долину, обоим казалось, будто город весело подмигивал им. Дюла думал о том, что где-то внизу, среди этих огней, уже верстаются газеты, которые утром разнесут по городу весть о новой театральной сенсации. Вот сейчас, в этот самый момент, его имя печатается в десятках тысяч экземпляров. Он взглянул на девушку, шедшую рядом с ним по слабо освещенной дороге, и спросил:
– Странная все-таки штука – театр, не правда ли?
– Да.
– В такси вы сказали, что не любите его.
– Просто я… – она теснее прижалась к Дюле, словно ища у него защиты, – просто я не хотела, чтоб вы спрашивали дальше.
– Так, значит, вам там хорошо?
– Интересно.
– Кто вам нравится в театре?
– Не знаю.
– Вы теперь всех боитесь?
– Нет.
– Так все-таки – что хорошего в театре?
– То, что каждый день готовишься к спектаклю.
– Как актеры?
– По-другому. Но все равно готовишься.
– А вам хотелось бы стать актрисой?
Девушка не ответила.
– Почему вы молчите?
– Потому что… тот тоже меня об этом спрашивал. Окликнул, когда я стояла у прожектора…
– А вы не знали, что ответить.
– Я боялась, и потом…
– Что потом?
– Я хотела остаться в театре.
– Да, да, понятно.
– Если б это на заводе было… какой-нибудь там инженер или директор… я бы сразу ушла, даже если б отец меня за это побил. Меня ведь можно понять, правда, господин артист?
– А вы все еще зовете меня господином артистом?
– Я стесняюсь…
– А я, мне кажется, начинаю вас понимать. Ица. Ица Осветительница.
– Вы поняли?
– Да. Конечно, не до конца. Театр ведь нельзя понять до конца.
– Неужто даже вы не понимаете? Вы ведь театральный кончали?
Дюле вдруг страстно захотелось рассказать ей всю свою жизнь. Все подряд, начиная с того момента, когда кто-то из актеров впервые послал его за сигаретами. Он взял девушку под руку и привлек ее к себе. Ица нежно прильнула к актеру, положив голову ему на плечо. Она была уверена, что теперь последует то самое, но ей не хотелось сопротивляться. Дюла вызывал у нее безграничное доверие. Пусть будет так, как он хочет. Ну да, вот сейчас…
Они ступили на тропинку, ведущую к лесу. Девушка не сомневалась, что сейчас он обнимет ее за талию и уведет в чащу. Дюла угадал, что она чувствует себя жертвой, которой надлежит делать все, чего пожелает господин артист. Он повернул девушку лицом к себе.
– Ица, послушайте-ка меня!
– Пожалуйста.
– Вы очень хорошенькая, очень привлекательная девушка.
– Господи…
– В театре вас будут добиваться многие… Мне вы тоже нравитесь. Я бы солгал, если б сказал, что это не так.
– Да.
– Но я не трону вас, Осветительница Ица. Хотя знаю, что мне бы вы уступили. Я не могу вас обидеть, потому что…
«Потому что вы мне как сестра, – хотелось ему сказать. – Мы с вами очень похожи. Жизнь выкинула нас откуда-то, а театр принял в свое лоно».
Ему хотелось рассказать об отце, которого он так и не разучился бояться, о женщине в красном под деревом в театральном саду… Не проклинать отца, а просто описать его здоровенную фигуру, узкие монгольские глаза, презрительно сжатые губы и дурацкие устрашающие усы. Внезапно его охватило отчаяние: нечего было бежать из Надьвашархея, кончил бы там школу и стал налоговым инспектором. Сперва он был бы такой же, как сейчас, а потом – такой, как отец. Вашархейский налоговый инспектор. Вот что ему было нужно.
Все силы его души были направлены на то, чтобы поделиться с кем-нибудь тем, что его тревожило. Тогда, быть может, он нашел бы ответ… Девушка улыбалась безотчетной, застенчивой улыбкой, в глазах светилась робость, смешанная с любопытством, нежный детский рот приоткрылся. Взглянув на нее, Дюла понял, что не сможет ничего ей сказать. Ни с того ни с сего его охватил гнев. Отчаяние от собственной немоты превратилось в злобу, почему-то обернувшуюся против Ицы.
– Давайте спускаться вниз. У железной дороги есть стоянка такси.
Он снова взял Ицу под руку, на этот раз сурово, почти грубо, и резко ускорил шаги. Девушка заплакала.
– Чем я вас рассердила?
Дюла, не отвечая, вел ее вниз. Там они сели в такси и в полном молчании доехали до самых ворот желтого одноэтажного домишки в Обуде. Дюла помог девушке выйти из машины, поднес ее руку к губам и поцеловал на прощание долгим, виноватым поцелуем.
ГЛАВА 6
Женитьба
Давным-давно улеглось негодование, вызванное отсутствием Дюлы на торжественном банкете в честь премьеры. С тех пор все успели привыкнуть к странностям Дюлы Торша и научились считаться с ними.
Стояло теплое осеннее утро. Лучи солнца, с трудом прорываясь в щель между двумя пятиэтажными доходными домами, освещали скамейку у артистического подъезда и крошечный кусочек пространства вокруг нее. Дюла сидел, сложив руки на бамбуковой трости, и задумчиво смотрел прямо перед собой. Прохожие с любопытством оборачивались на знаменитого актера, не удостаивавшего их взглядом.
Дюлины мысли были заняты Ласло Акли. Только что он принес бешеный успех очередной, уже третьей по счету, его пьесе. Публика с некоторых пор не мыслила себе пьесы Акли без Торша. За моряком Франсуа последовал некий обаятельный аферист международного масштаба, обделывающий свои делишки в самых высоких сферах и непринужденно ворочающий миллионами. В последней, третьей, пьесе Дюле досталась роль донжуана из низов, полицейского под номером тринадцать, по которому сходят с ума самые разные женщины. В конце пьесы полицейский кончал жизнь самоубийством, дабы избавиться от страстных преследовательниц.
Акли довольно долго пробыл за границей, в Париже и во Флоренции. Он устраивал там свои дела, заключал контракты и одновременно сочинял пьесу для Торша. Он заваливал Дюлу письмами, в каждом из которых сообщалось, что нынешняя роль превзойдет все предыдущие.
Накануне писатель телеграфировал директору театра, что утром прибудет из Флоренции прямо в театр, чтобы прочитать новую пьесу начальству и Дюле Торшу. Потому-то модный молодой актер и сидел на лавочке перед театром, размышляя о том, какова будет новая пьеса, какими такими находками замаскирует Акли пустоту на этот раз.
Дюла прекрасно знал цену произведениям Акли и своему шумному, почти скандальному успеху и все же не искал лучших ролей и более сложных задач. Если бы Национальный театр предложил ему контракт, он наверняка отказался бы.
– Лгут и там, и здесь, – сказал он однажды, – только у них – на котурнах, а у нас – в башмаках из телячьей кожи.
Безответственное существование, игра вполсилы были ему по вкусу. Маски надуманных героев, казалось, нисколько его не стесняли. Отношения с Акли тоже складывались своеобразно. Их дружба начиналась со снисходительного интереса писателя, однако со временем ситуация полностью изменилась. Роль Торша возросла неизмеримо, теперь первую скрипку играл он. Публике его имя говорило куда больше, чем имя Акли. Постепенно стало яснее ясного, что успех драматурга полностью зависит от Дюлы Торша. Правда, Акли мог похвастаться европейской известностью… И все-таки всякому было понятно, что дерзкая игра Торша принесла Пештскому театру гораздо больше популярности, нежели сами пьесы Акли. О знаменитом актере ходили легенды. Особенно занимала публику необычайная замкнутость его натуры. Стоило ему появиться где-нибудь на окраине, как по городу тут же ползли слухи о том, что у Торша роман с какой-то работницей.
Актеры, не удивлявшиеся ничьим капризам и причудам, считали Дюлину замкнутость чем-то интересным, обличающим причастность к большому искусству. Они легко прощали ему самые невыносимые черты его характера. Женщин же особенно прельщала именно грубоватая мужественность, которой веяло от плотной фигуры двадцатидевятилетнего актера.
Дюла довольно быстро понял, что у актера не может быть по-настоящему личной жизни. На него постоянно устремлены сотни глаз. Нельзя сказать, чтобы это всеобщее внимание было ему неприятно. Игра доставляла ему удовольствие. И не только на сцене. Сам себе удивляясь, он радовался возможности оставаться актером в обыденной жизни. Ему нравились эффектные жесты и реплики.
В конце улицы показался Акли, похожий в своем рыжеватом французском пальто на элегантное воплощение осени. Следя за ним глазами, Торш окончательно решил в любом случае отказаться от роли, чего бы он там ни насочинял.
Он сдержал данное себе слово. Когда Акли кончил читать, Дюла оторвал подбородок от бамбуковой трости, пристукнул ею по паркету и произнес, растягивая слова:
– В этой поделке я играть не буду.
– Но почему? – спросил замордованный бесконечными заботами директор.
– Она настолько глупа, что даже мой непритязательный вкус против нее восстает.
Надо сказать, что Дюлина оценка, несмотря на заранее принятое решение, была абсолютно справедливой. Новая пьеса Акли называлась «Китайская ваза». Речь в ней шла о старинной китайской вазе, обладавшей странным свойством приносить несчастье даже самым счастливым семьям. В конце концов любящий муж убивал жену исключительно потому, что таково было роковое предначертание вазы. Неудивительно, что эта дикая чушь вывела Дюлу из себя.
Элегантный писатель на глазах превратился в статую скорби.
– Как прикажете вас понимать? – в голосе Акли прозвучала угроза.
– Очень просто. Разговор начистоту, – вздохнул Торш, неподвижно застывший на своем стуле.
– Ну так вот, всему есть предел… Ты, должно быть, забыл, чем мне обязан. Я заметил тебя, поддержал, именно мои… как ты изволил выразиться, «поделки» сделали тебя знаменитостью…
– Я презираю себя за это, – спокойно ответил актер и встал, собираясь покинуть директорский кабинет.
Директор вскочил, загородил ему дорогу, воздев руки неестественным, театральным жестом.
– Остановись! Ты не можешь так надуть театр! Существует, в конце концов, контракт! Подумай, что ты делаешь!
– Я подумал. В этой пьесе я играть не буду.
– Не надо торопиться, Дюла! Вот прочитаем еще раз пьесу, Лаци согласится кое-что подправить, подшлифовать твою роль, как ты скажешь… Правда, Лаци? – обратился он к европейской знаменитости.
– Ну да. Это совсем другое дело. В таком тоне я согласен разговаривать. – Акли закурил короткую египетскую сигарету.
Директор дружески подтолкнул его обратно к креслу. В знак примирения Акли позволил себе некое подобие улыбки.
– Вот так, господа, вот так… Главное – общий язык… Мы слушаем тебя, Дюла, скажи нам, чего бы ты хотел? Чего бы ты, как актер, хотел от Лаци?
– Чтобы он написал такую роль, в которой я мог бы оставаться живым человеком.
– То есть как – человеком?
– Человеком, и все. Я не могу объяснить по-другому.
– И все-таки – что бы тебе хотелось сыграть? – Директор изо всех сил старался его утихомирить.
– Ну, скажем…
– Да?
– Ну, скажем, живет человек в захолустье, в каком-нибудь заштатном городишке… И становится этот человек налоговым инспектором…
– А потом что?
– А потом ничего.
– Нет уж, благодарю покорно, увольте меня от таких «сенсаций»! – воскликнул директор. – Вернемся лучше к китайской вазе. Есть ли у тебя просьбы к Лаци в связи с этой пьесой?
– Есть.
– Ну?
– Чтобы он порвал ее и выбросил. Вот сейчас, на моих глазах, разорвал эту писанину на мелкие кусочки и выбросил в корзину для мусора.
Ответ поразил всех, и Дюлу – в том числе. Все это вышло как бы помимо его воли. Чем дольше он смотрел на своего «первооткрывателя», тем сильнее впадал в ярость.
Великий писатель, дрожащими руками запихав свое детище в зеленую кожаную папку, не столько сказал, сколько прошипел:
– Я думаю, господин артист глубоко ошибается, полагая, что без него премьера не состоится… Одного моего слова довольно, чтобы положить конец этому зазнайству… Как вытащил его, так и обратно запихну… в… – он надменно улыбнулся, словно готовясь отпустить необыкновенно удачную остроту, и указал на мусорную корзину, – туда, куда он хотел поместить мою пьесу.







