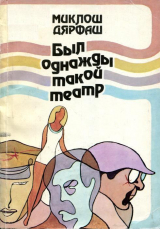
Текст книги "Был однажды такой театр (Повести)"
Автор книги: Миклош Дярфаш
Жанр:
Повесть
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 19 страниц)
И мы играем пьесу. По глазам Фери Ковача я вижу, что он мной доволен, каждая фраза идет великолепно, мои движения естественны и непринужденны, зал напряженно следит за мной с самого момента выхода на сцену. А мне тем временем всякие ужасы лезут в голову. Мне чудится Марика, отвечающая в школе урок.
Я слышу вопрос:
– Кого мы называем мамой?
– Мамой мы называем такой индивидуум, – отвечает Марика внятно и с выражением, – которого обманывает папа.
– Правильно, Марика. И как он ее обманывает?
– Методом, называемым «верность».
– Правильно. Скажи еще только, что обычно используют для обмана?
– Для обмана обычно используют тетенек, которых можно разделить на несколько групп, а именно на отечественных и зарубежных.
Мне нисколько не мешают накатывающие на меня волны бреда. Пока говорит Фери Ковач, в моем мозгу снова и снова прокручивается фильм, а когда идет мой текст, звук и изображение исчезают. Я знаю, что великолепна. На это я не рассчитывала.
Когда после первого действия закрылся занавес, в зале дружно раздались аплодисменты. «Раз, два, три», – считаю я. Сейчас я кланяюсь девятый раз.
Форбат прыгает за занавесом.
– Кати! Кати! Мне обеспечено великолепное имя!
Все хлынули на сцену – декораторы, осветители, пожарники, гримеры.
– Все кончилось благополучно, никто не пострадал!
– Браво! – кричит Коромпаи.
– Всего несколько царапин, – продолжает Форбат.
– Поздравляю, – совершенно неожиданно целует меня в губы бутафор дядя Колб.
– Фантастическая удача! – слышу я у себя за спиной.
Что это? О чем речь? Чего они хотят? Почему они меня теребят?
– Катика… – обнимает меня Дюри, – во время действия я сбегал в больницу… Ничего страшного, завтра уже все будет в порядке…
– А мы уже думали, что… – рвется вперед директор.
– Воздадим хвалу господу, – слышится с колосников.
Все смеются, услышав глас с небес, обнимают друг друга, кидаются ко мне, чуть не душат.
– Тихо! Спокойно! – кричит Дюри и поднимает руку. – Дайте я скажу ей наконец, ведь она, бедная, ничего не знает…
Мне дурно, вокруг меня колышется счастливая толпа.
– Катика, мы тут все были под впечатлением жуткой вести. В то время как я вез вас из дому в театр, пришло известие, что ваш муж попал в автомобильную катастрофу.
– Лаци! – взвизгиваю я, хотя знаю, что большой беды не может быть, ведь в последние минуты все только об этом и говорят.
– Для беспокойства нет никаких причин, я только что от него, в общем-то, ничего не случилось, трехсантиметровый порез на подбородке и две незначительные раны на правой руке. Завтра он уже может выписываться.
Я вцепляюсь в плечи Дюри. Он продолжает:
– Думая, что он в тяжелом состоянии, мы хотели скрыть от вас до конца третьего действия… Но сейчас вы уже можете спокойно играть дальше, с Лаци не случилось ничего страшного, впрочем, вот и его собственноручное послание.
Я выхватываю у Дюри из рук записку. Действительно почерк Лаци. Буквы такие же, как всегда, никаких искажений, в почерке не чувствуется никакой неуверенности. «Не сердись за этот небольшой несчастный случай, душой я с тобою и уже завтра вечером буду аплодировать тебе, моя единственная». Я знаю, что выгляжу идиоткой, но на глазах у заполненной народом сцены я целую письмо Лаци.
– Прочтите! – гремит голос колосников.
Я читаю письмо вслух. Все аплодируют.
2
Дюри обнимает меня за талию, и мы идем в уборную. Так вот почему все были такими мрачными, смущенными и торжественными, а я-то думала, что они во мне не уверены… Я пью свой лимонад.
– С Лаци действительно все в порядке?
– Абсолютно.
– А как это случилось?
– Он врезался в военный грузовик. Машина, как сказал Лаци, сплющилась, как цветок в гербарии, и перешла в область воспоминаний, а он оказался гораздо долговечнее машины.
Дюри не закрывает дверь уборной. Один за другим входят счастливые работники театра. Каждый говорит что-нибудь приятное или по крайней мере, проходя, кивает в дверь. На мгновение я вижу и скалящуюся физиономию Хаппера, ростовщика. Сейчас он одолжил бы мне хоть сто тысяч, да еще не под двадцать процентов, а всего лишь под пять.
Входит Утенок, то бишь художественный секретарь театра, и сообщает, что в буфете важничающие сплетники и прочие «свои люди» сообщили ему о счастливом исходе катастрофы. Сейчас уже вся публика знает.
– Грандиозный успех!
– Что? Что Лаци избежал опасности в катастрофе? – спрашиваю я раскрепощенно.
Всех просто распирает от счастья.
Я переодеваюсь за ширмой. Когда я стою в комбинации и провожу рукой по талии, мне приходит в голову новелла Дюри. Он сидит там, по другую сторону ширмы. Может быть, и он думает о том же. Но на этой ширме нет дыр и нет златокрылой птицы. Какая чепуха лезет мне в голову!
Звенит звонок. В репродукторе проскрипел голос выпускающего. Второе действие.
Дюри снова провожает меня на сцену. Сейчас я чувствую то же, что и после обеда, когда лежала навзничь на ковре. Я бесшумно несусь по воздуху, я девочка, надо мной небо, тонкое облачко берет меня за руку.
– Интересно, почему не пришла Жаклин? – спрашиваю я вдруг, вырывая руку из нежного пожатия Дюри.
– Жаклин? – удивляется он. – Она тоже в больнице. Только этажом ниже, в женском отделении.
– Ужасно…
– Никаких волнений. Она тоже благополучно отделалась небольшими ушибами и порезом на локте.
– Значит, они были вместе?
– Конечно, они ехали сюда, в театр.
– Мы сможем к ним заехать, когда кончится спектакль? – спросила я, почувствовав угрызения совести, что только сейчас вспомнила о Жаклин.
– Ночью посетителей в больницу не пускают.
– Тогда я до утра буду сидеть перед больницей.
– Я с вами.
– Правда?
– Правда.
– Рано утром принесем им цветы. Лаци и Жаклин.
– Если и дальше успех будет таким же.
– Все будет в порядке, руку даю на отсечение.
Он целует мне руку, я выхожу на сцену, сажусь на маленький круглый столик: так начинается второе действие.
3
Пока я играю роль, которая по настроению становится все серьезнее, в драматических думах стоящей на пороге одиночества молодой женщины я пробую как следует, поглубже спрятать нахлынувшее на меня счастье. Меня мучают угрызения совести.
Глупость, которую Дюри так поэтично превозносил сегодня утром, сейчас восторжествовала во мне самым заурядным образом. Своим коротким умишком я обвинила Лаци, до которого не могу подняться, и подвергла сомнению ангельскую чистоту дорогой маленькой Жаклин. О, какая же я заурядная! Летний дом на Надьковачском шоссе? Парижское приключение? Как стыдно!
– Жизнь предоставляет нам множество возможностей проявить нашу глупость, – говорит в это мгновение актер, исполняющий роль моего отца; и я чувствую, что, к сожалению, принадлежу к числу тех, кто не пропустил ни единой такой возможности.
По роли я наклоняю голову и молчу. Я думаю о том, как же я умудрилась измыслить эту гадкую историю о Лаци и Жаклин. У кого нет художественной фантазии, у тех, очевидно, есть только хитрость. Хитрость – образ мышления дураков. Да, теперь наконец я нашла разгадку моей жизни и безжалостно смотрю себе в глаза.
Безошибочно, с совершенной уверенностью я играю мою роль и начинаю понимать, что ничего не смыслила в жизни, искусстве, обществе, у меня хватает ума только на то, чтобы порочить моего Лаци, который само совершенство. Но отныне я стану другой. Я хочу быть достойной Ференца Ракоци II. Я выучу французский и прочитаю Сен-Симона. Сейчас я хорошо играю, но почему я играю хорошо? Потому что Дюри безошибочно выписал Анну, мою героиню. Каждая фраза настолько отточенна, что и простое чтение было бы эффектным. К тому же автокатастрофа с Лаци вызвала ко мне симпатию зрительного зала, это ему хлопали, это его чествовали, когда аплодировали мне.
Сегодня утром, гуляя по берегу Дуная, после утешений Дюри я уже склонялась к тому, чтобы воспринимать мою глупость как достоинство. Я бы даже сказала – дар, который дает право своему владельцу не верить в жизненные ценности, добытые великими трудами. Прости меня, Лацика, прости, Жаклин!
Вот что крутится у меня в мозгу, вот что говорю я про себя, когда после второго действия стою перед занавесом рядом с режиссером. Мы даже не считаем вызовы. Публика щедра и неутомима.
4
Без пяти девять. Я плачу. Ничего не могу с собой поделать, пусть хоть какими будут у меня глаза в третьем действии, я плачу от радости.
Я благодарна всему свету: Лаци за ту ночь, когда он разучивал со мною Джульетту, Жаклин за рисунки разноцветными мелками, Марике за то, что она сейчас фантазирует обо мне, тете Палади за то, что имела возможность стать львицей, продавщицам за туфли, Клари Зимони за то, что сейчас, после второго действия, она снова, как и после генералки, проиграла свое поздравление, это свое «Чтоб все мужики сдохли», тому крохотному желтому солнечному пятнышку за то, что утром оно опустилось мне на плечо, и… кому же еще я благодарна? Смотрите-ка, о Дюри забыла.
Я уже готова снова расстроиться, но тут торжественным шагом приближается директор с транзистором в руках.
– Я позвонил на радио, – гремит он, – они говорят, в девятичасовых новостях дадут официальное сообщение об автокатастрофе, в которую попал Лаци. Все случилось так, как говорит Дюри. Завтра Лаци выпишут из больницы.
Девять часов. Он включает радио. Новости. Визит в Вашингтон. Прибытие в Москву. Совещание в Африке. По стране. Слушаем не шелохнувшись. Сообщение Госплана. Премия кинокритиков. Сегодня вечером Ласло Мереи, лауреат премии Кошута, актер Большого театра…
– Вот оно!
Все наклоняются ближе к радио.
– …и находящаяся у нас в стране французская актриса Жаклин Норе на машине с номерным знаком «СХ 59-63» столкнулись с военным грузовиком. В столкновении, вследствие стечения счастливых обстоятельств, никто не пострадал, Жаклин Норе и Ласло Мереи получили несколько незначительных, мелких ранений и завтра оба смогут покинуть больницу «Скорой помощи». Несчастный случай произошел в пригороде Будапешта на Надьковачском шоссе.
5
И вот я снова стою на сцене. Играю третье действие. Я не сдаюсь. Я должна победить. И если не смогу иначе превозмочь головокружение, то все же обращусь к тебе, единственная моя помощница, моя глупость.
Я вовсе не обязана душевно сломиться. Да, можно быть настолько глупой, что и после такого верить тому, кого любишь. Надьковачское шоссе? Это еще ни о чем не говорит. Ни о чем не говорит. Это, может быть, и случайность.
Я доигрываю действие до конца. Ко мне возвращаются силы. Я уверена в каждом своем движении. Все идет великолепно.
Без десяти десять. Последний монолог. Я обращаюсь к своему мужу по пьесе. Я держусь просто, мой голос свободен от какого бы то ни было сценического пафоса.
– Во все времена нам надо было быть сильнее мужчин. Мы женщины, в отличие от реалистов мужчин, в сущности, ирреальны. У мужчин и тело, и сила, и чувственная жизнь явны, реальны. А нам, женщинам, при наших невероятно хрупких, тонких физических данных нужно нести все тяготы жизни, но так, чтобы из нашей усталости и наших страданий тоже рождалась красота. В этом наша ирреальность и наша поэзия.
Я произношу последнюю фразу. Занавес закрывается, и в грохоте аплодисментов, держа за руку автора, я иду к рампе.
БЫЛ ОДНАЖДЫ ТАКОЙ ТЕАТР

Volt egyszer egy színház
Перевод Ю. Гусева
ПЕРВЫЕ МИНУТЫ
Солдат сделал жест, подзывая меня, и ткнул пальцем в сторону букинистической лавки. Я сказал Вере:
– Иди пока домой, я скоро буду.
Под продырявленной пулями вывеской зиял дверной проем с одной уцелевшей створкой. Кинув взгляд на усыпанный обломками проспект Императора Вильгельма, я спокойно шагнул в полумрак.
Торговое помещение лавки было немногим больше обычной жилой комнаты. Многие книги, свалившись со стеллажей, валялись, раскрытые, на полу; прилавок, словно поставленный на колени, печально глядел на меня снизу вверх; за обломками разбитой вдребезги кассы, невредимый, стоял одинокий стул.
Возле задней стены, на фолиантах, сложенных в стопки, сидели шесть человек разного возраста, в штатской одежде. Все шестеро были в тяжелых солдатских ботинках. Я взглянул себе на ноги. Ну да, вчера вечером я тоже сменил на такие вот башмаки свои черные полуботинки. Их выпросил у меня один дезертир: ему лишь обувь была нужна, чтобы выглядеть вполне штатским.
«Получается, в плен меня взяли», – подумал я.
Шестеро в башмаках углубленно беседовали, сидя на книгах:
– Война – это война. Кто хитрей, тот и прав.
– Опять немцы вместо себя нас подставили.
– А что немцы? Немцы тут ни при чем. Им сейчас тоже устроили веселую жизнь.
– Ничего не известно еще, господа. Говорят, возле Папы они применили искусственный мороз.
– Это что?
– Какое-то новое оружие.
– Знаете куда его засуньте себе, это оружие!
– Ну-ну.
– А что такое?
– Да нет, ничего…
– Где, спрашиваю я, Красный Крест?
– Зачем вам Красный Крест?
– Просто спрашиваю, где он.
– Вы скажите зачем?
– Хочу знать, долго ли можно держать человека в плену.
– Это от разных причин зависит.
– От каких, например?
– Ну, от мирного договора. Каждая воюющая сторона заключает с другими договор о мире, а пока его нет, ваше дело хана.
– Не спешите, господа, не спешите. Я же вам говорю, возле Папы…
– Идите вы с вашей Папой. В прошлой войне солдаты по пять лет, по десять оттрубили в Сибири.
– Слушайте, бросьте вы это! Нечего зря людей пугать.
– Пугать? Очень надо…
Я подумал, как-то неловко стоять в стороне, будто я не в таком же положении, как они. Кроме того, я ощущал настоятельную необходимость просветить их по некоторым вопросам войны и мира.
– Добрый день, господа, – шагнул я ближе.
Они не ответили, задумчиво глядя в пространство.
– Мне по нужде надо, – сказал неожиданно один из пяти и, поднявшись, направился в сводчатый коридорчик, ведущий куда-то в заднее помещение. Минуту спустя человек этот, неспособный сдержать свои естественные потребности, появился в проходе и молча, но энергично замахал остальным: мол, давайте сюда. Пятеро тут же двинулись следом за ним.
Я постоял, разглядывая использованные для сидения тома энциклопедий «Паллада» и Реваи.
«Видно, клозет там какой-то невероятный, коли они даже не спешат возвращаться», – размышлял я; но время шло и шло, и я забеспокоился.
Стоило сделать несколько шагов, как мне открылась тайна их исчезновения. Сводчатый коридорчик уводил вправо; видимо, прежде там находился склад. А в стене склада светилась дыра в метр шириной, и через нее виднелись развалины на заднем дворе дома.
«Сбежали, значит», – констатировал я про себя, стоя возле огромной, похожей на зевающий рот дыры; потом вернулся назад, решив каким-нибудь образом объяснить стоящему возле лавки солдату, что помещение это никак не подходит для содержания военнопленных.
Я крикнул, солдат вошел и, когда я подвел его к дыре, непонимающе уставился на меня. По всей вероятности, он никак не мог понять, почему я не смылся вместе с другими. Ни слова не зная на языке Чехова, я не пытался пускаться в объяснения. Но, владей я русским совершенно свободно, все равно не уверен, что он понял бы мое душевное состояние. Дело в том, что я вовсе не ощущал себя пленным. Мы с солдатом стояли возле дыры и смотрели друг на друга. Что теперь?.. Спустя какое-то время он потыкал меня автоматом в грудь, словно желая узнать, кто я, черт побери, такой. «Театер», – сказал я, порывшись в накопленном за двадцать девять прожитых лет словарном запасе.
Пожав плечами, он отвел меня на другую сторону улицы, в посудную лавку, где среди раздавленных фарфоровых чашек, тарелок, стеклянных блюд топталось человек двадцать. Было раннее утро 18 января 1945 года. Из-за туч порой проглядывало солнце.
ВСЕГДА НА СЦЕНЕ
Конечно, солдату я должен был бы сказать другое. «Не есть солдат», – должен был бы я твердить, тыча себя пальцем в грудь. «Не есть мои башмаки», – должен был бы я показывать на свои ноги. И вообще, почему я, положив руку на сердце, не сказал проникновенно: «Я есть коммунист»?
Я был слишком горд, чтобы сделать это. И слишком счастлив.
«Театер»… Я наслаждался своей новой ролью, наслаждался происшедшей ошибкой: я, ни разу за всю войну не взявший в руки оружие, уклонившийся от выполнения долга, навязанного мне обществом, попал, благодаря солдатским ботинкам, в положение настоящего военнопленного, схваченного на улице.
Когда мне было всего пять лет, отец, стоя после спектакля на сцене, обнимал бутафорское дерево и плакал; прямо оттуда его увезли в больницу. Это был изумительный сценический эпизод. Я не ревел, не переживал и на похоронах отца. Я их воспринимал как спектакль. Какая эффектная роль – лежать в гробу, потом вознестись на небо и играть уже там, в небесах! Я и к Вере, увидев ее в вагоне подземки, подошел с чисто театральной дерзостью и с места в карьер спросил, не согласится ли она стать моей женой. Она сначала решила, что я сумасшедший, а я всего лишь сочинял на ходу свою жизнь, свою роль, куда и вставил эту эффектную сцену с нашей случайной встречей в старом вагоне подземки. В Веру, надо сказать, я влюбился в тот же момент. Много ли мне было нужно для этого, с моими постоянно готовыми к прыжку, к взрыву чувствами, с жаждой быть в центре внимания, покорять сердца окружающих…
С такой же готовностью я погрузился в комизм ситуации, предуготованной мне историей, считая, что через час-другой недоразумение будет исправлено и мы с каким-нибудь компетентным начальником от души посмеемся над тем, что едва не случилось.
ОФИЦЕР
В посудной лавке я встретился с будущей примадонной моей труппы, капитаном Кубини. В тот момент, конечно, ни у него, ни у меня и в мыслях не было, что спустя несколько месяцев он будет играть в лагерном театре заглавную роль в оперетте «Дочь колдуна».
– Красивый, должно быть, был чайник, тот, на котором вы стоите, – сказал он, показав на осколок фарфора у меня под ногами.
– Да, красивый, – немного смутившись, сказал я, отступая назад.
– Херенд[6], тысяча девятьсот тридцать пятый год, – сказал он, подняв с пола и осмотрев обломок.
– Как вы это узнали? – спросил я удивленно.
– Вот здесь метка. Герб Венгрии. А под ним: Herend, Hungary. Это – фирменный знак завода с тысяча девятьсот тридцать пятого года.
– Вы что, специалист по фарфору?
– Нет. Я офицер.
Мы представились друг другу.
– Вам, наверное, очень не по себе среди этих осколков, – нерешительно сказал я, – если фарфор так близок вашему сердцу. Я тоже странно чувствую себя здесь, хотя совсем в этом искусстве не разбираюсь.
– Вижу, на фронте вам не приходилось бывать, – смерил он меня взглядом.
– Нет. Как вы догадались?
– Душа у вас девственно штатская. Вот, страдаете из-за фарфора… Ничего, что я так, без обиняков?
– Ничего. Я даже горжусь, что во мне так мало солдатского.
– А я люблю свою профессию. Я – военный по убеждению. С детства верил и сейчас верю в то, что это прекрасное призвание для мужчины.
– Тогда почему вы в штатском?
– Потому что не присягал Салаши. Я снял униформу, чтобы не позорить ее. А на улице, когда русский патруль проверял у меня документы, сказал, что я капитан и полтора года воевал против них. Я хорошо говорю по-русски.
– Уместна ли такая правдивость?
– Уместна. Вам этого не понять, потому что вы – штатский.
– А вы подумали… подумали о последствиях?
– Разумеется, и заранее готов к ним, – холодновато и твердо взглянул он на меня.
Под ногами у нас скрежетали осколки фарфора.
ЛЕЙТЕНАНТ ГАМИЛЬТОН
Длинной колонной, по пятеро в ряд, мы шагали по тракту. Я не понимал, что происходит, видел только, что превратился в частицу человеческого потока, который медленно, неуклюже, то и дело останавливаясь и сбиваясь в толпу, движется под холодным небом вперед, в неизвестность.
Справа от меня шел Калман Мангер, инженер-строитель, вместе с которым еще недавно мы носили продукты на чердак одного дома, защищенного охранной грамотой швейцарского посольства. Судьба вновь нас столкнула нос к носу где-то возле Восточного вокзала, и мы, чтобы не потеряться в людском потоке, взялись под руки.
Мангер был немного подавлен; он вообще не любил ходить пешком и презирал все, что ему казалось ненужным: речи политиков, и войну, и вот это январское шествие. Но комизм ситуации, в которую мы попали, он все же чувствовал и потому время от времени громко смеялся.
– А жена твоя как? – спросил я его, когда его локоть чуть-чуть отогрел мне душу.
– Кати сейчас у родителей, в Буде. Не успела вернуться в Пешт. Или не захотела. Не знаю.
– Не говори ерунду. Она тебя очень любит.
– Ну и что?
По дороге навстречу нам шли беженцы, толкая свои тележки с пожитками. Они двигались в сторону Пешта.
– Если ты выйдешь из шеренги и быстро пристроишься к беженцам, никто не заметит. К вечеру будешь в Пеште, – сказал я ему на ухо.
– Не хочу.
– Почему?
– А ты?
– Я подожду. Где-нибудь захотят же установить личность. Через день-два так и так буду дома, – ответил я.
– Вот, а я – никогда.
– Брось это, Калман… А уж если у тебя на душе такое, то поскорее выбирайся отсюда. Вот появится следующая группа с тележками…
– Нет.
– А если вместе со мной?
– Все равно не хочу. Судьба занесла меня сюда, пусть она и дальше мною распоряжается.
– Оставь ты эти шаманские штуки. Даю слово, домой мы вернемся вместе.
– Спасибо.
– И вы будете с Кати счастливы.
– Дурачина ты, братец… Ну да ладно, валяй говори, я тебя слушаю с удовольствием.
На премьере «Дочери колдуна» он играл англичанина, морского офицера в белом кителе. Лейтенанта Гамильтона.
ШЛЕПАНЦЫ
На ночь нас поместили в спортзал провинциальной гимназии. Те, кто успел захватить маты, сразу устроили себе что-то вроде отдельного номера; там было относительно мягко, и места на них продавали за деньги. Некоторую возможность отделиться от массы давали смелым экспериментаторам разборные гимнастические снаряды; особенно высоко ценились детали, обитые кожей. Те из пленных, у кого оказалось больше фантазии, вскарабкались по шведской стенке и устроились наверху, на подоконниках. Каждый такой подоконник мог предоставить царское ложе четырем находчивым смельчакам.
Мы с Мангером нашли себе сносное место в дальнем углу, у стены. Он постелил на пол пальто, мы легли и накрылись, как одеялом, моей шубой. О гимназии этой ходили разные слухи. Одни говорили, что она лишь перевалочный пункт; другие считали, что здесь будут выяснять наши личности; третьи клялись, что с утра начнется набор в добровольческие отряды против немцев. Кто-то уверен был, что в гимназии собрано тысяч десять военнопленных; с ним спорили: какое там десять, все двадцать.
Какой-то ефрейтор убеждал соседей, что среди нас скрываются нилашистские предводители; молодой гонвед с красной лентой на шапке разыскивал соратников-партизан; мужчины из трудовых отрядов расспрашивали, где тут какой-нибудь штаб или центр. Русские в коридорах раздавали еду, и многие пленные, держа котелки с фасолью, бродили, ища себе место в роящейся человеческой массе.
Начинался денежный кругооборот, складывались цены на хлеб и на сахар; прошел слух, что некая предприимчивая компания выкрала из гимназической часовни облатки для причащения и, разделив их на несколько сотен порций, основала банк. Жизнь кипела ключом; прямо над нами какие-то проворные молодцы сняли со стен стеклянные колпаки от ламп и тут же продали их состоятельным людям как удобную, легко моющуюся посуду. На брусьях устроился седобородый мародер; держа на коленях рюкзак, он резал на кубики шоколадную массу и кричал пронзительно: «Шокола-ад! Будешь жизни рад, покупай шокола-ад!» Лежа на спине, мы с Мангером глазели по сторонам; чтобы дать ногам отдохнуть, я даже снял свои злосчастные башмаки и поставил их, как пограничный знак, на пол возле ног; Мангер затолкал в шляпу варежки и подложил шляпу под голову. Не обращая внимания на неспешный ток событий и на пролетающие время от времени слухи, мы валялись в тепле и неге на серо-зеленом пальто; свет из окон все таял, воздух в зале делался все тяжелее, и в какой-то момент, не успев пожелать друг другу спокойной ночи, мы незаметно провалились в ватную тишину.
Мне снилась Вера. Она сидела на брусьях, на месте старого мародера, и кормила меня шоколадом, я же, затянутый в белое трико, показывал ей подъем разгибом, следя, чтобы ей хорошо видны были мои бицепсы.
Утром мы проснулись от криков; русины-переводчики выгоняли всех строиться: во дворе гимназии будет распределение по отрядам. Люди торопливо слезали по шведской стенке с подоконников, толпились возле двери, просачиваясь наружу.
– Калман! – ухватил я за руку инженера и потянул его обратно. – У меня ботинки украли!
– Господи боже, что ж теперь будет?
– Не знаю.
– Не босым же тебе оставаться.
– Носки у меня довольно толстые, – с отчаянием простонал я.
– Не валяй дурака. Надо где-то найти другие ботинки.
– Надо. А где?
– Не знаю, но… я без обуви никуда тебя не пущу.
Он был, кажется, огорчен даже больше, чем я.
– Ботинки! Сограждане, у кого есть пара лишних ботинок? – закричал он, обращаясь к толпе.
Голос его потонул в общем гаме. Мангер схватился за голову и без малейшего результата еще несколько раз повторил свой вопрос. Нас вынесло в коридор, потом дальше, во двор гимназии.
Я не отпускал рукав Мангера, и каждый раз, когда меня от него оттесняли, он вытаскивал меня из толкучки. Потом мы стояли, скучившись на заснеженном пространстве двора, я, поджимая пальцы, прыгал с ноги на ногу в своих дырявых носках; сзади кто-то спросил:
– Молодой человек, вас сюда что, в носках доставили?
Я не ответил.
– Говорят, некоторых прямо в пижаме брали. Время – деньги; война, не война, а я думаю, это истина все равно справедлива.
– Плевать я хотел, что вы там думаете! – огрызнулся я, оборачиваясь назад.
– Эй, молодой человек, мне лицо ваше очень знакомо. – Говоривший взял меня за плечо. – Не из актерской семьи?
– Из актерской…
Незнакомец вытащил из заплечного мешка пляжные шлепанцы на деревянной подошве.
– Вот, берите, молодой человек, пока ноги не обморозили. Когда-то вы у меня на коленях сиживали. Мы с вашим отцом и матерью были в одной труппе. Разрешите представиться: Андор Белезнаи, хара́ктерный актер… Мне в зале еще показалось: человек какой-то знакомый… у вас взгляд всегда такой удивленный был.
Я быстро сунул ноги в шлепанцы и обернулся. На меня смотрел человек с длинным лицом, острым носом, морщинистой кожей, желтыми зубами и блестящими черными глазами. Ему я доверю в лагерном театре роль Бао-Бао-Бао, великого вождя, колдуна. Труппа постепенно собиралась.
ИСПОЛНИТЕЛИ
С остальными судьба свела нас в вагоне. Трое из них выхаживали меня в углу теплушки, в непосредственной близости от четырехугольной дыры в полу, служившей военнопленным нужником. Это были капитан Кубини, Калман Мангер и Андор Белезнаи. Собственно говоря, я уже выздоравливал; воспаление легких я перенес в гимназии, лежа тихо и незаметно в физическом кабинете, который служил мне пристанищем целых шесть недель после временного пребывания в спортзале. О том, что я болен, знали только мы вчетвером; по ночам Мангер, тайно от всех, обматывал меня половинкой намоченного в воде национального флага, и с этим огромным компрессом я спал до утра; пускай вышитый герб давил немного на ребра – все же стяг родины сильно помог мне в преодолении хвори. Капитан Кубини пожертвовал ради меня своей авторучкой и четырьмя сигарами; на бирже, что каждое утро роилась вокруг сортира, он обменял свои сокровища на два кусочка облатки, за один из которых сумел купить у кого-то двенадцать таблеток ультрасептила. И тем самым заложил прочный фундамент моему быстрому выздоровлению.
У Белезнаи нашлось семьдесят кусочков сахара; по два кусочка он каждый день выдавал мне на питание.
Так что в вагоне лечение мое состояло лишь в том, что, сидя, я опирался на сильную спину Кубини, Белезнаи загораживал от меня оправлявших нужду у дыры, а Мангер, пока мы съедали в полдень нашу скудную пищу, вспоминал и рассказывал рецепты различных блюд.
На третий день путешествия к нашей компании присоединился капрал Хуго Шелл, в последующем – Браун, лейтенант американского флота, Мангер как раз излагал рецепт сербского плова, когда Шелл протиснулся к нам.
– Прошу прощения, господа, но так не годится, это же безответственность. Если позволите, я придам вашему занятию большую осмысленность.
Он вынул из ранца книгу.
– Мое любимое чтение. Поваренная книга «Гурман», – поднял он вверх пухлую стопку расползающихся листков в потертом лиловом переплете.
Его слова произвели настоящий фурор. Обитатели вагона словно потеряли дар речи; тишина, воцарившаяся вокруг, была исполнена благоговения, лишь колеса под полом вагона равнодушно гремели на стыках. Хуго Шелл жестом фокусника раскрыл книгу точно на рецепте сербского плова и с изысканными интонациями продекламировал:
– «Сто граммов копченого сала порезать на маленькие кусочки и поджарить на сковороде с луком (четверть головки). Положить туда же килограмм мелко нарезанной свинины, баранины или говядины и столовую ложку благородной сладкой паприки…»
Когда он, по общему пожеланию, прочитал рецепт еще раз, один совсем еще молодой человек, высунувшись из-под локтя Шелла, сказал:
– Я выпускник театральной академии. Если господин капрал не против, я охотно почитаю вслух.
У него был красивый, глубокий, сильный голос, он понравился всем куда больше, чем капрал, который говорил хрипловато да к тому же торопился и часто глотал концы слов.
Шелл и сам чувствовал, что рецепты «Гурмана» в устах молодого актера будут звучать эффектнее, и с дружелюбным видом вручил ему книгу.
Исполнение Янчи Палади – в «Дочери колдуна» он сыграет советского моряка, лейтенанта Бородина, – позволило кулинарным поэмам раскрыться слушателям во всем богатстве и великолепии. Рецепт сдобной коврижки с изюмом пришлось декламировать целых шесть раз, после чего весь вагон дружным хором скандировал: «…полпригоршни грецких орехов, полпригоршни миндаля, немножко мелко натертого айвового мармелада, две плитки измельченного шоколада…»
Правда, мясные блюда ему не так удавались, он слишком легко, без должного благоговения проговаривал такие важные строчки, как, скажем: «…в оставшемся жире пожарим… смешаем с небольшим количеством мясного или костного бульона… порезанный колечками лук бросим на сковородку со скворчащим салом…» Зато когда речь шла о тортах и пирожных, тут ему не было равных. А соперников было много. Ни один обитатель вагона не хотел упустить случай испытать себя в декламации. Люди с не слишком крепкими нервами сдавались после двух-трех строчек, не в силах справиться с набежавшей слюной; один молодой мясник из Дебрецена разрыдался, спрятав лицо в ладони, после второй же фразы рецепта жаркого из нашпигованных почек.







