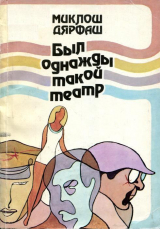
Текст книги "Был однажды такой театр (Повести)"
Автор книги: Миклош Дярфаш
Жанр:
Повесть
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 19 страниц)
Annotation
Популярный современный венгерский драматург – автор пьесы «Проснись и пой», сценария к известному фильму «История моей глупости» – предстает перед советскими читателями как прозаик.
В книге три повести, объединенные темой театра: «Роль» – о судьбе актера в обстановке хортистского режима в Венгрии; «История моей глупости» – непритязательный на первый взгляд, но глубокий по своей сути рассказ актрисы о ее театральной карьере и семейной жизни (одноименный фильм с талантливой венгерской актрисой Евой Рутткаи в главной роли шел на советских экранах) и, наконец, «Был однажды такой театр» – автобиографическое повествование об актере, по недоразумению попавшем в лагерь для военнопленных в дни взятия Советской Армией Будапешта и организовавшем там антивоенный театр.
Был однажды такой театр
МИКЛОШ ДЯРФАШ О СЕБЕ И О КНИГЕ
РОЛЬ
ГЛАВА 1
ГЛАВА 2
ГЛАВА 3
ГЛАВА 4
ГЛАВА 5
ГЛАВА 6
ГЛАВА 7
ГЛАВА 8
ГЛАВА 9
ГЛАВА 10
ГЛАВА 11
ИСТОРИЯ МОЕЙ ГЛУПОСТИ
В ПОСТЕЛИ, ОСВЕЩЕННОЙ СОЛНЦЕМ
В ВАННЕ
ПОКУПКА ТУФЕЛЬ
ПРОГУЛКА ПО НАБЕРЕЖНОЙ ДУНАЯ
ПОД КАШТАНАМИ
В ДЕТСКОЙ
НА ТЕРРАСЕ
РАСКРЫВАЕТСЯ ЗАНАВЕС
ПРЕМЬЕРА
БЫЛ ОДНАЖДЫ ТАКОЙ ТЕАТР
ПЕРВЫЕ МИНУТЫ
ВСЕГДА НА СЦЕНЕ
ОФИЦЕР
ЛЕЙТЕНАНТ ГАМИЛЬТОН
ШЛЕПАНЦЫ
ИСПОЛНИТЕЛИ
ХОР
ОН
ВДОХНОВЕНИЕ
ЗВЕЗДЫ
КОМЕДИЯ
МОЛЧАНИЕ
АДЬЁ
АКТЕРЫ
ЮНОЕ СЕРДЦЕ
ДО́МА
МЕЧТЫ
ОПЕРЕТТА
СОЧИНЕНИЕ ПЬЕСЫ
ПРОИЗВЕДЕНИЕ
ПОЭЗИЯ
СООБЩЕНИЕ
МАРИЯ
РЕВНОСТЬ
ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ
ДОКТОР
ПОЧИВ В БОЗЕ
ФАШИСТЫ
ПРАВИЛА
ХУГО УЕЗЖАЕТ
ПОПРАВКИ
КОМИССИЯ
ПРЕМЬЕРА
МАЙСКАЯ ГРОЗА
ЛИЦО
ТРИУМФ
УЛЕТЕЛА ПТИЦА
СОНЕТ
ПРИБЫТИЕ
ОТЗВУК
ОБ АВТОРЕ
notes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Был однажды такой театр



МИКЛОШ ДЯРФАШ О СЕБЕ И О КНИГЕ
Известный венгерский писатель Миклош Дярфаш (р. 1915 г.) пишет в основном для театра и о театре. Это и не удивительно, ведь вся его жизнь связана с театром. Его родители были актерами, играли на многих сценах страны.
Во время встречи составителя данной книги с автором в Будапеште М. Дярфаш рассказывал:
«Театр для меня, как для крестьянского сына земля, которая взрастила его и вскормила. Я с детства знал, что на свете кроме актеров существуют и другие люди, но настоящими, главными для меня все же были актеры. Я и жизнь воспринимаю как огромный театр: люди играют всегда и везде, одни – роли министров, другие – врачей или водителей трамваев. И костюмы их – театральные костюмы, в наше время, по-моему, даже одежда человека на улице – тоже некий знак, костюм. Мне всегда интересно наблюдать, какую пьесу играют, каково распределение ролей, естественна ли игра «актеров». Вот, например, свадьба или похороны. Это ведь тоже спектакль: действующие лица разыгрывают высокую трагедию, комедию или мелодраму. А игры детей! Ведь дети играют совсем как хорошие актеры в театре: ребенок берет в руки кукурузный початок и говорит себе: «Это медвежонок», – и с этого мгновенья кукурузного початка для него больше не существует, он самозабвенно играет с плюшевым медвежонком. Будучи в Бостоне, я посетил детский музей. В нем множество залов, оборудованных как магазины – с бутафорскими, игрушечными прилавками и кассами, больницы и т. д., где дети, играя, осваивают роли людей различных профессий, модели их поведения, бытовые ситуации из жизни взрослых. И этот «театр» имеет огромное воспитательное значение. В американских школах даже есть специальные уроки, на которых дети проигрывают различные ситуации повседневной жизни, например свою жизнь в семье. Это раскрепощает, дает им возможность высказаться, понять себя и освободиться от того, что, возможно, их угнетает. Так было и со мной: я два года играл на сцене и, как ни старался, ни разу не смог хорошо выучить текст роли, поэтому вечно придумывал что-то по ходу действия, и довольно удачно, но тем не менее доставлял этим много хлопот моим партнерам. И я понял, что хорошо знаю, как надо играть роль, однако воплотить это знание не умею. Я могу написать пьесу, живо представляю себе игру актеров, вижу мизансцены, хотя сам эту пьесу даже прочесть не способен и поэтому первое чтение своих пьес всегда поручаю кому-либо из актеров.
Роль театра в нашей жизни очень велика. Я с детства запомнил слова моего рано умершего отца: «Театр – храм, в него надо входить, сняв шапку». А недавно услышал почти то же самое от знакомого старого актера, который прикрикнул на своего молодого коллегу, вышедшего во время репетиции на сцену в шляпе: «Сынок, выйди, сними шляпу, а потом уж поднимайся на сцену!» Я очень люблю актеров, у меня среди них много друзей и знакомых. Моя мама говорила: «Актер – не человек». Это чистая правда, и в словах этих нет ничего обидного. Действительно, актер – это некая роль, потому жизнь актера и изобилует всякими приключениями и неожиданностями. Например, когда моя мама репетировала роль королевы, то, даже стирая белье в корыте посреди меблированной комнаты, выглядела величественно, как королева, а со мной разговаривала, как с принцем: «Сын мой, соблаговоли подать мне ту кастрюлю». Если же ей предстояло играть в комедии, она говорила: «Сколько тебе можно повторять, маленький ты негодник, а ну тащи сюда кастрюлю!» – и смеялась. Люблю писать об актерах: душа актера так богата, так интересна и необычна! В современном театре, к сожалению, все меньше значения отводится слову, театр стремится поразить, ослепить зрителя, и актеру почти нечего делать на сцене, он вынужден выступать в роли некоего символа, абстрактного действующего лица, выряженного в костюм бродяги или клоуна. В пьесах много насилия или безысходности, в них действуют несчастные люди – пьяницы и наркоманы. Да и сценическая речь довольно груба. С редкого спектакля уходишь без чувства подавленности: о светлом, радостном настрое и говорить не приходится. Я часто вспоминаю пьесу Горького «На дне», показывающую жизнь ночлежки, самые низы общества. Но ведь эти опустившиеся люди ищут выход, тянутся к свету, к добру! Я пишу не только комедии, но и драмы, однако всегда стремлюсь создать у зрителя и читателя хорошее настроение, пробудить оптимизм, веру в жизнь. Никогда не ставлю себе цель просто рассмешить; очень люблю юмор теплый и человечный. Он – моя поэзия. Люблю Чехова, не случайно он так популярен во всем мире. Актеры играют его пьесы с наслаждением, а зрители, пришедшие их посмотреть, получают духовные сокровища, которые останутся в их памяти на всю жизнь.
Три повести, которые войдут в предлагаемый советскому читателю сборник, также посвящены театру. Повесть «Роль» (1956) навеяна моими юношескими театральными впечатлениями. «История моей глупости» (1965) итог моих размышлений об актерской профессии. Я понял, что есть два типа актеров. Одни очень хорошо чувствуют пьесу, органично живут на сцене жизнью своих героев и не умеют объяснить, как они это делают, почему хороши в той или иной роли. Такова героиня повести, Кати Кабок. Другие актеры интеллектуальные, сознательно, с помощью продуманных приемов лепящие свои роли. «Был однажды такой театр» (1970) – повесть автобиографическая, прототипом главного героя послужил я сам. Это история о том, как я попал в советский лагерь для военнопленных под Фокшанами и создал там агиттеатр».
Беседу записала и перевела Т. Гармаш
РОЛЬ

A szerep
Перевод В. Белоусовой
ГЛАВА 1
Пощечина
Тринадцатилетний мальчуган бродил возле летнего театра на ярмарочной площади, время от времени заглядывая за угол и с уважением прислушиваясь к храпу спящих декораторов. Мальчугана звали Дюлой, он был сыном вашархейского налогового инспектора Гезы Торша. Вот уже третий год подряд знаменитая сегедская труппа гастролировала в захолустном алфёльдском городишке – «самой большой деревне в мире», как именовали его актеры, прибывшие из тисайской метрополии местного значения. Замечательные времена настали с тех пор для инспекторова сына.
Большую часть дня он проводил в театральном саду, терся у служебного входа и глазел по сторонам. Актеры успели к нему привыкнуть. Опереточный комик, вечно щеголявший в клетчатом костюме, даже придумал ему прозвище – Коржик. Прозвище Дюле подходило – он был кругленький и плотный.
Дюле нравилось быть на посылках. Во время утренних репетиций он бегал за сигаретами, за порцией рома в ближайшую закусочную, с письмами на почту. Сам Пал Такач, которого знали не где-нибудь, а в столице, первого числа каждого месяца давал ему поручение перевести кому-то алименты в размере пятидесяти крон. Однако самое сильное волнение Дюла испытал, когда примадонна Ила Зар послала его в гостиницу «Черный орел» за забытой ролью Елены Прекрасной. С пылающими щеками ступал он по красному гостиничному ковру, сжимая в руке ключ на медной пластинке и без конца повторяя про себя номер комнаты Илы Зар, словно название незнакомого континента.
После обеда он обычно прогуливался по театральному саду, валялся в траве у ручейка, проглядывая театральные газеты, добытые у бутафора, перебирая в памяти услышанные за кулисами истории, в которых действовали исключительно знаменитости, и разгадывая между делом кроссворды, напечатанные на последних страницах газет. Дождавшись момента, когда, по его расчетам, должны были пробудиться от послеобеденного сна дядюшка А́ли и два его помощника, он вставал, брал газеты под мышку и пускался в путь по зеленой аллее.
Через несколько шагов ручей вырывался из кустов на лужайку, а перед глазами вставало здание летнего театра. Стены его примерно на высоту человеческого роста были сложены из красного кирпича, дальше шло дерево, а увенчивала все это крыша, крытая толем, гремевшим во время дождя наподобие оркестрового барабана. Дюла шел вдоль стены, оклеенной афишами, время от времени останавливаясь и перечитывая знакомые имена. Клей местами потрескался, края верхних афиш загнулись, из-под них выглядывали выцветшие афиши прошлых сезонов. Можно было вообразить, будто перелистываешь страницы прошедших лет и видишь на них все те же любимые имена, с которыми связаны разные замечательные события. Потом Дюла осторожно заглядывал за угол и смотрел, не проснулись ли верные служители театра.
Тот день выдался особенно жарким, неподвижный воздух звенел от зноя. Декораторы спали дольше обычного. Хермуш лежал на спине, с открытым ртом, словно собираясь заглотать кусок небесного свода. Господин Шулек, с черной повязкой на глазу, по-детски свернулся клубочком, а дядюшка Али спал на животе, зарывшись лицом в ладони, словно оплакивая земной шар.
Дюла, не шевелясь, наблюдал за ними. Сердце его переполняла нежность. Хермуш был ужасно уродлив, может, уродливее всех на свете, зато и добрее человека не было. Всем было известно, что десять лет назад он взял в жены девицу из публичного дома, и жена его с тех пор являла собой образец идеальной супруги. Господин Шулек тоже был в своем роде знаменитостью: раньше он служил конюхом у какого-то австрийского аристократа, и тот года два назад в приступе ярости выбил господину Шулеку глаз. Сам пострадавший предпочитал на эту тему не распространяться, однако история и без того обросла легендами. Должно быть, именно потому все как один именовали девятнадцатилетнего декоратора не иначе, как господином Шулеком. Третий работяга, дядюшка Али, был Дюлиным любимцем. Лицо у него было красивое, красное от частых возлияний, волосы топорщились в разные стороны. Дядюшка Али был человек необычный. Он любил поговорить про Африку, где, если верить его словам, провел когда-то не один год. С самым серьезным видом он утверждал, что понимает язык животных и что это – большое подспорье в охоте. Дюлу он не раз приглашал в Сегед, обещая показать коллекцию фигурок из слоновой кости и – главное – маленьких носорожков, которых преподнес ему вождь одного из африканских племен и которые теперь паслись у дядюшки Али на заднем дворе. Конечно, Дюла понимал, что это шутка, а все-таки здорово было представлять себе маленьких, неуклюжих носорожков, топчущих траву вместе с гусями и мирно похрюкивающих.
Медленно приближаясь к спящим, Дюла вел пальцем по одному из бревен, испещренному бесконечными зарубками. Здесь были имена актеров, даты, шутливые изречения. Накануне вечером Дюла отыскал на бревне свободное местечко и написал чернилами: «Примадонна Илона Зар – красивее всех на свете», а внизу поставил дату: «17 августа 1910 года». С минуту он стоял, глядя на собственную надпись, и глазам его внезапно представился гостиничный номер, чемоданы у стен и трельяж, а на трельяже – специальные штучки для пудры, кажется пуховки – что-то в этом роде он слышал в театре. А еще он увидел ночную рубашку, небрежно брошенную на спинку кровати, алые тапочки на крашеном полу и раскрытую книгу с флаконом из-под духов в качестве закладки.
Дюла коснулся надписи ладонью, потом оттолкнулся, как пловец от стенки бассейна, и направился прямо к спящим. Подкравшись к ним, он уселся на траве по-турецки и стал смотреть, как они спят. Дверь черного хода была распахнута настежь – театр проветривался. С Дюлиного места была видна самая середка сцены. Там стояло пианино, казалось, спавшее, как и все прочее в этот жаркий послеобеденный час. Театр, словно зевая, выдыхал терпкий запах краски и еловый дух неструганых деревянных скамеек. На крыльце валялся свернутый рулоном задник; ножки перевернутого стула смотрели в небо – казалось, его тоже одолела августовская истома.
Мальчик поерзал по траве, устраиваясь поудобнее, откинулся назад, опершись на локти, и снова взглянул на своих друзей. Сердце у него сжалось: он вспомнил о том, что через десять дней театральный сад опустеет, декорации упакуют в огромные ящики, опоясанные железом, погрузят на платформы и отправят на станцию, а в траве наверняка останется валяться какой-нибудь забытый шлем или подсвечник. Потом, в один прекрасный день, к «Черному орлу» подкатят извозчики, и он будет помогать актерам таскать вещи. На станции его пару раз сгоняют за газетами или за чем-нибудь еще, а потом запыхтит паровоз, и не успеешь оглянуться, как сегедский поезд застучит колесами по железнодорожному мосту.
Хермуш тихонько пыхтел, будто дальнее эхо того паровоза. Муха, попытавшаяся было пристроиться на кончике его носа, в негодовании снялась с места и улетела. Хермуш проснулся, за ним, как по команде, проснулись остальные. Господин Шулек открыл оставленный ему судьбой левый глаз и тут же широко улыбнулся – совсем как ребенок. Дюла поймал его дружеский взгляд и почувствовал себя счастливым. Дядюшка Али просыпался постепенно. Церемония пробуждения сопровождалась бурчанием и легким постаныванием. Не открывая глаз, он извлек откуда-то из кармана окурок и лихо пристроил его в зубы. Окончательное пробуждение знаменовал огонек спички, которую дядюшка Али с непостижимой ловкостью зажег, все так же лежа на животе.
– Как делишки, сэр Коржик? – поинтересовался господин Шулек со своей вечной беззлобной насмешкой.
– Спасибо, господин Шулек. – Мальчик стеснялся и не смел подхватить шутливый тон.
– Что было нынче у их превосходительства господина инспектора на обед?
– Фасоль и лапша с картошкой, – обстоятельно и серьезно отвечал Дюла.
– Вот это славно, – вступил в разговор дядюшка Али. – Как-то раз в Южной Африке я накормил лапшой с картошкой одного вождя, так что вы думаете? Целую неделю отпускать меня не хотел. Три раза на дню варить приходилось.
Дядюшка Али подмигнул, но Дюла не засмеялся: ему так хотелось верить, что все это правда и у него есть друг, повидавший Африку. Он тут же представил себе дядюшку Али, сидящего под навесом из пальмовых листьев и поедающего лапшу с картошкой на пару с чернокожим вождем, вся одежда которого состоит из торчащей на макушке короны. От этой картины Дюлины глаза увлажнились, и он ответил на задорное подмигивание серьезным, полным почтения взглядом.
– Послушай-ка меня, Коржик. – Хермуш сел и принялся приводить в порядок усы, орудуя вместо щетки указательным пальцем. – Смотри, учись хорошо, когда мы уедем, а не то скажут, актеры тебя испортили!
Хермуш уже давно выстроил себе нечто вроде баррикады из разнообразных правил и принципов. Удобно расположившись за нею, он вещал окружающим всяческие премудрости. Верным стражем этого заповедника морали была жена Хермуша, Иренка, в прошлом девица легкого поведения, а в настоящем честнейшая, добродетельнейшая супруга. В театре все знали о ее бурной юности, отчасти именно благодаря этому она пользовалась особым почетом и уважением, а ведь актеры, как известно, не самые добрые люди на свете.
– Родителей не огорчай, – Хермуш гнул свое, – ни к чему это, сынок…
Тут он погрузился в размышления, словно вспоминая неисчислимые горести, причиненные им собственным родителям, и глубоко сожалея о них. В действительности ничего подобного не было, Хермуш рос сиротой. Но ведь жизнь – одно, а мораль – совсем другое.
Чета Хермушей, надо сказать, не была знакома с Дюлиными родителями. Они знали только, что Коржиков отец – налоговый инспектор, что у них есть маленький домишко и фруктовый садик, за которым ухаживает инспекторова жена. Еще они знали, что у Дюлы нет ни братьев, ни сестер. Мальчик никогда не рассказывал о доме. На то были свои причины. Дюла и его хрупкая, маленькая матушка жили у себя, на улице Петефи, 26, как в тюрьме. Тюремщиком был отец. Его жесткий, суровый нрав делал жизнь близких невыносимой. Именно поэтому мать и сын были вынуждены действовать против него заодно. К счастью, в будние дни старший сержант Торш бывал дома только утром и вечером, а днем либо сидел в конторе, либо разъезжал с инспекциями. Дома же у него было три основных занятия.
Во-первых, еда. Геза Торш был страстным едоком. Он превосходно разбирался в мясных и овощных блюдах, в мучном и в приправах. Ему ничего не стоило сказать, сколько горошинок перца положила жена в голубцы, дымившиеся перед ним на тарелке. И если их оказывалось чуть больше, чем следует, никто в доме уже не знал покоя. Он запросто мог определить, сколько времени и на каком огне жарился ростбиф с луком. Если все соответствовало норме, от количества сожженных в печке дров до размера порезанной луковицы, тогда он ел молча и только урчал, как собака. Зато, обнаружив какой-либо недостаток, он принимался крыть почем зря жену, сына, государство и всю эту чертову жизнь, которая устроена так, что даже не пожрешь по-человечески после целого дня работы.
Вторым домашним занятием был сон. Торш любил большие, мягкие перины. Спал он в рубахе и подштанниках, один в запертой комнате, плотно закрыв ставни даже в самую большую жару. По ночам он ухитрялся совмещать оба удовольствия – и сон, и еду. Ложась спать, он пристраивал на стульях рядом с кроватью гладильную доску и ставил на нее самое необходимое: кусок мяса, хлеб, огурцы и бутылку вина. Ночью, часов около двух, он просыпался, протягивал руку к доске и наедался до отвала, после чего засыпал, на этот раз до утра. Вставал Торш затемно и тут же плелся на веранду. Зимой и летом выстаивал он там не меньше десяти минут, с неподвижным лицом вслушиваясь в предрассветную тишину, нарушаемую лишь его собственным сопением.
Как-то раз Дюла подсмотрел за ним. Это было в конце января. Садик утопал в снегу. Дюла прокрался в кухню, как был, в ночной рубашке, слегка приоткрыл дверь и выглянул на веранду. Там стоял на морозе его отец. Он был в черных шлепанцах, завязанная бантом тесемка от подштанников болталась на животе. Стоял, сложив руки за спиной, и прислушивался к чему-то, словно лесной хищник. «Как только он не мерзнет!» – с удивлением подумал мальчик. Ледяной воздух проник в щелку и прочертил зябкую полоску от макушки до пальцев ног. Дюла замерз, но не мог заставить себя сдвинуться с места. Он увидел нечто такое, что буквально пригвоздило его к двери. Отец плакал, не вытирая слез, струившихся по угрюмому лицу. Дюла ничего не понял, но с тех пор не решался за ним подсматривать.
Третьим видом домашней деятельности Торша были допросы. Ежедневно жена и сын обязаны были докладывать ему обо всем. Жене давался час, сыну – пятнадцать минут. Здоровенные часы налогового инспектора все это время покоились перед ним на столе. Геза Торш задавал вопросы, допрашиваемый покорно отвечал. Готовка, уборка, садовые работы, штопка, школьные успехи, денежные траты, отправление естественных нужд – решительно все становилось предметом дознания. Инспектор допрашивал въедливо, дотошно, словно перетряхивая прожитый день час за часом, минуту за минутой. Мать и сын жили в постоянном страхе. Стыд и унижение объединяли их, заставляя спасаться от тирании единственно возможным средством – ложью. Именно эта спасительная ложь помогала матери скрывать от провинциального Калигулы театральные увлечения сына. Ей самой тоже не особенно нравилось, что Дюла целыми днями вертится возле актеров, но она предпочитала предоставить мальчика самому себе, чем дать излиться на его голову отцовскому гневу.
Вот почему Дюла не рассказывал о родителях своим новым друзьям. Отца он ненавидел, а мать любил так нежно, что не мог допустить, чтобы кто-нибудь узнал о ее рабской доле. Слушая Хермушевы назидания, он покорно кивал и терпеливо ждал, когда тот наконец сменит тему.
Однако судьбе было угодно, чтобы декораторы свели с Гезой Торшем личное знакомство.
Хермуш все еще разглагольствовал, когда Дюла внезапно вскочил, пошатнулся от волнения и чуть не упал на раскинувшегося рядом дядюшку Али. Схватившись за его плечо, он устоял на ногах и медленно выпрямился. Глаза его потемнели, губы искривила какая-то дикая улыбка. Трое декораторов разом подняли головы, следя за Дюлиным взглядом. У дверей театра стоял отец Коржика об руку с толстой женщиной в красном платье.
Декораторы узнали его не только по форменной одежде. Внешность старшего Торша не оставляла ни малейших сомнений. Он был как две капли воды похож на своего сына, только во взрослом исполнении – с черными усами и глубокими морщинами. В остальном все было то же самое. Узкий разрез глаз, маленький носик-пуговка, крутые скулы, не слишком высокий лоб – словом, все то, что делало Коржика таким забавным и симпатичным. Геза Торш неподвижно стоял рядом со своей броской спутницей. Ему, надо полагать, тоже было не по себе. Он закусил нижнюю губу, отчего усы немедленно встопорщились, щитом загораживая лицо. Дюла угадал отцовское смущение, и сердце его сжалось еще сильнее. Он опустил глаза, не в силах выдержать отцовского взгляда, не в силах видеть эту выпирающую во все стороны из корсета тетку.
Инспектор медленно направился к ним. Декораторы, не сговариваясь, встали и окружили мальчика со всех сторон. Геза Торш подошел совсем близко, так близко, что мог коснуться сына протянутой рукой. Красная женщина осталась стоять на месте, прислонившись к дереву, похожая на язык пламени.
– Ты что здесь делаешь, сынок? – Голос инспектора слегка дрожал, однако вопрос прозвучал почти дружелюбно.
– Я… разговариваю с господами декораторами.
– Ага.
Больше вопросов не последовало. В ту же секунду рука инспектора взлетела и отвесила мальчику звонкую, увесистую пощечину. Дюла даже не покачнулся, он словно ждал этой пощечины, заранее напрягши мускулы и расставив ноги, чтобы удержать равновесие. Только голова откинулась едва заметно. А между тем удар был нешуточный – из носу тотчас хлынула кровь.
Хермуш вскочил на ноги, едва не перекувырнувшись, схватил Дюлу в охапку и потащил его назад, к театральному крыльцу. Господин Шулек сжал кулаки, словно готовясь здесь и сейчас отомстить за тот самый графский удар, что лишил его глаза, но Аладар, африканский охотник, схватил его за ногу. Сам он тоже поднялся, красное лицо побагровело, глаза горели негодованием.
– Послушайте… так бить ребенка… Разве можно?..
– Допустим, нельзя, – отрезал инспектор, – только вам-то какое дело?
– Мне? Он мой друг… – неуверенно вымолвил декоратор.
Хермуш тем временем затолкал Дюлу в театр, захлопнув за собою заднюю дверь на случай, если этому дикарю вздумается преследовать мальчика. Господин Шулек остался при Аладаре в качестве подкрепления, руки у него все еще чесались. Аладар же возвышался перед инспектором, словно крепость.
– Вы что, испортить мальчишку хотите? – спросил Геза Торш, засунув большие пальцы за ремень.
– Это мы-то? – Дядюшка Али сжал кулаки.
– Вы, а то кто же?
– Скорее уж вы испортите. – Аладар взглянул через плечо налогового инспектора на безучастно стоявшую под деревом женщину.
Геза Торш глубже засунул пальцы за ремень.
– Мальчишка еще свое получит.
Аладар подошел к Торшу вплотную.
– Даже если я загляну к вам домой и расскажу вашей женушке?.. – он снова взглянул через инспекторово плечо.
Торш не шевельнулся.
– Об этой шлюхе? – спросил он с иронией, растягивая слова.
– О ней.
– Можете не стараться. Она знает. И про эту, и про других. Про всех. – Он тихонько рассмеялся, блеснув красивыми белыми зубами. – Моя жена все знает. У меня от нее секретов нету. Вот ребенок, тот не знал. Ну да ничего, забудет. Хороший ребенок, – голос его внезапно смягчился.
Он полез в карман, достал носовой платок и вытер лоб.
– Да… Ребенок все равно все узнает, рано или поздно. Ему как-никак уже тринадцать. Будем считать, проехали.
Он аккуратно сложил платок и спрятал его в карман.
– Мальчишка получил пощечину. Скажите, что он может возвращаться домой. Больше ему не причитается.
Торш слегка кивнул, еще раз пристально взглянув Аладару в лицо. Потом повернулся и поманил рукой женщину в красном. Она пожала плечами и вышла из-под дерева на тропинку, уходившую в глубь театрального сада. Налоговый инспектор, сложив руки за спиной, последовал за нею.
ГЛАВА 2
Аннушка
Та пощечина раз и навсегда изменила Дюлину судьбу; все, что ожидало его в Надьвашархейе, на улице Петефи, превратилось в мираж, растворилось и исчезло. После того как дядюшка Али сообщил ему, что он может смело возвращаться домой, что нового наказания не последует, мальчик, смущенно улыбаясь, поблагодарил друзей за заступничество, а сам отправился на станцию и сел на пригородный поезд. Он не думал о том, что будет дальше, просто сидел себе у окошка и с завистью следил глазами за шедшим вдоль вагона кондуктором.
Сойдя с поезда в Сегеде, он долго, внимательно разглядывал плакаты, украшавшие городской вокзал, – тут были и заснеженные вершины, и синие бухты, и грандиозные соборы, и гарцующие всадники в зеленых камзолах… В буфете он выпил стакан воды с малиновым сиропом и отправился с шестьюдесятью крейцерами в кармане на Марсову площадь. На Марсовой площади жил столяр по имени Гомбош. Много лет назад, когда Дюлина матушка еще жила в Задунайском крае, он за нею ухаживал. Матушка, оставшись наедине с Дюлой, частенько вздыхала:
– Ах, если б я за него пошла!
Про Шандора Гомбоша Дюла знал две вещи. Во-первых, что его судьба тоже забросила из Задунайского края в Алфёльд, а во-вторых, что он был бы ему лучшим отцом, чем налоговый инспектор.
Шандор Гомбош встретил Дюлу приветливо. Усадив его на кухонный стул с двумя ящиками собственного изобретения и производства, он внимательно выслушал рассказ о побеге, а также о том, как сложилась жизнь женщины, так и не ставшей его женой.
Мальчик пришелся Гомбошу по душе. Ему была близка Дюлина тяга ко всему яркому и занимательному. Семь лет назад он решил уехать из этой страны и перебраться во Францию. Решил – и уехал, но спустя полгода тоска по дому пригнала его обратно. Вернувшись, он открыл мастерскую, парижский же опыт использовал по большей части на вечеринках, которые устраивали мастеровые, особенно в дамском обществе, с упоением внимавшем рассказам о тамошних нравах.
Гомбош сразу же написал родителям мальчика, хотя рассказ о манерах налогового инспектора так поразил его воображение, что он стал подумывать, не нужно ли спасать от злодея несчастную женщину. Столяр мог свободно рассуждать на эту тему – он так и не женился. Не потому, конечно, что не мог забыть давнишнего разочарования, а из соображений удобства. Доходов от маленькой мастерской хватало ровно настолько, чтобы прожить в достатке в одиночку. Да и непоседлив он был, любил разъезжать. Однако теперь, после того как мальчик появился у него в доме, он без конца прокручивал в уме разные варианты. Дюлу он, разумеется, оставил у себя, во всяком случае, до получения ответа.
На четвертый день почтальон принес письмо от Гезы Торша. В конверте лежал сложенный вчетверо листок, а на нем вычурным, писарским почерком было написано следующее:
Милостивый государь!
Настоящим извещаю Вас, что Вы можете держать мальчика у себя, если считаете нужным. Мне это безразлично, я твердо знаю только одно: порога моего дома он больше не переступит. С уважением Геза Торш.
Вот такое было письмо.
Напрасно жена молила налогового инспектора пощадить ребенка, тот лишь отмахивался в ответ.
– Пускай остается в Сегеде. Там ему будет лучше.
– Лучше? Это без родителей-то? – плакала женщина.
– Пусть попробует. Инспектором можно стать где угодно.
Не помогли ни слезы, ни уговоры. Торш строго-настрого запретил жене искать встречи с сыном. Оставалась только переписка, и то тайная.
Дюла, по совету матери, посылал письма на имя дядюшки Шиманди, театрального коменданта, чтобы отец, не приведи бог, не смог их перехватить.
Прошло почти полгода с тех пор, как Дюла стал у Гомбоша подмастерьем, и вот как-то раз, ближе к вечеру, в маленькой мастерской появились дядюшка Али, Хермуш и господин Шулек. Торжественно, хоть и не без смущения заявили они, что хотели бы забрать Дюлу с собой. Гомбош был наслышан о дружбе мальчика с декораторами, но никак не ожидал такого поворота событий. Он собирался обучить ребенка ремеслу, обеспечив ему верный кусок хлеба, и мысль о том, что Дюла предпочтет заниматься черт-те чем в каком-то театре, показалась ему нелепой.
– Ну, Дюла, сынок, скажи свое слово. – Гомбош отшвырнул ногой стружку.
– Я бы пошел с ними, господин Гомбош, – опустив голову, ответил мальчик и остановил покатившуюся стружку носком ботинка.
Декораторы нашли такой ответ вполне естественным, так как выбор шел между театром и мастерской. Столяр же был глубоко обижен и тут же решил плюнуть на все это дело. Похоже, мальчишка – папашина кровь.
У Гомбоша Дюле жилось совсем неплохо, и все же ему казалось, будто он освободился из рабства. Особенно остро он почувствовал это, проходя в сопровождении трех ангелов-освободителей мимо тюрьмы «Чиллаг».
В театре он делал то же самое, что раньше, в Надьвашархейе, во время летних гастролей. Только теперь за это платили деньги – кругленькие две кроны. Время от времени ему перепадало по несколько крейцеров от актеров в награду за разного рода мелкие услуги. Вскоре дела его пошли на лад, другими словами, он смог позволить себе те же развлечения, что дядюшка Али и компания, а также прочие работяги. Декораторы всегда и везде таскали его за собой. По сути дела, неразлучная троица выступала в роли заботливых родителей. Разумеется, этот воспитательный процесс протекал не совсем обычно. Дюлин рабочий день заканчивался после вечернего спектакля. Потом дядюшка Али и компания забирали его и вели на набережную Тисы, в «притон» – так называли они между собой маленькую корчму, в которой можно было славно провести часок-другой.







