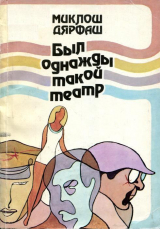
Текст книги "Был однажды такой театр (Повести)"
Автор книги: Миклош Дярфаш
Жанр:
Повесть
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 19 страниц)
С двадцатилетнего возраста я мечтал играть в основном в буффонадах и везде искал фривольные и гротескные ситуации. Еще совсем почти мальчишкой, попав в маленький городок возле Тисы, я снял комнату в местном публичном доме, с невероятным правдоподобием изображая, будто понятия не имею, где нахожусь. Девушки приходили ко мне, будто к спустившемуся с небес на землю ангелу в образе мальчика, и наперебой изливали на меня еще сохраненную чистую нежность своих жалких, загубленных жизней. С каждой из них я был ласков и деликатен, я дарил им первые плоды пробуждающегося во мне поэтического дара, а они отвечали мне изысканно-тонким обращением и искренними, непродажными объятиями. С моей стороны это был только расчет, я, конечно, обманывал их, разыгрывая для невидимых зрителей фарс, в котором сам был и автором, и единственным актером.
Труппа наша на желтом автобусе уезжала из городка, и перед его отправлением на главной площади, густо покрытой пылью, появились все девушки, чтобы проститься со мной. Они стояли с чисто вымытыми, ненакрашенными лицами, в пестрых ситцевых платьях в горошек или с синими и красными узорами, одна из них протянула мне пару серебряных запонок и, покраснев, пробормотала, что запонки забыл у них какой-то клиент и они просят взять их на добрую память. Желтый автобус тронулся, девушки, стоя в облаке пыли, махали платочками до тех пор, пока старая колымага не завернула за церковь. «Занавес», – сказал я про себя, словно это была последняя сцена в моем фарсе.
Я не был циником. Таким меня сделала сцена. Летом 1944-го я утащил со стола военного коменданта на заводе Ганца пачку незаполненных удостоверений оборонного предприятия. Это тоже был театральный жест. Прекрасная сценическая находка для того дерзкого, бесшабашного парня, роль которого я в то время играл. Этот поступок весьма потерял бы в своем значении, если б его совершил настоящий служащий завода.
Тайна капитана Кубини заставила меня удивиться и задуматься. Выходит, не только я, актер по рождению, способен превращать в игру свои беды и радости? Выходит, воспитанный в военном училище Кубини тоже может глубокие чувства переводить в лицедейство, память об умершей любимой сестре воскрешать в оперетте, в комедии?.. Задавая себе такие вопросы, я ощутил вдруг, что меня терзает ревность. Неужели этот солдат вознамерился отобрать у меня театр?..
ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ
На рассвете, вставая со своего дощатого ложа, я вдруг упал обратно. Надо мной было небо, летящие, беспокойные облака, на лице моем лежал тонкий слой нанесенной ветром пыли. Слишком быстро я проснулся, вот голова и закружилась, подумалось мне. Сделав несколько медленных вдохов, я снова попробовал встать. И снова свалился. Что со мной? Ничего не болит, голова вполне ясная, только вот свинцовая тяжесть в руках и ногах. Воспаление легких давно позади, так что все со мной должно быть в порядке.
С третьей попытки мне удалось-таки подняться на ноги. Я еще чувствовал неуверенность, но в общем мне стало как будто лучше. Я медленно направился к бараку. Все еще спали, лишь немец Хауфман, живописец, стоял возле створки распахнутого окна и, глядя в стекло, как в зеркало, писал автопортрет. Он был в нашем бараке единственный немец: лет сорока, костлявый, сухой, угрюмый. Рисунки его представляли собой причудливые фантасмагории. Он тоже оформлял наш спектакль, но мы поручали ему рисовать только заросли джунглей.
Наши взгляды встретились, мы молча кивнули друг другу. Двигаясь вдоль стены, я увидел его рисунок, прислоненный к краю нар. Хауфман с автопортрета смотрел на меня пустыми глазницами черепа среди хаоса черных и белых пятен.
Я прислонился к стене и бессильно сполз по ней на пол. Это была уже не игра.
Здесь меня и нашел по пути в лазарет лейтенант Степан Исаев. Присев рядом, он стал задавать мне вопросы. Я в испуге затряс головой: дескать, нет, ничего не понимаю.
– Мадьяр?
– Да! Да! Мадярски актор, – ухватился я за свой общественный ранг.
– О, доктор?
– Нет! Нет доктор. Актор.
– Хорошо. Parlez-vous francais?
– Oui, Monsieur, – благодарно простонал я. – Je, parle un peu…[10]
Степан Исаев улыбнулся и положил меня у стены на спину.
ДОКТОР
Во внешности врача, пятидесятилетнего маленького человека с волосами, выгоревшими на солнце, и ласковыми голубыми глазами, мужественной выглядела разве что только оправа очков.
– Печень распухла, сынок, – сказал он по-французски, ощупав мне бок.
– Я умру? – спросил я жалобно и беспомощно.
– Может, и нет.
– Что я должен делать?
– Месяц советую не вставать. И соблюдайте диету. Чай, много сахара, поджаренный хлеб. Я тоже вам помогу: сделаю несколько инъекций. И направлю в лагерный лазарет.
– Я предпочел бы, если можно, остаться в бараке, с друзьями. Мы готовим премьеру. Я написал пьесу и сам ставлю ее.
– Что ж, как хотите.
– Спасибо, товарищ лейтенант.
– Я актеров люблю. Моя первая жена тоже была актрисой.
– Была?
– Да. Десять лет тому назад я убил ее.
– О! – воскликнул я, пораженный таким сообщением.
– Мы катались на мотоцикле. В двадцати километрах от Москвы я наскочил на березу. Умереть должен был я: Ирина сидела сзади. А умерла она. Год я сидел в тюрьме. Тогда меня в первый раз разжаловали в рядовые. Из подполковников.
– В первый раз? Значит, вас разжаловали неоднократно?
– Ну да, – улыбнулся он, помогая мне встать. – Но это уже другая история… У всех у нас жизнь полна неожиданностей. Я человек не робкий, хотя, может, и выгляжу так, будто боюсь испытаний…
– Скажите, режиссерскую работу я могу продолжать?
– Нет. Вам нужно лежать все время.
– А если я попрошу друзей по утрам относить меня в третий барак?
– Я бы вам не советовал этого делать.
– До премьеры всего десять дней. Потом буду лежать неподвижно.
– Делайте, что хотите, но под свою ответственность.
– Спасибо, товарищ доктор.
– В конце концов, смерть не так уж страшна. Она только бессмысленна.
– Это будет первая моя премьера. Самая большая мечта моей жизни. Как ни странно, осуществится она здесь, за колючей проволокой.
– Вы ставите меня в трудное положение. Мне не хотелось бы служить препятствием на пути к мечте. – Он поддерживал меня за руку, пока мы добирались до моих, положенных на кирпичи досок. – Это ваши апартаменты?
– Да.
– Довольно уютно.
– Правда? Мне тоже нравится, – благодарно улыбнулся я, с облегчением возвращаясь в горизонтальное положение.
Степан Исаев поправил тряпье у меня в изголовье. В бараке загремел громовой баритон Эрнё Дудаша. В ответ послышались проклятия и ругательства. Артисты мои просыпались.
ПОЧИВ В БОЗЕ
Утром четыре морских офицера, представляющих союзнические державы, торжественно перенесли меня в третий барак и вместе с моими досками водрузили в первый ряд. Отсюда я со всеми удобствами мог озирать сцену. Репетиция шла с оркестром, с декорациями, в костюмах.
Актеры играли так, будто рядом лежал не я, а покойник, и поглядывали на мое ложе, словно на катафалк. Андор Белезнаи, он же Бао-Бао-Бао, украшенный разноцветными перьями, прыгал по сцене сдержанно, даже, можно сказать, деликатно, на его выкрашенном коричневой краской лице застыла какая-то лошадиная, тысячелетняя доброта. Хуго Шелл забыл про свои трюки с жевательной резинкой, зато, играя любовные эпизоды, сентиментально заплетал в косички листья на юбочке Акабы. Мангер, он же английский лейтенант Гамильтон, время от времени бросал на меня слезливые взгляды и громко, с дружеской участливостью сморкался. Эрнё Дудаш гудел, изо всех сил стараясь сдерживать голос; Палади не было слышно даже в первом ряду, зато слышны были его вздохи. Кубини совсем преобразился в девочку и в свои песенные номера неожиданно вставлял колоратурные трели.
После первого акта исполнители спустились со сцены и, тихо усевшись вокруг меня, стали ждать поправок и замечаний.
– Спасибо, ребята, за такие прекрасные похороны, – приподнявшись на локте, сказал я. – Все было чудесно, вы так трогательно меня отпевали… Ей-богу, будь я сейчас на том свете, поклялся бы, что давно так славно не помирал. Но поскольку я еще жив, то не могу вашу игру оценить высоко. А если откровенно, играли вы из рук вон плохо. Ведь пьеса, пускай это оперетта, приветствует рождение нового мира. А потому играть ее нужно энергично, с подъемом, с сознанием торжествующей надежды, ибо вера в мир…
Не в силах продолжать, я откинулся на доски.
ФАШИСТЫ
Блеск очков надо мной.
– Мицуго, не беспокойся, репетицию я закончил. Съешь вот немного супа и жженого сахара. После обеда придет врач.
Торда покормил меня мучной похлебкой. Я ел с большим аппетитом. Потом с наслаждением хрустел ароматными желтыми сахарными крупинками.
– Из-за театра ты и не думай переживать. До премьеры буду вести репетиции я. Спектаклю, собственно, не хватает сейчас только отшлифованности и сценической дисциплины. До премьеры ты наверняка окрепнешь и в конце спектакля сможешь выйти на сцену, раскланяться.
– А ты разбираешься в режиссуре?
– Если нужно, я разберусь в чем угодно. Наверное, смог бы даже собрать самолет, если бы приспичило.
– А где ты взял столько сахара?
– Украл. Воровать сахар – одно из моих маленьких увлечений. Дома я воровал его для собак. Как-то ухитрился даже украсть пиленого сахара на торжественном приеме. Здесь вот ты у меня вместо бродячих псов, которых я подкармливал в подворотнях глухих переулков и у фонарных столбов.
– Ты украл свой собственный сахар? – растроганно смотрел я на писателя.
– Нет, свой я съел. А этот украл у Лехеля Ванчи.
– Кто такой Лехель Ванча?
– Бывший советник министра, майор запаса. Бывший друг моего отца. Пятьдесят семь лет. Живет в офицерском лагере. Он просил, чтобы я его сюда перевел, к артистам, и чтобы ты написал для него роль матери. Он еще в первую мировую войну имитировал женщин в одном таком лагере. Тогда он выступал в амплуа субреток, но теперь, естественно, постарел. Это он вынужден был признать.
– И как же ты украл сахар?
– Он сам дал, вроде как взятку, а я принял, хотя знал прекрасно, что роль мы ему не дадим.
– Не надо было брать.
– Это я – в наказание.
– В наказание? Он же был другом твоего отца.
– Да, но он – фашист.
– Ты уверен?
– Удостоверился в этом своими глазами.
– Когда?
– Сегодня. Этот подлец, чтобы доказать, что он венгерский патриот, гнусно унизил одного немца.
– Как?
– За кусок хлеба заставил беднягу встать на колени и десять раз повторить: «Я – паршивый немец». Опасен не только тот, кто себя признает фашистом, но и тот, кто не понимает, что он – фашист.
– Я тоже знал одного такого. Вера любила его до меня. Красавец еврей, обожал женщин, деньги, жизнь, смеяться любил. Кажется, других качеств у него не было.
– Этого вовсе не мало. На свете есть, по-моему, люди с куда более скудной душой. Причем, Мицуго, таких огромное количество. Ты не устал?
– Нет.
– Хорошо, тогда расскажи мне о первой любви Веры, потом спи, пока не придет Степан Исаев и не отыщет у тебя самую подходящую вену.
Надо мной, краем крыла задев мне лицо, пролетел теплый ветерок. Я зажмурил глаза.
– В самом начале августа… он пришел в элегантном летнем костюме, из небеленого полотна, знаешь, в таких показывают мужчин в модных журналах, где-нибудь на морском берегу… Английская трубка в руках, колечки дыма… Лицо в темном загаре, неотразимые густые усики, блестящие, как кожура каштана, и ко всему этому – желтая звезда на груди. Но даже этот позорный знак шел ему, он носил его как-то щеголевато… Он улыбнулся, обнял меня, удобно устроился в ветхом кресле и сообщил, что ему нужны фальшивые документы. А спустя неделю пришел в новом обличье: черные сапоги, черные брюки, черный китель, черная фуражка с лакированным козырьком, зеленая рубашка, на рукаве нилашистский крест, блестящие зубы. Он даже как нилашист был неотразим. «Нет, я не сошел с ума», – сказал он, увидев мое лицо. И объяснил: коли уж у него в кармане арийские документы и освобождение от армии, то он и не подумает прятаться, рисковать так рисковать. Еще через неделю он явился и сообщил, что занял квартиру, где раньше жила еврейская семья: комфорт сногсшибательный, ванная комната – суперлюкс, первоклассная библиотека. Он и меня звал приходить, выбрать книги, какие хочу… Я развернулся и влепил ему такую оплеуху!.. Он, шатаясь и плача, вышел из комнаты в грязный, замусоренный коридор…
– О, Мицуго, – возле губ Торды появились две злые морщинки, – не за подлость, не за цинизм ты ударил этого парня. Нет-нет. Если бы тебя возмутила лишь низость захмелевшего от униформы подонка, ты бы высказал ему все, что о нем думаешь, обозвал бы его последними словами, опозорил, заставил бы покраснеть… Пощечина же, Мицуго… пощечина говорит о том, что ты ревновал его к Вере.
Беззвучно, про себя я стал было искать аргументы, чтобы поспорить с ним, – и незаметно заснул.
ПРАВИЛА
На вечерней заре пришел лейтенант Исаев и сделал мне укол. Потом сел рядом, глядя на дальние вышки и держа на сгибе моей руки ватный тампон.
– Вы как писатель известны в Венгрии?
– Нет. Я еще не писатель. Лишь сейчас начинаю серьезно думать об этом. Впрочем, несколько моих стихотворений опубликованы.
– Жена есть?
– Будет, если вернусь.
– Значит, кто-то вас ждет. Это хорошо. Это вам скорее поможет, чем я.
– Как-то не очень я верю, что сигналы, которые одна душа посылает другой, могут оказывать лечебный эффект.
– А я верю.
– Приятно, товарищ доктор, что вас интересует литература.
– Когда-то я тоже хотел стать писателем. Но знаете, я с таким благоговением отношусь к нашим великим классикам, что в конце концов отказался от этой идеи. У нас многие сейчас злоупотребляют письменным словом. Стать писателем в наше время легко. Немножко ловкости, немножко ума. К сожалению, государство у нас очень активно поддерживает писателей. Кстати, однажды я это заявил при свидетелях. Тогда меня во второй раз разжаловали в солдаты…
– Завтра вы придете сделать укол? – спросил я, не найдя что сказать.
– Надеюсь, – рассмеялся маленький хрупкий врач и объяснил: – Видите ли, то, что я вас лечу прямо тут, во дворе, против правил. В этом можно усмотреть нарушение. К счастью, я не обладаю способностью всегда находить в жизни правильные решения.
Он сложил инструменты в сумку.
– Спите нормально? – спросил он, щелкнув замком.
– Да. Иногда даже просто лежу, без сна, а в то же время как бы сплю. Смотрю на что-нибудь, а мне кажется, это сон.
– С болезнью это не связано. Такое бывает с каждым. Даже с людьми здоровыми.
– Вы торопитесь, товарищ доктор? – схватил я его за руку, когда он поднялся.
– Сегодня дел у меня очень много. И не ел я с утра, кажется. Надо что-нибудь поискать перекусить.
Он взял сумку под мышку и, не оглядываясь, помахал мне рукой. Больше я никогда не видел его.
ХУГО УЕЗЖАЕТ
Встающее солнце разрезало пополам трубу барака санобработки. Было пять часов утра. Какое бы время дня ни было, я научился точно определять час по положению солнца относительно различных лагерных построек.
В двери барака вдруг появился Хуго Шелл. На нем был белый мундир флотского офицера, костюм лейтенанта Брауна, американца. Золотые пуговицы на кителе сияли. Коричневые ботинки с полотняным верхом элегантно стучали по камням перед входом. Небрежно-аристократическим жестом он вскинул руку к черному козырьку офицерской фуражки.
– Доброе утро, Мицуго.
– Привет, Хуго. С утра пораньше – на репетицию?
– Не совсем, – сцепил за спиною руки Хуго Шелл, гордость моей труппы. – Понимаешь, я утром не мог заснуть, думал все – и кое-что надумал.
– Что же?
– А то, что не нравится мне в плену.
Он произнес это настолько естественным, доверительным тоном, что я рассмеялся.
– Не смейся, пожалуйста, это очень серьезно. Можешь поверить, я так утверждаю, потому что основательно все обдумал. Вообще не люблю говорить впустую… Собственно, жаловаться мне не на что. В лагере я в привилегированном положении, как-никак – актер. Роль ты мне в «Дочери колдуна» дал одну из главных. Понимаю, веду я себя не совсем благодарно по отношению и к судьбе, и к друзьям. Если честно, так лет десять, а то и двадцать вполне прожил бы я в плену без всяких особых затруднений. Но что делать, такой у меня характер: не могу долго сидеть на одном месте. Словом, прощаться пришел я с тобой, Мицуго.
– Что-что?
– Прощаться. Решил расстаться с лагерем и поехать домой.
Я решил поддержать шутку. Свежий утренний воздух и необычное для лагеря сияние белого мундира заставили меня даже забыть про свою болезнь, и каким-то давним, в далеком детстве увиденным, комично-аристократическим жестом я протянул ему руку.
– Ну что ж, дорогой Хуго, храни тебя бог.
– Сервус, Мицуго. И тебе всего наилучшего. Выздоравливай поскорей, – принял он мою шутливо поданную ему руку.
– Смотри не забывай меня.
– Не забуду, Мицуго. Я ведь в самом деле тебя полюбил.
– Я тоже буду всегда тебя помнить.
– И не обижайся, что я тебя бросил перед самой премьерой.
– Ах, какие пустяки, право. Счастливого пути, милый Хуго.
– Спасибо.
– И как ты собираешься покинуть наш уютный лагерь?
– Через главный вход, разумеется.
Он обнял меня, опустил осторожно на доски, еще раз стиснул мне руку и направился прямо к воротам.
Шутка его показалась мне гениальной. Я вновь приподнялся, опираясь на локоть; движение это на сей раз не доставило мне ни малейшего неудобства.
Хуго Шелл, сунув руки в карманы, шел спокойной походкой к металлическим, наверху увенчанным колючей проволокой воротам с полосатым шлагбаумом. Я решил, что он слишком приблизился к опасной черте. Я хотел крикнуть, предупредить его, мол, довольно валять дурака, – но голос застрял у меня в горле. Хуго Шелл прошествовал мимо больших ворот – через них въезжали в лагерь грузовики и входили большие колонны военнопленных – и направился прямо к посту с охраной. Я в испуге закрыл глаза, ожидая выстрела, а когда снова открыл их, увидел, как Хуго Шелл небрежно козырнул часовому и тот по-уставному отступил в сторону, открывая ему путь к шоссе, ведущему в город.
ПОПРАВКИ
Какое-то время я думал, что все это мне приснилось. Или привиделось в полубредовом – я ведь был болен – состоянии. Но прошел час, другой, и не осталось сомнений, что старый шут в самом деле покинул лагерь. Началось следствие, розыски беглеца, но никто в лагере так никогда и не узнал, схватили его или нет. Не знал ничего даже Геза Торда. Я помалкивал про наш разговор, сохранив в себе память о чуде, тайной которого не мог ни с кем поделиться, чтобы меня, не дай бог, не сочли сумасшедшим.
– Где нам взять теперь лейтенанта Брауна? Вот вопрос, Мицуго. А если найдем, встает новый вопрос: сможет ли он за неделю выучить роль? – озабоченно говорил Торда, сося едва видный в пальцах окурок.
– Сыграй Брауна ты, – с искренним воодушевлением сказал я.
– Я же петь не умею.
– Хуго тоже не умел.
– Нет, нет. В жизни, Мицуго, я за любую роль возьмусь, но о сцене не хочу даже думать.
Пришел Кутлицкий, прервав наш спор. Лицо его было хмурым и озабоченным.
– Как вы себя чувствуете?
– Спасибо, лучше.
– Вам ничего не нужно? Нет никаких особых пожеланий?
– В каком смысле, товарищ Кутлицкий?
– Ну, вообще… пожеланий?
– Каких пожеланий?
– Не знаю. Каких угодно. – В его голосе звучало нетерпение.
– Нет. Никаких особых пожеланий у меня не имеется, – вздохнул я растерянно.
– Мы вот, товарищ Кутлицкий, ломаем голову, – сделав официальное лицо, вмешался в разговор Торда, – кем заменить до премьеры сбежавшего актера?
– Для этого я и пришел, товарищи. Решение есть. Я нашел. Я видел почти все репетиции, и вот что мне пришло в голову. Этот американец совершенно не нужен в пьесе. Его надо выбросить.
– Выбросить? – вскинулся я.
– Да. Выбросить, и все.
– Простите, но как можно из пьесы взять и выбросить роль?
– А что тут такого?
– Действие же развалится.
– Ерунда. Подумаешь – действие. Устаревшие предрассудки.
– Вы, товарищ Кутлицкий, считаете, что действие – предрассудок? – переспросил я, силясь понять, не бред ли все это.
– Нечего цепляться к словам, – побагровел политический руководитель театра. – Ваше мнение, товарищ Торда?
– Как раз об этом я и размышляю, – прозвучал тихий и четкий ответ писателя.
– Размышляешь о том, каково твое мнение? – спросил я, чувствуя, что сейчас мне станет плохо.
– Обо всем размышляю, Мицуго. О нашей жизни. Наша жизнь как предмет действия – так можно назвать мои размышления.
– Я слушаю вас, товарищ Торда, – сдвинул брови наш всемогущий начальник. – Объясните, что вы думаете о предмете и вообще.
– На это дело тоже нужно смотреть с политической точки зрения, – спокойно продолжал Торда. – Я полагаю, в этом краеугольный камень проблемы.
– Точно. Каждая отдельно взятая проблема – это проблема политическая, так что вы, товарищ, смотрите в самый корень данной проблемы.
– Вот над этим я и размышляю. Дело в том, что с политической точки зрения ситуация в пьесе та же, что и в жизни. Другими словами, четырех союзников мы не можем превратить в трех. Ведь Америку взять и выбросить невозможно, верно?
– Вот тут-то как раз и загвоздка, товарищи. Мне еще на репетициях показалось, что многовато в пьесе морских офицеров. Ну, советский лейтенант – это, конечно, нужно, англичане тоже пусть будут, их много бомбили, французы там еще… не скажу, что без французов никак нельзя, да ладно, пускай, раз уж так в пьесе написано. А вот американский офицер – это уже перегиб, причем перегиб капиталистический, который нам наносит ущерб. Нужно стараться, чтобы таких перегибов не было. Америка и без того норовит Советский Союз как-нибудь объегорить, это вы как военнопленные еще не вполне способны понять, но не оставлять же из-за этого перегиб в пьесе. Обстановка вещей вам понятна?
– Ваши объяснения очень полезны для нас, товарищ Кутлицкий! – кивнул Торда, изобразив благодарное внимание на лице.
– Рад, что вы проникли в проблему, товарищ Торда.
– Да, Мицуго, лейтенанта Брауна мы выбросим. Все равно играть его некому. К тому же имеет место перегиб, который нам осветил здесь товарищ Кутлицкий. Так что гордиев узел, считай, развязан.
– Вот-вот! – довольно подтвердил наш политический руководитель. – А шутки его мы разделим между прочими офицерами. Я тоже знаю пару свеженьких анекдотов, можно будет их вставить в спектакль. Значит, мы это решили, товарищи, и на ближайшей же репетиции проведем в жизнь.
Он ушел. Торда элегантно откозырял ему вслед.
– Положись на меня, – обернулся он в мою сторону, когда Кутлицкий ушел. – На завтрашней репетиции я лейтенанта Брауна удалю так, будто его никогда и не было. Увидишь, успех от этого будет не меньше.
– Геза!.. – закричал я в отчаянии.
– Не волнуйся. Думай о Вере: в эти исторические часы у нее, по-моему, сердце больше всех болит о тебе. Ты должен, Мицуго, настроиться на волну.
Он подмигнул мне и ушел восвояси.
КОМИССИЯ
На следующий день, выполняя свое обещание, Геза убрал лейтенанта Брауна с тропического острова, а вместе с тем вычеркнул и из войны. «Дочь колдуна» меня больше не интересовала. Все члены труппы помалкивали о случившемся. Торда загадочно улыбался, я чувствовал себя без врача все слабее.
Через четыре дня, в восемь часов, в пятом бараке появился Кутлицкий и сообщил артистам, что сегодня на генеральной репетиции будет присутствовать советская комиссия из высоких военных чинов: среди них – генерал, два полковника, два майора.
Я попросил, чтобы меня перенесли на другое место, повыше, откуда был виден театр. Мне хотелось взглянуть на высоких чинов. Меня высокие чины всегда очень интересовали. Наверное, как Шекспира – коронованные особы. Человек, облеченный властью, интересовал меня потому, что театральность стоящего выше других всегда ярче, заметнее, чем у людей заурядных, не выделяющихся из массы.
Когда Гитлер напал на Францию, я отбывал воинскую повинность в Ретшаге, в велосипедном батальоне. Я служил всего несколько дней; во дворе казармы меня вдруг остановил какой-то майор.
– Скажите-ка, вольноопределяющийся: как вы считаете, что ждет Германию в этой войне?
– Позвольте доложить, господин майор: я не военный специалист.
– Ладно, ладно… А все же, чего бы вам больше хотелось? Хотели бы вы, чтобы Гитлер выиграл войну?
– Разрешите доложить, господин майор: нет, не хотел бы.
– Хорошо, сынок, вижу, что вы настоящий венгр. Какая у вас профессия?
– Актер.
– Хорошо. Если что понадобится, обращайтесь ко мне. Спросите майора Чобота. И будьте поосторожней. Среди офицеров полным-полно швабов.
Господи, что за прекрасный сценический эпизод это был: полнокровный, возвышающий, неправдоподобный. А позже, уже здесь, в лагере, как захватило меня одно недавнее зрелище: шествие немцев-денщиков, что, в белоснежных передниках и колпаках, на огромных подносах, уставленных фарфоровыми кувшинами и чайниками, несли своим хозяевам-генералам горячий завтрак. Я побежал за ними, чтобы хоть глазом одним заглянуть в украшенный бумажными занавесками генеральский барак, где пол был устлан коврами, а на столе красовались в стеклянных вазах букеты бумажных цветов. Никогда не забуду аристократические, продолговатые лица, ноги в начищенных до зеркального блеска сапогах, с достоинством вышагивающие по коврам.
И вот я вижу, как входят в лагерный театр советские офицеры высокого ранга. Сцена – неподражаемая; написать бы мне когда-нибудь пьесу, где было бы место и для подобных сцен! Вот о чем думал я в те минуты, когда генерал с майорами и полковниками в сопровождении двух десятков офицеров помельче появились в поле моего зрения. Все они, кроме разве что генерала, были высоки ростом и шли от джипов к бараку широким, уверенным шагом. У входа в барак стоял Геза Торда и радушно, как настоящий хозяин, отдавал честь каждому из гостей; рядом с ним вытянулся, словно аршин проглотив, Кутлицкий. Все они скрылись внутри, и через несколько минут зазвучала музыка увертюры.
Репетиция шла до полудня. Слыша то и дело прерывающиеся, затем снова и снова возобновляемые музыкальные номера, я понимал, что со спектаклем не все в порядке. Ровно в двенадцать комиссия вышла; Торда козырнул двадцать пять раз; Корнель Абаи и военный оркестр снова исполнили увертюру. Кутлицкого не было видно; джипы, взметая пыль, покатили к шлагбауму. Тут Геза Торда с легкостью стайера побежал прямо ко мне.
– Мицуго, ты победил, – встал он передо мной и отдал мне честь, точь-в-точь как советским офицерам. – Высокая комиссия нашла в оперетте один-единственный недостаток: если речь идет о союзниках, то почему нет американского офицера? Я доложил, что американец изъят по настоянию нашего политического руководителя товарища Кутлицкого. Слабое знание русского языка помешало мне точно понять, какими эпитетами они наградили Кутлицкого за самоуправство; сам он мне почему-то эти детали не перевел. Словом, лейтенант Браун опять выходит на сцену. Поздравляю.
Он поцеловал меня в лоб.
– Геза, дай тебе бог здоровья. Только ты не сказал, кто будет играть американца вместо Хуго Шелла.
– Кутлицкий. Сам вызвался. Белезнаи как раз разучивает с ним танцы.
«Мы союзники, парни бравые…» – вновь загремел третий барак.
ПРЕМЬЕРА
Утро 21 апреля было по-летнему теплым. Каждая пылинка на грешной земле сияла, отражая солнечный свет. В душные предобеденные часы ожидание вечерней премьеры чуть было не оттеснила на задний план разнесшаяся по лагерю весть, что всем евреям скоро можно будет вернуться домой. Енё Бади, вратарь и наш декоратор, открыл нам свою величайшую тайну.
– Дело, видите ли, в том – я до сих пор об этом молчал, – что в сущности я еврей.
– В прошлый раз ты словаком назвался, – напомнил я. – Даже хотел присоединиться к словакам, которых отправляли на родину.
– Все верно. Я – словацкий еврей, в этом все дело. Просто тогда мне не повезло, я не смог доказать, что живу в Словакии.
– А то, что еврей, ты доказать сможешь?
– Смогу.
– Не понимаю. Как ты тогда оказался в армии. Евреев же забирали в рабочие команды, а в регулярную армию не пускали.
– Фальшивые документы, в этом все дело. Мне спортклуб их добыл, я им как вратарь был нужен. Я подробно все потом расскажу, а сейчас побегу, чтобы не опоздать записаться. Не смотри на меня с таким подозрением, у меня доказательства есть: обрезание мне сделали как положено, в этом все дело.
Он убежал. И, вернувшись к полудню, охмелевший от счастья, заметался, собирая свои пожитки: доказательство помогло, в два часа отправляется транспорт.
– Отвезешь на родину письмецо, Енё? – спросил я, отыскав отложенный про запас лоскуток туалетной бумаги.
– Разумеется, дорогой, – с дружеской снисходительностью отозвался художник. – Пиши, несколько минут у меня еще есть.
«Я жив, здоров, люблю тебя, надеюсь в этом году быть дома. М.».
Вот и все, что я написал Вере. Написал корявыми, расползающимися буквами, но почерк мой все же можно было узнать.
– Удачи, Енё, – попрощался я с ним.
– Успеха сегодня вечером, – пожал он мне руку.
– Спасибо.
– Знаешь, теперь, когда дело сделано, скажу тебе по секрету: никакой я не еврей. Просто в детстве была небольшая операция в том самом месте. Понимаешь? Дурак я, что ли, чтоб не использовать такой шанс?
И он умчался на площадь, где строились в колонны бывшие рабочие трудовых команд.
Около двух часов дня, когда солнце пекло нещадно, прибыли огромные военные грузовики. На них привезли меховые шубы и шапки; охрана распределила одежду меж отъезжающими. В три часа машины двинулись к станции. Кто-то сказал, что бывших трудообязанных пока повезли работать на север.
Торда, пожав плечами, смотрел вслед грузовикам.
– Реальность – это самая интересная сторона человеческих заблуждений… Ну, Мицуго, давай готовиться. Сейчас я умою тебя, побрею, а вечером поведу в театр, на первую в твоей жизни премьеру.
Опираясь на его руку, я вошел в семь вечера в театральный барак. Он же меня поддерживал, когда я после спектакля раскланивался перед ревущей в восторге публикой.
Всю нашу труппу, включая Корнеля Абаи с его музыкантами, Торду и меня, повезли на машинах в поселок советских офицеров, где комендант, поаплодировав нам, сообщил: с завтрашнего дня нам разрешается передвигаться свободно, мы не имеем права лишь покидать, до отправки домой, город. На торжественном ужине за каждого из нас поднимали по нескольку тостов. Кутлицкий, огорошенный нежданным актерским успехом, упился до положения риз. Меня – как больного – угощали медовым вином. Белезнаи к полуночи повторил свой танец великого колдуна. Калман Мангер вальсировал с русскими женщинами-офицерами, гибкий, изящный, будто на каком-нибудь московском балу в прошлом веке. Один пожилой офицер – в прошлом учитель музыки в Ленинграде – разучил с Эрнё Дудашем арию Григория из знаменитой оперы «Борис Годунов». Голос Дудаша до отказа заполнил ночь, возносясь к самому небу, наподобие башен кафедральных соборов. Палади снова продекламировал письмо Татьяны к Онегину и снова, как в день отбора, был награжден громовыми аплодисментами. Но наибольший успех выпал на долю Арпада Кубини, нашей неподражаемой примадонны. Мужчины и женщины смотрели на него с одинаковым восхищением, всем хотелось с ним чокнуться, какая-то девушка в военной форме попросила у него автограф, ему дарили цветы, шоколад, и многие прослезились, когда он печальным, пронизанным сдержанной страстью женским голосом, вздыхая прерывисто, спел: «Меня не беспокоит, что завтра мне откроет, мне лишь твоя любовь важна, все прочее – пустое…»







