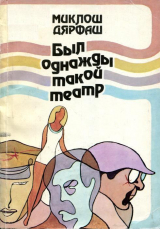
Текст книги "Был однажды такой театр (Повести)"
Автор книги: Миклош Дярфаш
Жанр:
Повесть
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 19 страниц)
– Знаете, товарищ Мереи, вам надо бы сыграть в новой венгерской пьесе, и как можно скорее. В пьесе на современную тематику, – тихо и задумчиво сказал заместитель министра, пронизанный лунным светом.
– Я уже сделал в кино несколько попыток по отображению современности.
– Не надо на это ссылаться. Мы очень хорошо знаем ваши заслуги в этой области. И были бы очень рады, если бы вы и на сцене предприняли такие шаги.
– К сожалению, с драматургами у нас дела обстоят не так хорошо, как с киносценаристами.
– Знаю, но все же у нас есть таланты, которые мы не используем в достаточной мере. Вот, например, этот Форбат.
– Но ведь товарищ замминистра знает, какую резкую оценку получило творчество Форбата на театральной конференции, и я тоже критиковал его за буржуазные методы.
– И очень правильно сделали. Форбату это наверняка было на пользу, и он будет счастлив, если мы предоставим ему возможность сделать правильные выводы. Знаете, о ком надо было бы написать пьесу этому Форбату? О чугунолитейщике. Что вы на это скажете, товарищ Мереи?
На террасе было прохладно. Потому я так хорошо и помню весь разговор: когда я мерзну, у меня потрясающе хорошо работает голова. Я настоящий холодильник, во мне сохраняются свежими чужие слова.
Было похоже, что они окончательно обо мне забыли. Если бы я сжалась и, к примеру, превратилась в мышь, они бы этого не заметили. И тут между ними начался разговор, из которого, несмотря на прохладу, я не поняла ничего. Речь зашла о действительности, о том, что то, что мы видим, вроде бы и не действительность, а что-то другое, но что именно – об этом они выразились совершенно научно.
2
Как хорошо в ванной думать! Голубая плитка отовсюду отбрасывает на меня свой голубой отсвет. Если я совсем чуть-чуть шевелюсь, вода тоже приходит в движение и пробегает вдоль всего тела, от пальцев ног до подбородка. В самом деле, какая она, действительность? Я никогда еще не задумывалась серьезно над этим вопросом, но теперь попробую. Наговорю в воду, как в большой микрофон, в котором и сама целиком помещаюсь. Наговорю в саму себя. Как смеялась бы Марика, окажись она сейчас в бассейне, если бы ей, лапоньке, не надо было маяться в школе!
– Словом, действительность – это, например, лежу я на следующий день после премьеры в саду под цветущими деревьями, а когда открываю глаза, вижу, что на улице стоит длинная извилистая очередь из одних почтальонов и очередь эта продолжается до самого моста Маргит. Я с интересом разглядываю уходящую в бесконечность почтальонскую очередь и тут замечаю, что у всех у них огромные пачки писем. Вот очередь всколыхнулась, пришла в движение, почтальоны один за другим складывают передо мной пачки писем. А случилось вот что: Всемирная почтовая федерация по случаю моего необычайного успеха в пьесе «Счастье» постановила все доставляемые в этот день письма со всего света переправлять на мой адрес. Подходят почтальоны, сыплют к моим ногам конверты, и постепенно весь сад покрывается конвертами: белыми, голубыми, зелеными, желтыми – с яркими марками, на которых пестреют шестеренки, розы, пирамиды, электровозы, львы, королевы, развалины замков, революционеры, птицы, папы, игроки в водное поло, атомные устройства; гора писем все растет: сначала она покрывает газон и клумбы, потом по пояс фруктовые деревья, наконец наш дом и сад совершенно затоплены потоком писем. И тогда в вышине, на вершине горы, я начинаю читать письма. На всех языках мира я читаю о том, что кто-то не может больше жить без кого-то, как много страдал перед смертью бедный дядюшка Н., что на свете нет младенца прелестнее, чем у П., что по случаю дня рождения его высочества или по случаю смерти президента принимают от нашего правительства самые искренние пожелания успеха, а также выражения соболезнования. Да, если бы я прочла все покрывающие наш сад личные, представляющие общий интерес и дипломатические письма, я могла бы узнать действительность, но и в этом случае лишь настолько, насколько отражает ее один день, да и из этого одного дня только те, едва значимые частности, о которых написано в некоторых письмах. «Уважаемые слушатели! Вы слушали заявление о действительности Каталин Кабок, исполнительницы главной роли в пьесе «Счастье». Передача будет повторена завтра в это же время».
Если бы мне тогда пришло это в голову! Я бы рассказала Лаци и замминистра. Но тогда мне ничего не приходило в голову, вследствие чего и я не пришла им в голову. В день свадьбы мне казалось, словно меня и нет вовсе и я только каким-то образом сама себе мерещусь.
3
Однако в доме, в холле, преобразованном в буфет, куда я просочилась незаметнее сквозняка, я вновь вернулась в действительность и обрела плоть. Меня изучали любопытные взгляды, на меня сыпались мудрые улыбки стареющих актрис.
– Какая ты славная и молоденькая, милочка, немудрено, что Лаци потерял голову, – сладко проговорила одна выдающая себя за пятидесятилетнюю шестидесятилетняя дама.
– Как будто в первый раз, – вступила еще одна декорированная мумия.
– Насколько мне известно, у вас всего-навсего шестнадцать лет разницы, – вдруг брякнула как расстроенная арфа третья, – в самом деле пустяки. Через шестьдесят Лаци будет девяносто пять, а тебе семьдесят девять.
Все три поцеловали меня. И тут я встретилась взглядом с одним моим театральным кумиром. Глядя на меня с пониманием, ко мне приближался высокий, стройный пожилой господин.
– Что делать, актеры довольно смешная порода людей. Есть, правда, и исключения. Меня, например, не интересует публика. Я играю не для нее.
– А для кого? – уставилась я на своего кумира.
– Для себя. Я делаю это из удовольствия.
– О…
– Вы удивлены?
– Очень.
– И хорошо делаете, милая. Человек должен удивляться, пока может.
Он с улыбкой кивнул мне и отошел.
– Старый дурак, – услышала я у себя над ухом даже в шепоте приятный глубокий голос.
Я повернулась. На меня, дружелюбно моргая, смотрел толстый кинокомик.
– Знаете, это искусственный человек. Не настоящий. Всего шестьдесят девять кило. Ну что тут скажешь? Надеюсь, вы на правильном пути и должным образом цените толстых мужчин.
– Естественно, – пролепетала я.
– Тогда привет. – Он похлопал меня по щеке. – Знаешь ли, детка, мужчина начинается со ста килограммов. Я бы даже сказал, что ниже этого веса человек не может быть настоящим человеком. Худоба – величайшая беда на свете. Посмотри вокруг, детка! Все интриганы театрального мира костлявые. Доброта и понимание способны удержаться лишь в красивом толстом теле.
Он еще раз потрепал меня по щеке и стал прокладывать себе дорогу к официанту, который вынес из другой комнаты поднос, уставленный рюмками с вином.
Всего я не помню, я в ужасных мучениях трепыхалась в компании без Лаци. Папа, под задорный хохот вцепившейся в него молодой актрисы, с мрачным лицом прошел мимо меня. Мама вымученно улыбалась несимпатичному замминистра, затеявшему с ней разговор о жизни современных домохозяек. Театральный критик с улиточьим лицом, тот, что в позапрошлом году пострадал в автомобильной катастрофе, поинтересовался, не привлекает ли меня актерская карьера.
Я без колебаний и, возможно, даже немного агрессивно ответила:
– Я стану актрисой.
– А как ваш муж оценивает ваше дарование?
– Он от меня без ума. – Я вызывающе посмотрела на гостя, который, сама не знаю почему, был мне неприятен.
Он, бедный, всегда, до самой своей смерти, писал обо мне плохо, хотя видеть мог лишь в таких маленьких ролях, которые даже не упоминались в афише. Он написал обо мне в роли Третьей продавщицы в пьесе «Голубое воскресенье»: «Каталин Кабок всего лишь тридцать секунд находилась на сцене, но и эти тридцать секунд показались зрителю слишком долгими». Лаци, который никогда не пользовался своим авторитетом, если дело касалось меня, настолько рассвирепел от такой злобности, что позвонил председателю Союза журналистов и потребовал исключения улитколицего.
– К сожалению, не могу этого сделать.
– Почему? – закричал, выйдя из себя, Лаци.
– Я только что получил известие, что на подъезде к Секешфехервару он на своей машине врезался в дерево на обочине шоссе и скоропостижно скончался.
Я разрыдалась. И сейчас, в ванне, готова заплакать, думая о бедном улитколицем, и, ей-богу, была бы рада, если бы сегодня вечером он сидел в театре в первом ряду, и даже не возражала бы, если бы он написал плохо об этой моей роли, которую – я это чувствую – сыграю очень хорошо.
Как многих из тех, кто бывал у нас в гостях за прошедшие десять лет, уже нет! Не одна сотня людей побывала в нашем доме за это время: актеры, критики, директора сберкасс, члены совета, партийные деятели, – Лаци любит общество.
4
И тогда, на другой же день после свадебного ужина, он пригласил нового гостя. Дюри Форбата.
Лаци был с ним восхитителен. Он встретил его вопросом, нет ли у него новой пьесы. Выяснилось, что есть. Они съездили на машине на квартиру к Форбату за рукописью, и застигнутый врасплох писатель в девять часов вечера, сидя за нашим маленьким журнальным столиком, с горящим лицом читал свою пьесу «Что же завтра?». Пьеса рассказывала об одном архитекторе, который, не веря в прогресс человечества, в своем собственном доме с членами своей семьи создает то прекрасное общество, о котором мечтали великие революционеры.
Мне казалось, что я слушаю хорошую и интересную пьесу, и по прочтении я наградила ее восторженными аплодисментами. Однако Лаци не хлопал. Он сидел вытянув вперед голову и молчал. Форбат отчаянно смотрел на меня, а я не знала, как ответить на этот его взгляд, и потому с сочувствием деликатно опустила глаза.
– В этом таится возможность шедевра! – неожиданно воскликнул Лаци. – Я до тех пор не выпущу тебя отсюда, покуда ты этот шедевр не создашь.
Он схватил рукопись и повел писателя в комнату для гостей. Три недели они там жили оба, мне позволялось заходить к ним, лишь когда мы с тетей Марией накрывали им на стол или выгребали из разных углов комнаты сотни перемаранных выброшенных страниц.
Тут я впервые поняла, что это такое, то, что называется творческой лихорадкой. Лаци в это время не брался ни за какие роли в кино, ни за работу на радио: днем и ночью, можно сказать – беспрерывно, он работал с Форбатом. Через неделю к нам пришли директор Большого театра, секретарь Государственного совета профсоюзов, симпатичный замминистра и председатель Союза писателей; они провели несколько часов в святилище, куда мне даже вступать было запрещено.
Вторую ночь своего супружества я провела дрожа в одиночестве и – признаюсь в своей слабости – хныча, но вскоре мне удалось справиться с этой недостойной творческого человека мелочностью. На второй неделе я уже гордо плакала все мои бессонные ночи напролет. С высоко поднятой головой я ждала: вдруг Лаци все же придет ко мне; и когда он не приходил, я чувствовала, что поднимаюсь еще на одну ступеньку в воспитании твердости духа.
В первый день третьей недели, на заре, в мою спальню ворвались двое бородатых мужчин.
– Пьеса готова! – проорали они, обнимаясь.
Сорок человек слушали в тот вечер пьесу «Что же завтра?». Только тогда я по-настоящему осознала, насколько глупа. Я не помнила, чтобы уже однажды ее слушала! Даже теперь, десять лет спустя, лежа в этой ароматной, пахнущей хвоей, воде, я продолжаю думать, что, когда Форбат читал свою пьесу впервые, главным героем был архитектор, а не чугунолитейщик.
Как бы там ни было, все приглашенные с воодушевлением аплодировали. Все жали Форбату руку и заранее желали Лаци удачи в его роли, явно тянущей на премию имени Кошута. Во время восторженных рукопожатий Форбат снова искал моего взгляда, как при первом прочтении. Но теперь я не смела смотреть ему в глаза, не смела, потому что новая пьеса мне совершенно не понравилась.
Гости один за другим торжественно и восторженно отзывались о пьесе. Лишь я молчала, с завистью слушая страшно умные, для меня непонятные рассуждения симпатичного замминистра, профсоюзного секретаря, председателя Союза писателей и остальных выступавших. Господи, вздохнула я про себя испуганно, ну почему же я такая глупая?
ПОКУПКА ТУФЕЛЬ
1
Туфли! Да, вчера на генеральной репетиции мне показалось, будто театральные туфли немного жмут. Быстрей из воды, пока не поздно, через час у меня будут туфли, какие я захочу; все должно быть идеальным, даже чуть-чуть неудобные туфли могут помешать на премьере.
Я люблю вытираться! Великолепное чувство, когда по тебе пробегает уйма махрушек и вытирает досуха. Ух! Совсем жарко стало. Вот сейчас я бы ни за что на свете не посмотрелась в зеркало. После ванны – нет: это уж было бы тщеславием, а я не тщеславна, просто умею ужасно радоваться жизни.
«Дор. Лац! Ушла покупать туфли, спи, а если проснешься, заезжай за мной на машине в кондитерскую на Вёрёшмарти. Жду тебя от десяти до половины одиннадцатого. Целую. Тв. сч. жен. Кат.».
Я прикалываю записку к его одеялу, он крепко спит, и у меня не хватает духу его разбудить. Сокращениями я пользуюсь потому, что и ими выражаю свою любовь, по-моему, «Кат» гораздо эротичней «Кати»! Кат! Это таинственно, волнующе, женщину по имени Кат можно вообразить прогуливающейся теплой лунной ночью по палубе океанского лайнера, а Кати – только на кухне в фартуке в горошек.
Вот и автобус. Это хороший знак, что мне не приходится ждать ни секунды на остановке. Сегодня весь мир – огромная гадалка, которая всяческими знаками подает мне вести о будущем. Она хочет, чтобы я поверила в успех, потому и автобус – вот он. И я верю в успех, но он ведь непредсказуем. Десять лет назад, например, мне не верилось, что спектакль «Что же завтра?» будет иметь успех. А успех был потрясающий, он принес Лаци вторую премию имени Кошута, на которую мы купили новую старинную мебель. Чугунолитейщик в исполнении Лаци вдохновил многих художников и скульпторов, его в качестве примера поминали на театральных дискуссиях; и Дюри Форбат, который, между прочим, не был доволен своим произведением, тоже сказал, что ради Лаци стоило «смонтировать» эту пьесу.
Я смотрю на витрины, витрины смотрят на меня. В стеклах отражаются мужские фигуры у меня за спиной, за мной наблюдают.
Меня все же узнают иногда на улице по нескольким эпизодическим ролям в кино и одной-двум телепередачам. Главным образом мужчины. Я смотрю на туфли сквозь стекло, залепленное мутными мужскими отражениями, и думаю о частной актерской школе вдовы Палади Михайнэ, хотя у меня нет сейчас на то никаких причин. Господи, да как же нет, ведь через витрину я вижу магазин, где сейчас одна очень похожая на тетю Палади дама примеряет туфли. Конечно же, это не тетя Палади, она уже умерла. Хотя можно вообразить, что в такие вот погожие весенние дни она наведывается сюда, на улицу Ваци, и вместо вечности наслаждается примеркой красивых итальянских туфель.
Тетя Палади была очень плохой актрисой, но безукоризненной вдовой. Она с большим усердием сохраняла память о своем муже, вследствие чего, принимая во внимание его выдающиеся заслуги в области театрального искусства, ей удалось добиться от государства разрешения на открытие частной актерской школы.
Полтора года ходила я в ее школу, после того как Лаци мою новую попытку поступления в институт счел несовместимой со своей преподавательской деятельностью. Я и не возражала, главное – что я могу учиться, практиковаться, стать актрисой.
– Лев! – кричит тетя Палади в начале урока.
Мы все принимаемся грозно рычать, долго растягивая звук «о».
На уроках речевой техники у тети Палади, подражая голосам животных, мы овладели правильным произношением гласных звуков.
– Тюлень!
Это была команда к лаеобразному повторению короткого звука «у».
– Коза!
И мы, посредством блеяния, приступали к упражнению над звуком «э».
Я захожу в обувной магазин. Вблизи дама, покупающая туфли, уже не похожа на тетю Палади. Тетя Палади была очень красивая. Особенно на нас действовал теплый цвет карих глаз. Мы уважали ее, даже когда она заставляла нас блеять.
Собственно актерской игре нас обучали доктор «Огонь» и доктор «Вода». Мы дали им эти прозвища потому, что обучали они по совершенно противоположным друг другу методикам.
– Только никакого вживания. Чувства надо экономить. Дисциплина, точность – вот секрет актерского мастерства, – выговаривал доктор Вода студенту, который попытался сыграть этюд с полной отдачей.
– Что это за инженерная точность, сынок? У вас нет сердца, что вы мне здесь мозгами играете? – обрушивался на нас доктор Огонь, когда на крохотном помосте, изображающем сцену, мы начинали с ним работать после урока его антипода.
Когда я рассказала Лаци, как нас учат, он только посмеялся, сказав, что актерской игре можно научиться и без школы, на сцене.
У меня прошла охота к учению, но я все же еще некоторое время ходила в школу. Окончательно я рассталась со школой тети Палади, когда уже пятый месяц носила под сердцем Марику. Однажды на уроке речевой техники во время упражнений на звук «о» один коллега, дипломированный астроном, осваивавший еще и актерское мастерство, вдруг шепнул мне на ухо:
– Скажите, Кати, вы не боитесь, что, если еще некоторое время будете сюда ходить, в конце концов родите маленького здоровенького львенка?
Астроном страшно меня напутал, поскольку я всегда очень живо представляю то, что говорят. Вот и тогда я тотчас увидела себя, как я гуляю по Холму роз, везя перед собой голубую коляску, а в коляске в белом кружевном чепчике добродушно скалится маленький львеночек.
– Ах, какой славный малыш! – слышу я мелодичный голос примадонны с пятнадцатисантиметровой улыбкой (она несколько лет назад была любовницей Лаци). – Девочка или мальчик?
2
В обувном магазине на меня смотрят с любопытством. Ко мне подходят сразу две продавщицы. Я уже привыкла к этим взглядам. Но на этот раз любопытство вызвано исключительно моей внешностью. Эти меня не узнали.
– Чего желаете, сударыня? – спрашивает одна.
Я же говорила! Когда меня узнают, то называют «госпожа актриса». Я с досадой сажусь и ставлю ноги на покатую скамеечку.
– Я влюблен в твои ноги, – сказал Лаци, когда мы приехали домой с банкета после премьеры «Что же завтра?».
Мне очень хотелось, чтобы он рассказал о спектакле, объяснил, что в нем было такого особенно хорошего и нового, но он горячо затряс головой.
– Я желаю говорить только о твоих ногах, – немного пьяно прервал он меня, – таких легких, милых линий человеческий глаз нигде больше не обретет. Есть красивых линий плоды, листья, кристаллы льда, облака, и в геометрии можно найти поэтичные дуги, очаровательные подъемы, но твои ноги превосходят все, что до сих пор создала природа. Где ж мне искать бессмертие, боже ты мой, если не в твоих ногах?
Я испугалась. Потому что неожиданно – сначала за рулем машины, а теперь во второй раз – он без всякого перехода начал плакать. Потом он встряхнулся, словно вылезшая из воды на берег собака.
– Я немного лишнего выпил, Кати, вот и все, – рассмеялся он – тоже без всякого перехода, – протрезвев, – поди сюда, прочитай мне что-нибудь из Джульетты. Помнишь что-нибудь наизусть?
– Я всю роль знаю наизусть.
Никогда не забуду эту ночь. Он до рассвета играл со мной пьесу, поправлял меня, направлял, много советовал и ни разу не назвал дурой, хотя я была зажата более, чем когда-либо. Сцены с двумя действующими лицами мы прошли даже по нескольку раз, передвигая мебель с места на место, то есть меняя декорации, в исступлении колотили в стену и падали на ковер от счастливого смеха.
– Хороша я была, Лаци? – спросила я, счастливая и усталая.
Он молча улыбался. Улыбался мне ласково и устало. Постоял так некоторое время, потом лицо его посерьезнело. Он поднял жалюзи, распахнул окно. Я поежилась от холодного утреннего воздуха. Лаци с благоговением смотрел на мои ноги.
3
Вспоминая эту ночь, я примеряю уже четвертую пару туфель. Две из четырех в общем вполне хороши. Легкие, изящные, удобные. Но я ищу еще лучшие. Великолепное чувство – погружать ноги в новые и новые туфли. Все взгляды обращены на меня. Маленький, кругленький и лысый директор магазина пялился на меня и ушами, и брюхом – просто одно огромное глазное яблоко. Одна из продавщиц шипит вокруг меня, словно дрессированная змея, моим ногам завидует, у другой руки дрожат от почтения, каждое ее движение выдает, что таких красивых ног она еще не видывала. Я считаю про себя, которую пару туфель мне несут. На двадцать третьей сердце мое настолько переполнено счастьем, что я уже больше не могу и прошу завернуть туфли, которые примеряла вторыми. Без пяти десять. Я направляюсь к кондитерской.
Я уверена, эти туфли просто необходимы для успеха премьеры. В воображении я уже стою в них на сцене и чувствую себя в десять раз увереннее. У меня даже голос становится чище, как подумаю о туфлях.
В правой руке у меня болтаются упакованные туфли. Человечество ожидает прекрасное будущее, такое, какое для него, вероятно, придумывает Дюри Форбат, когда покупает новую авторучку. Левой руке чего-то не хватает. Ей не хватает ладошки маленькой Мари. Не надо было мне сегодня отпускать ее в школу. «Удостоверяю, что моя дочь, Марика Мереи, сегодня не может посещать школьные занятия из-за приготовлений к премьере». Это был бы прекрасный литературный текст.
4
– Девушка, будьте добры: один кофе и пирожное без крема.
Большой бледно-лиловый зал кондитерской полон света. Здесь словно постоянно расхаживает взад-вперед некий прозрачный маляр.
Из-за пятого столика на меня скалится седая мужская голова. Это Хаппер, театральный ростовщик. Он сидит в обществе незнакомой молодой девушки. Хаппер – красавец мужчина, из той породы, на которых смотреть противно, до того красивы. Живет он тем, что дает актерам в долг под двадцать процентов. Другими видами искусства он не занимается, писателей, например, не финансирует, в них он не уверен. Я слышала о нем много плохого, поэтому обошлась с ним решительно и сурово. Правда, один раз я приняла его близко к сердцу.
– Госпожа актриса думает, что я какой-нибудь жестокий Гарпагон? Ну-ка, посмотрите! Видите эти двенадцать фотографий? Двенадцать могил, чистых, ухоженных, в цветах. Двенадцать прекрасных памятников. А знаете, госпожа актриса, чьи это могилы? Тех, чьи родные живут далеко, в Америке. Эти могилы покрыл бы бурьян, сорняки, если бы жадный и злой Хаппер не ухаживал за ними. Видите ли, госпожа актриса, это моя страсть, это моя неизвестная семья из двенадцати членов…
Я расчувствовалась. Даже устыдилась, что думала о нем плохо. А выяснилось, что Хаппер с этими своими могилами очень даже чувствительный человек и личность его совсем не исчерпывается гадким ростовщичеством.
Я вежливо, чуть ли не сердечно ответила на Хапперов оскал.
Кофе был вкусный, пирожное тоже. О! Половина одиннадцатого, а Лаци все еще нет. Неужели он так ужасно проспал? Мне начинают чудиться кошмары. Я вижу нашу машину, поднявшуюся на дыбы, Лаци сидит на капоте, и за спиной у него шуршат крылья.
В лиловом зале появляется высокая девушка и торжественно объявляет:
– Актрису Каталин Кабок просят к телефону.
Я встаю. Все на меня оборачиваются – и те, кому знакомо мое имя, и те, кто впервые его слышит. Я направляюсь к телефонной кабинке и чувствую, что походка у меня не слишком уверенная. Ничего не могу поделать, не могу я идти размеренно, когда на меня смотрят. От пристальных взглядов мягкое место у меня приобретает большую, чем надо, значимость, и возникший таким образом лишний вес вызывает покачивание в талии. Оно не слишком бросается в глаза, но чуждо моей натуре.
– Алло, кто это?
– Алло, дорогая!
– Лаци, это ты?
– Я.
– Ты что так опаздываешь?
– Послушай, дорогая! Я не могу приехать.
– Не можешь?
– Не могу. Приезжают французские актеры, я ответственный за прием, мне надо ехать в аэропорт.
Я, пошатываясь, возвращаюсь к своему столику. Теперь мне безразлично, смотрят на меня или нет. Расплачиваюсь и от расстройства даю официантке на чай целых три форинта. Все пропало. У меня вечером премьера, первая настоящая премьера. Лаци должен был бы встречать меня с большим букетом роз: хоть и в двадцать девять лет, но ведь я наконец-то сегодня вечером выступаю в Новом театре… Значит, никто не будет держать меня за руку? Марика в школе, папа, мама, с тех пор как на пенсии, в Залаэгерсеге, Лаци в аэропорту. Я одна с моими туфлями.
Я стою на площади.
– Алло! Квартира Форбата?
– Да.
– Это вы, Дюри?
– Я.
– Это я, Кати. Я на площади Вёрёшмарти, звоню из телефона-автомата возле книжного магазина.
– Хорошо, что позвонили. А я как раз пишу о вас.
– Тогда не буду вам мешать.
– Вы и не мешаете. Что нового?
– Я купила для премьеры замечательные туфли. Театральные, знаете ли, жали вчера на генералке. Я боюсь, Дюри, боюсь!
– Не бойтесь! Вы будете иметь успех.
– Неправда. Я провалю вашу пьесу.
– Не говорите глупостей! Даю вам честное слово, что с сегодняшнего вечера вы будете в числе трех первых актрис Будапешта.
– Мне плохо, Дюри.
– Господи, боже мой, вам плохо?
– Нет. Приходите сюда за мной и подержите меня за руку!
Я выхожу из кабинки. Дует слабый ветерок. Очень кстати. Какая последняя фраза третьего действия? «В этом наша ирреальность и наша поэзия». Разбуди меня среди ночи, я и тогда точно отвечу, какая фраза где находится в пьесе.
Я разворачиваю сверток. Господи, какие красивые туфли!
ПРОГУЛКА ПО НАБЕРЕЖНОЙ ДУНАЯ
1
Беда моя в том, что я очень горячая. Я не умею воспринимать события в их последовательности, все запутываю и, естественно, в большинстве случаев не понимаю, что происходит.
– Кого ждем, малышка? – слышу я рядом с собой.
Я не оборачиваюсь, рядом стоит тип, этакий бегемот на двух лапах, элегантный, как водится в центре города.
– Мужа, он у меня полковник полиции, – отвечаю я, демонстрируя свой бесстрастный, холодный профиль, я всегда так делаю – коротко и элегантно; остолбеневший тип тут же убирается.
Я, как героиня трагедии, не умею обуздывать свои страсти. К примеру, страсть, которую испытываю к Лаци. Слушайся я своего разума, мне было бы легче жить. Правда, поскольку я не отношусь к существам разумным, и из этого ничего хорошего не вышло бы.
2
Вот и в Париже беда была в том, что я не могла войти в положение Лаци и не понимала, почему он оставляет меня дома, в отеле, хотя знала – он ведь сказал, – что у него встреча с французскими актерами.
– Ты же ни слова не знаешь по-французски.
– Это правда, – признала я.
Он поцеловал меня и ушел, а я осталась в комнате, оклеенной бордовыми обоями, смотрела в окно, в квартиру напротив, где четыре негритянские девушки сидели вокруг стола и над чем-то смеялись. Потом мне наскучили негритянки и узкая улочка, и я легла спать.
– Я должна быть горда, – пыталась я себя уговорить.
И это действительно так, поскольку Лаци был первым актером, который после смерти Сталина смог поехать в Париж, правда, он и в роли Сталина был очень хорош. Мало того, и я с ним поехала, хотя у меня вовсе не было никаких заслуг. Мне было страшно уезжать, двухлетнюю Марику пришлось отвезти к родителям в Залаэгерсег: Мария чудесно с ней управилась бы, но я не могла доверить ей ребенка. Я знаю, что поступила с ней несправедливо, ведь Мария – в прошлом актриса Сегедского театра – для двухлетнего ребенка была достаточно интеллигентна.
– Я должна быть горда, – твердила я и дальше, и моя гордость действительно возрастала, когда я представляла себе, как Лаци в компании французских артистов непринужденно болтает о проблемах искусства, в которых я и по-венгерски ничего не понимаю.
К сожалению, я не сумела остаться верной своему трезвому настрою, через некоторое время после полуночи у меня разыгралось воображение. Сначала мне представились десять танцовщиц, кружащихся вокруг Лаци, потом количество танцовщиц по одной уменьшалось, наконец осталась одна, зато у него на коленях. И тут я заплакала.
От тихого эмоционального роняния жемчугов к трем часам ночи я перешла к рыданиям, в пять заголосила, а к тому времени, как Лаци вернулся, совершенно помяв свое красивое умное лицо, я способна была только твердить, что хочу умереть. Мои наручные часики, тикающие на мраморной столешнице ночного столика, показывали семь.
– Ты мне изменил! – тяжело дыша, истерически кричала я.
Он молчал.
– Ты был не с актерами, а с ночными дрянями!
Он и тут промолчал.
– Ты для того оторвал меня от ребенка, чтобы в этом несчастном Париже делать из меня идиотку?
Глубоко обиженный, он медленно раздевался. Я видела, что глубоко его обидела, задев его честь, и все же не смогла взять себя в руки.
– Да будет тебе известно, – продолжала я зло, – что Мона Лиза уродка, в Пеште Карчи Вукович делает куда более красивые фотографии. Ненавижу эту вонючую Сену с ее грязными мостами, эти вечные «мсье» да «мадам», я хочу домой, к ребенку…
Лаци молча, со страдальческим лицом сидел в постели и смотрел на меня, как святой Себастьян на своих пускающих стрелы мучителей, кротким, всепрощающим взглядом.
Он спал до трех часов дня. Когда он проснулся, я попросила у него прощения. Он улыбнулся мне, погладил по голове и простил.
Вот когда я должна извлечь урок из своего скандального поведения в Париже. У Лаци давние связи с французами, там его очень ценят, как это показала и та парижская ночь, к тому же он – авторитет, и его нельзя считать просто частным лицом, просто мужем, который пляшет на задних лапах под дудку жены. Ведь сегодня вечером именно благодаря авторитету Лаци и Форбату я наконец-то буду играть первую в жизни главную роль, я не могу отвлекать мужа от общественной жизни, которая без него не может обойтись.
В общем-то, я просто хотела немного поболтать. Снять разыгравшееся перед премьерой волнение. Бедный мой Лацика, какая же у тебя жена эгоистка!
3
А вот и Дюри Форбат поднимается из подземки. Он всегда ездит на трамвае. По непонятным причинам у него нет автомобиля. Лаци считает, что это он из форса. Этого я, правда, не понимаю, ну да ладно, сейчас возьму и сама спрошу у Дюри, почему он наконец не решится купить автомобиль. Как он встревожен сейчас!
Я протягиваю ему руку.
– Я уже в порядке.
– Вы меня очень напугали. И все же, что произошло, когда вы звонили?
– А, ничего, просто вдруг разволновалась. Из-за премьеры.
– Уже не боитесь провала?
– Нет.
– Тогда показывайте туфли!
– Пожалуйста.
– Красивые.
– Я рада, что они вам нравятся. Не хотите немного прогуляться?
Мы идем по нижней набережной. Дюри сжимает под мышкой мои туфли.
– Кстати, Дюри, почему вы не купите себе машину?
– Потому что я не хочу иметь машину.
– Вы не купите машину, даже если женитесь?
– Я не женюсь.
– Почему?
– Потому что не хочу жениться.







