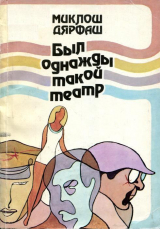
Текст книги "Был однажды такой театр (Повести)"
Автор книги: Миклош Дярфаш
Жанр:
Повесть
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 19 страниц)
– Вы шутите?
– Предположим.
На набережной сидят студенты университета: девушки, ребята, все держат в руках книги, а сами смеются.
Я встревожилась. Я знаю Дюри десять лет, за это время действительно надо было бы жениться. Ему тридцать семь лет, его пьесы ставят за рубежом, чего он ждет?
– Вы никогда не были влюблены? – вдруг спросила я.
– Я постоянно влюблен.
– Неужели?
– Конечно.
– И сейчас?
– Естественно.
– Надо же, вот уж не поверила бы.
Я не осмеливаюсь дальше приставать с расспросами. Он и так уже сказал страшно много. В том, что касается женщин, он самый скрытный мужчина в мире. Об этой стороне его жизни даже Лаци ничего не знает, а ведь он самый близкий его друг. В театральных кругах, конечно, всякое о нем болтают, поскольку всех сжирает любопытство. Однако все напрасно, раскрыть эту тайну не удалось никому. Я уже, например, слышала, что он нечувствителен к женским чарам. И даже еще кое-что похуже. Скверные сплетни и жалкие домыслы.
«Постоянно влюблен». Я рада, что он в этом признался. Может быть, после спектакля, если будет большой успех, он скажет и больше. Мне было бы спокойней, если бы я знала, что он счастлив.
Его пассия, мне так кажется, должно быть, страшно умная женщина. Эстетка, шекспировед или что-нибудь в этом роде.
– Как ты думаешь, Дюри, в двадцать первом веке Шекспир будет так же популярен, как сейчас? – спрашивает утром в постели дама-эстетка в пижаме.
– Думаю, да.
– А по-моему, он будет еще популярнее.
– Почему?
– Потому что драма сейчас ужасно деградирует.
– Где?
– Везде. Исключая, разумеется, венгерскую драматургию.
– Ух ты!
– И в первую очередь твои пьесы.
– Конечно, но, может быть, Сартра тоже не забудут.
– Вряд ли, у Сартра нет таких хороших типов, как у тебя. У него только философия.
– А у меня, наоборот, с философией плоховато. Критики вечно пишут, что у меня неясная философия.
– Ничего, прояснится. В двадцать первом веке все ясно увидят твою философию.
– Ты думаешь?
– Совершенно уверена. Если предположить, что двадцать первый век вообще наступит.
– Почему бы ему не наступить?
– Откуда я знаю? Много чего может случиться.
– Написать мне драму, чтобы двадцать первый век был?
– Напиши!
– Хорошо. Главной героиней будет восхитительная молодая женщина, радость всего человечества. Это будет роль для Кати Кабок.
– Ты прав. Эта Кабок сейчас самая талантливая молодая актриса Будапешта.
Ужас, я не умею выдумать ни одной умной женщины: как только за это берусь я, она тут же превращается в дуру. Счастье, что Дюри не умеет читать моих мыслей. В самом деле, какой может быть его возлюбленная? И о чем они разговаривают? В жизни не угадаю.
– Я только одному удивляюсь, – наконец громко нарушила я молчание, – что вы написали пьесу именно для меня.
– В этом нет ничего удивительного, – отвечает он, внезапно очнувшись от своих мыслей: видимо, он тоже задумался.
– И все же, почему?
– Потому что для Лаци я написал уже три пьесы. Настало время и для вас написать хоть одну.
– На свете еще не было писателя, который пошел бы на такой риск.
– Шекспир шел и на больший риск.
– Не шел. Насколько я знаю, он никогда не писал о глупых женщинах.
– Вы считаете себя глупой?
– Да.
– Почему?
– Не разыгрывайте невинность. И Лаци меня считает дурой, и вообще все, кто меня знает.
– Вы уверены, что и Шекспир счел бы вас дурой?
– Уверена.
– Возможно. И написал бы о вас пьесу. Вы очень ошибаетесь, если станете искать ум в его поразительных женских образах. Джульетта в самом благородном смысле этого слова дура. Разве она поступила умно, когда вместо красивого, богатого и благородного Париса выбрала Ромео? От чего только не уберегла бы она себя – от смерти брата, гнева родителей, самоубийства, – если бы у нее была хоть капля ума! Но его не было. Она легкомысленно, слепо любила, как маленькая дурочка. А Дездемона? И она, в том, что касается умственных способностей, во всяком случае, не лучше Джульетты: будучи молодой веронской девушкой, не найти себе лучшего любовного партнера, чем стареющий негр! Но сколь достойной восхищения сделала ее эта ограниченность! С точки зрения драматурга, это нечто, что вы называете глупостью, на самом деле редкая и исключительная способность. Нечто, из чего рождается трагическая красота или, если хотите, женская гениальность.
Не понимаю, смеется он надо мной? Играет? Хочет польстить? Ни одна черточка в его лице не указывает на это. Ничто не нарушает его одухотворенности. До чего же сложна человеческая душа.
– А Анна, которую вы играете сегодня вечером? Она что, не глупая женщина? – смотрит Дюри на меня с диким торжеством. – Почему это удивительное создание не покидает довольно заурядного мужчину, который благодаря ей живет себе в свое удовольствие, да еще и изменяет ей?
– Потому что она его любит, – отвечаю я.
– Совершенно верно. Но именно глупость делает ее способной любить этого, в сущности, слабого мужчину. В этом и есть величие Анны.
Я слушаю и снова задумываюсь. Интересно, под таким углом зрения я еще не анализировала мою роль, но и Дюри впервые так ее толковал. Меня немного смутило то, что я услышала, но я чувствую, что буду очень хороша в этой роли.
Мы безмолвно идем по дороге вдоль Дуная. Автор и исполнительница главной роли. Во мне сейчас сидит некий продавец воздушных шаров. А может, и в нем? Воздушные шарики ударяют то тут, то там: то по сердцу, то по желудку. По мере того как идет время и приближается вечер, премьера, с каждой минутой во мне танцует все больше шаров. Это ожидание ужасно.
– У Лаци есть билет на вечер? – спрашивает он вдруг.
– Есть, – отвечаю я, снова едва дыша от волнения.
– Куда?
– В первый ряд, в середину.
– Почему он не хочет в авторскую ложу?
– Потому что я хочу, чтобы он был рядом со сценой. Я хочу видеть со сцены его глаза. Какое счастье, что он свободен сегодня вечером! Я не смогла бы сыграть премьеру, если бы его не было рядом.
Что-то с жуткой скоростью приближается и дрожит. Похоже на стрелу, но не стрела, а какая-то врака. Вот она уже и вырывается из моей души.
– Ах, как мы заговорились, – говорю я, – надо бежать домой, Лаци, наверное, уже заждался…
Речной трамвайчик трогается, я быстро трясу Дюри руку, забираю у него туфли, благодарю за прогулку, наказываю ему, чтобы до вечера обязательно позвонил, потому что мне необходима его поддержка…
Дюри машет мне с берега, я удаляюсь. Не понимаю, что вынудило меня к этому, почему я наврала, что Лаци ждет меня дома? Не знаю, но чувствую, что без этой лжи мне бы сейчас трудно было вынести жизнь.
С обувным свертком на коленях еще раз оборачиваюсь на пештский берег Дуная. Дюри все еще машет мне рукой, но теперь он уже совершенно маленький. Я гордо восседаю на коричневом кожаном сиденье. С тех пор как я узнала, что быть глупой очень почетно, я иначе смотрю на мир.
ПОД КАШТАНАМИ
1
Схожу с маленького пароходика-перевозчика. Выходя на будайский берег, я и в самом деле уже верю, что Лаци ждет меня дома. Я иду вдоль Дуная по каштановой аллее и у моста Маргит сажусь в автобус.
Я с детства люблю каштаны. У них такая тень, в которой, когда останавливаешься, ощущаешь счастье. Они отбрасывают мягкую, затканную тончайшими нитями света тень на пушистый теннисный мяч, на руки, на шляпы стариков. И мне всегда представляется, что после смерти мы будем сидеть на красных скамейках под каштанами. Если листва на деревьях густая, тогда мы в раю, если они стоят без листвы – в аду.
Я иду под деревьями с новыми туфлями в руке. Цветы опали дня два назад, и уже видны малюсенькие шарики каштанов. Счастлива я или нет?
Счастлива. Дюри уверен, что Лаци с нетерпением ждет меня дома. В сущности, именно это и делает меня счастливой. На эту мою ложь отбрасывают сейчас свою райскую тень каштаны. Я никогда не врала просто ради того, чтобы соврать. У моих врак всегда были благородные побуждения. В ту кровавую осень благодаря лжи я спасла Лаци жизнь.
Началось с того, что вечером, накануне демонстрации, на террасе кафе «Гнездо» я встретилась с Или Такач. Мы с Или Такач – с тех пор как я ее похвалила, вместо того чтобы разоблачить, – ужасно друг друга любим.
«Муж нашей коллеги, Илоны Такач, Карой Шоморьяи до Освобождения был помещиком с земельными владениями в тысячу двести хольдов. Коллега Илона Такач за прошедшие годы могла бы найти возможность устроить свой брак с Кароем Шоморьяи достойным нашего общественного развития образом. К сожалению, она до сих пор не поспешила этого сделать». Долгие годы перед октябрем это было преступлением, которое мне, как человеку пролетарского происхождения, надо было осудить. А я сказала, что очень уважаю Или Такач, поскольку ей удалось перевоспитать своего мужа-помещика, с которым она наверняка развелась бы, если бы не смогла сделать из него сторонника народной демократии. «Поздравляю, Или!» – закончила я свое выступление.
Председатель собрания труппы за голову схватился от моей глупости: ведь я оказалась неспособна выучить даже выступление на десять строчек. А Или после собрания расцеловала меня.
Словом, вечером двадцать второго Или потащила меня к угловому столику и рассказала страшно интересные вещи.
– Вообрази, Кати, кто сегодня вечером к нам приходил?
– Кто?
– Хаппер.
– Ростовщик?
– Ну да. И представь, что он предложил моему мужу?
– Что?
– Купить его бывшее поместье. Тысячу двести пятьдесят хольдов земли. Карой рассмеялся. А Хаппер настаивал, мало того, совал ему договор о купле-продаже. На нем и марка была.
– Такую глупость…
– Подожди, самое интересное впереди! Знаешь, какая цена фигурировала в документе? Один форинт за хольд.
– Ого!
– То есть это была шутка, а Карой с такими шутками знаком, он от души посмеялся и, чтобы Хаппер видел, как он за прошедшие четырнадцать лет приспособился к театральному миру, взял да и подписал договор о купле-продаже.
– Просто тема для Дюри Форбата. Расскажу ему, когда приедет из Москвы, у него там скоро премьера, – сказала я Или.
– Это еще не все. Когда Хаппер ушел… Право, и не знаю, чем это объяснить… значит, когда Хаппер ушел и Карой открыл книгу, которую читал перед его приходом… теперь, Кати, держись… в нее был вложен белый конверт, а в конверте – тысяча двести пятьдесят форинтов.
Рассказ Или Такач смутил меня. Хотя было совершенно ясно, что добрый Хаппер придумал этот розыгрыш только для того, чтобы, благодаря шутке, немного помочь Шоморьяи деньгами, но мне его поступок показался грубым, точнее, даже не грубым, а унизительным. На мой взгляд, Хапперу не надо было этого делать.
2
На следующий день, двадцать третьего, мое раздражение необъяснимым образом перешло в боязнь. Я проснулась с тем, что мне страшно. Лаци, пока я пялилась в потолок, по своему обыкновению спал глубоким сном. Этот мой страх и породил ложь.
К тому же я обнаружила на столе письмо, и, хотя оно не имело никакого отношения к дурачеству Хаппера, пусть и по другому поводу, оно увеличило мои страхи.
Письмо было адресовано председателю Союза театральных деятелей. В этом письме мой муж торжественно заявлял, что никогда не был сторонником социалистического реализма и по мере возможности всегда против него боролся. Я удивилась. Правда, сама я никогда не могла постичь смысла этого термина, который так часто употребляли мои более умные коллеги. Но в одном я была уверена: Лаци получил уйму наград за заслуги в развитии социалистического реализма и, значит, наверняка ошибается, если думает, что всегда с ним боролся.
Я ждала, пока он проснется, чтобы обратить внимание на это его заблуждение и предотвратить отсылку письма в президиум Союза.
Я как раз раздумывала над этим, когда зазвонил телефон. Звонили из театра. Лаци все еще спал, и я не понесла к нему аппарат.
– Алло! Слушаю!
– Целую ручки. Это Микеш. Позовите Лаци.
– Он еще спит.
– Тогда, будьте добры, разбудите его и скажите, что мы собираемся в театре к одиннадцати и идем к памятнику Петефи.
– Зачем?
– Будет митинг.
– Хорошо, как только он проснется, я ему скажу, – ответила я, но это уже было неправдой, потому что про себя я знала: об этом телефонном звонке я Лаци не скажу. Митинги – а это мы учили на множестве семинаров – сопряжены с опасностью для жизни, а я ни на секунду не хотела подвергать его никакой опасности.
Мгновение рождения – самое интересное на свете. Почка растения, облако, горная порода, человек возникают за совершенно разное время: одному нужны месяцы, другому – тысячелетия. Ложь рождается моментально. Человек и оглянуться не успеет, а уже солгал.
Я и не заметила, как произнесла: «Хорошо, как только он проснется, я ему скажу».
Я его не разбудила. Было без четверти одиннадцать, когда Лаци в пижаме ворвался в ванную: волосы стоят дыбом, глаза красные от сна.
– Почему ты меня не разбудила? – закричал он на меня. – Микеш говорит, что звонит второй раз, что в одиннадцать сбор в Большом театре! Почему ты не передала?
Я стирала чулки и на одну минуту оставила телефон без присмотра. Надо было его отключить, прежде чем идти сюда. Не зная, что ответить, я стояла с мокрым чулком в руке.
– Почему ты молчишь? – поднял еще выше голос Лаци, и вопрос с жуткой силой ударился о кафель.
Я упала. Без сил лежала я на толстом губчатом резиновом коврике. Я была в полном порядке, просто развивала свою ложь. Та крохотная, едва заметная ложь, которую пробудил во мне звонок Микеша, теперь со стихийной силой бросила меня на землю.
Лаци сгреб меня в охапку, внес на руках в спальню и уложил на постель. Я себя чувствовала такой же легкой, как сейчас здесь, под каштанами, в тени листвы, навстречу течет Дунай, а слева от меня бежит девятый трамвай с передвижной антикварной лавкой.
Лаци позвонил нашему домашнему врачу. Голос его дрожал.
«Только бы он не потерял сознание», – с беспокойством подумала я, лежа без сознания.
3
До приезда доктора он в отчаянии шлепал меня по лицу. Мария с трагическим выражением лица бегала за водой. В глубине души я ухмылялась, а сама – я чувствовала, что бледна как полотно, – с полной достоверностью играла роль женщины в глубоком обмороке. Подглядывая время от времени из-под ресниц, я видела по ужасу Лаци, что великолепна. «Каталин Кабок заставила зал замереть, когда, согласно роли, без сознания рухнула наземь. Многие вскрикнули, настолько их захватила блестящая игра актрисы», – слышала я тем временем голос нашего великого критика.
У меня зуб на зуб не попадал, я в самом деле дрожала, хотя была совершенно здорова. Врач только качал головой, пока слушал мое сердце и измерял давление. Он ничего не понимал. Пообещал, что завтра утром зайдет снова.
Когда мы остались вдвоем, я медленно, словно это мне стоило неимоверных усилий, открыла глаза.
– О, – вздохнула я слабым голосом, – ты дома, Лацика…
– Конечно, дома, – кивнул мой дорогуша.
– Ты не пошел на митинг?
– Не мог же я оставить тебя здесь одну, – проговорил он, ломая руки.
Мне пришлось провести беспокойно всю ночь, потому что Лаци звонили с радио с просьбой продекламировать патриотические стихи. Против декламации я не возражала, много сильнее меня беспокоила усиливавшаяся стрельба. Таким образом, мне пришлось продемонстрировать ему один большой и два маленьких обморока – все три с полным успехом.
На следующий день утром – после новых телефонных звонков – Лаци нашел, что мне гораздо лучше. Врач, правда, не разделял этого мнения, но он, любовь моя, ободряюще и нервно похлопывая меня по руке, говорил, что врач дурак, что я уже совершенно здорова, что это было просто легкое недомогание и чтобы я не обращала на него внимания.
– Я оставлю тебя на часик, дорогая, – сказал он, энергично поправляя галстук, – только заеду в Театральный союз. Знаешь, дорогая, я должен сделать заявление, ведь меня, в конце концов, могут неправильно понять. Не забывай, что я играл и Дзержинского и за воплощение этого образа еще и награду получил. Я решил вернуть награду, поеду в Союз и положу на стол.
Как раз поблизости от нас хлопнул выстрел. Я почувствовала, что меня заливает краска. Я покраснела в самое неподходящее время, именно тогда, когда необходима была бы совершенная бледность.
– Ты прав, Лаци, – откликнулась я слабым голосом, ломая голову в поисках хоть какого-нибудь решения, – поезжай спокойно, я чувствую себя намного лучше.
– Вот это другой разговор, Катика! – хлопнул в ладоши довольный Лаци, засовывая ногу в туфлю.
– О, намного, просто несравненно лучше. – Я растянула рот в жутко длинную улыбку.
– Я знал, что это просто недомогание, – впихивал себя в пиджак мой муж.
– Меня словно подменили. – Я сделала еще большую улыбку, совершенно исказив свое лицо, и стеклянно выпучила глаза; в следующее мгновение я внезапно спикировала с постели. Ушиблась я как следует, что правда, то правда, но меня это совсем не волновало. Сине-зеленые пятна пройдут, зато Лаци останется жив.
4
Возможно, Дюри Форбат прав. Любовь делает женщин глупыми, как это происходит и с героинями Шекспира. Я, во всяком случае, лежала рядом со своей постелью, и мне очень хотелось плакать, так я ушибла себе лоб, лодыжку и поясницу. Но я не плакала, я молчала, потому что этого требовала роль.
Подхват, телефон, врач, беготня. Бедный мой Лацика, я так его тогда жалела, но моя любовь была сильнее чувства сострадания.
– Возьми меня за руку, Лаци! – дрожала я, изображая, что прихожу в себя.
Я дрожала оттого, что доктор приводил меня в чувство инъекцией, и, приходя в себя, я чуть не потеряла сознание.
– Я здесь, моя единственная, – лепетал бедняга, сидя на краю моей постели.
– Ты здесь? – проговорила я, возвращаясь с того света, из-под каштанов счастья.
– Здесь, глажу твою руку.
– Да… Сейчас как будто бы чувствую… – выдохнула я совершенно бесплотно, как нас учили у тети Палади, и называлось это «соборование».
– Тебе лучше?
– Я жива, – вздохнула я с полной отдачей, потому что чувствовала, что до сих пор была слегка поверхностна.
Из глаз Лаци покатились слезы. «Что ни говори, а перевоплощение все же самый лучший метод», – подумала я и решила, что освобожусь от всех ненужных витиеватостей.
Двенадцать дней я была между жизнью и смертью. Обмороки, судороги, расстройства зрения и слуха – я проделала все, что только могла выдумать, лишь бы напугать Лаци.
О, бедненький мой, он страдал все ужасней, потому что под оружейную пальбу возникали все новые и новые ситуации. Все ломились в открытые ворота, только он остался от всего в стороне. Он не смог ни рассеять вокруг себя ничьих недоумений, ни присягнуть ни в чем, он только менял мне холодные компрессы и поил меня лимонадом.
А я постоянно оттачивала свою игру. Сейчас я даже представить себе не могу, как мне удалось достигнуть такого результата средствами, почерпнутыми от тети Палади. Были дни, когда Лаци почти терял терпение. Телефон замолчал, у нас кончалось съестное, стрельба на улице то усиливалась, то затихала.
– Я думаю, тебя надо все же отправить в больницу. Там ты быстро выздоровела бы, а дома твое состояние все ухудшается, – сказал он в один прекрасный день, и, глядя на него, я понимала, что он на грани нервного срыва.
Я вела с ним удивительную борьбу. Мне, начинающей маленькой актрисе, надо было обмануть его, большого мастера, который мгновенно видит дилетантство. Я балансировала на канате, натянутом на высоте тысяча метров между двух скал. И не упала. Даже самая большая сцена мне удалась. До нее дошел черед на двенадцатый день моей таинственной болезни. К нам прибыла актерская делегация, актеры просили Лаци, чтобы он немедленно пошел с ними в Парламент, где ему как одному из самых популярных актеров страны нужно выступить по радио с обращением.
Я, не колеблясь, тут же начала агонизировать. Это была жуткая игра. Потрясенная делегация с траурными лицами покинула дом. Лаци сбросил пальто и встал на колени у моей постели. Он молился о спасении моей души. Меня душили слезы, и в то же время я едва удерживалась, чтобы не прыснуть от смеха, ведь на конференции по театральной идеологии я в семинаре у Лаци слушала исторический материализм.
Я уже у моста Маргит. Смотрю на Дунай. Мой дорогой Лаци по сю пору не знает, что я ни минуты не была больна в те осенние дни. Мы не имеем обыкновения разговаривать о том времени. Если бы он узнал, что я его обманула, он наверняка разочаровался бы во мне или назвал дилетанткой за то, что я злоупотребила святыми идеалами театрального искусства. Да, признаю, я была мелка и непростительно смешна. Однако память о тех днях все же дает мне силы выдержать великое испытание моей жизни. Теперь, когда я выхожу из-под защитной тени каштанов, я чувствую, что буду божественна сегодня вечером. Я буду божественна в драме Дюри. Я влюблена, Лацика.
В ДЕТСКОЙ
1
Я вхожу в детскую. Марика, лежа грудью на столе, рисует, вернее, марает на рисовальном листе интересные цветные пятна. Нос, лоб, все десять пальцев – сплошь акварельная краска. Увидев меня, она вскрикивает:
– Как ты вовремя пришла. Посмотри!
Я смотрю и кусаю губу от умиления. Перед красным задником изображена женская фигура из кошмарного сна, перед нею – голубой полукруг, символизирующий суфлерскую будку. Наверху по краю листа, на оставленной белой рамке, стоят вразвалку большие буквы: БОЛЬШОГО УСПЕХА…
Я прижимаю ее к себе, она такая приятно теплая: разгорячилась от волнения. Она целует меня во весь рот. У нее поцелуи как сливы.
– Скажи, ты сама это придумала или папа попросил?
Лицо ее становится серьезным. Она молча смотрит на меня. Я больше не спрашиваю, понимая, что ей не нравится, когда к ней пристают с расспросами о ее секретах. Лаци я тоже не стану спрашивать, пусть это будет их тайной.
Мое радужное настроение омрачает Мария. Она победоносно улыбается, увидев меня с рисунком Марики. Мария делает вид, будто и она причастна к этой прелестной идее. Она словно окружена целым облаком улыбчивости.
Это единственный недостаток Марии: ей хочется принимать участие во всем, что происходит в семье. Правда, ее тоже можно понять. Состарившиеся актрисы одиноки более, чем кто-либо другой. Их покинули сотни и сотни ролей, вот они и играют последнюю оставшуюся роль – роль состарившейся актрисы.
Я знаю их: изящные, мило улыбающиеся билетерши и гардеробщицы, они упрямо цепляются за блеск театра.
Иные еще молодыми уходят из большого искусства. Дюри Форбат на репетиции одной из своих пьес увидел среди статисток актрису, которая во времена его детства была знаменитой субреткой в одном из провинциальных театров и которая невольно и странным образом сделала его писателем. Вот как писал он об этом в одной своей новелле:
«Мне было одиннадцать, я был актерским ребенком и стоял среди декораций, дожидаясь родителей. Когда ревю кончилось, в матросской шапке и обтягивающей матросской форме со сцены вбежала Лолли, девятнадцатилетняя субретка, моя тайная детская любовь. Она улыбнулась мне, взяла за руку и потянула за собой в уборную. Она радовалась успеху, из-под матросской шапки выбились легкие, пружинистые локоны ее каштановых волос. Лолли завела меня в свою уборную и поставила за розовую шелковую ширму, на которой была изображена сидящая на зеленой ветке златокрылая птица. Но целиком птица не сохранилась: половина ее упорхнула, оставив в память о себе грязное пятно, вторая же половина, словно разлагающийся труп, покоилась на шелковом кладбище. На ширме из конца в конец тянулась большая шестиугольная дыра. Лолли начала раздеваться. Она шумно и оживленно срывала с себя платье. Словно взмывающая ввысь птица, она радостно парила в небе уборной, плеща крыльями сброшенной одежды все выше и выше. На вершине этого дикого полета она совершенно обнажила за ширмой свое тело. Она смеялась. Мне казалось, что от смеха Лолли воздух уборной стал красным. И я выскочил из своего угла, рванул дверь уборной и выбежал на сцену, где уже было темно, только ночные лампы настороже сидели над дверями, как светящиеся пауки. Смех Лолли неотвязно преследовал меня в темноте сцены: он то звякал, как кости, то переходил в устрашающее карканье, – и затих только тогда, когда я вышел в театральный сквер. Даже здесь я словно слышал, как от гладкой гальки отскакивали его короткие всхлипывания. Сейчас я уже знаю, что тогда впервые моим воображением играл бес драмы. А сам он – моя несчастная муза, не имеющая никакого представления о том, что такое искусство, – стоял передо мною с длинным, костлявым лицом в маске разочарованности среди немых героев моей пьесы».
2
Зачем я открыла книгу Дюри? Ах да, чтобы найти оправдание назойливости Марии. Бедная Мария, я не должна на нее сердиться.
Даже Марика заметила, что тетя Мария всегда грустная; однажды, когда она была еще совсем маленькая, перебирая на кухне картошку из старого мешка, она на одну жалобно бесформенную картофелину сказала: «Совсем как тетя Мария». Возможно, Марика тоже станет актрисой. Я помню, когда мы перебирали картошку, каждую картофелину она с чем-нибудь сравнивала: «Эта красивая, гладкая – папа, эта корявая – тетя из гастронома, эта чудесная, маленькая – я, эта длинная – дядя почтальон…»
– Мамочка, ты хорошую роль играешь? – спрашивает Марика, заботливо прислоняя свое произведение к вазе.
– Очень.
– Тетю?
– Да, молодую тетю.
– Такую, как ты?
– Такую, как я.
– Добрую?
– Да.
– А дети у нее есть?
– Есть. И муж тоже.
– А муж красивый?
– Замечательный.
– Как папочка?
– Нет, все же не такой красивый! Да и вообще он ничем не похож на папу, потому что папа меня любит, а тот, который мой муж по пьесе, – нет.
– Тогда почему ты не даешь ему пинок под зад?
– Я не могу этого сделать, потому что по пьесе я его люблю и счастлива с ним. И очень тебя прошу, не говори так, это девочке не к лицу.
– Но почему ты его любишь, если он тебя не любит?
– Потому что я не знаю, что он меня не любит.
– И у тебя в этой пьесе нет дочки, которая надоумила бы тебя поискать себе папочку получше?
– Как же, есть, только она не надоумила.
– Она плохая?
– Нет, просто она тоже не знает, что ее папочка не любит меня.
– Это такая глупая пьеса?
– Марика, как тебе не стыдно! И вообще, ты еще не доросла до таких пьес.
Она смотрит на меня большими глазами.
– Он и в конце тебя не полюбит?
– И в конце.
Она обиженно отворачивается, подходит к окну, выглядывает на улицу, потом снова садится к своему столу и втягивает голову в плечи. Интересно, Дюри рассказывал, что и завлит говорил ему о том же, из-за чего Марика сейчас дуется. Может быть, оттого, что конец пьесы не дает однозначного решения, она не будет иметь успеха и я провалюсь вместе с Дюри Форбатом?
3
Нет, нет, об этом нельзя думать, к тому же вчера на генералке видно было, что успех будет. Мою уборную наводнили восторженные коллеги. Первой меня поздравила Клари Зимони, которая в прошлом году после генеральной репетиции «Святой Иоанны», не вынеся бремени своего восторга, рухнула на колени в уборной Луизы Балог, исполнительницы роли Иоанны, словно прося ее благословения.
– Чтоб все мужики сдохли! – кричит она и прижимает меня к своим огромным грудям. – Если б я сорок четыре года назад увидела тебя в этой роли, ни разу не вышла бы замуж.
Гизи Конт впрыгнула в мою уборную, как в бассейн. Она влетела с разбега и просто-таки с головы до ног обдала меня своим восхищением.
Мой театральный кумир седоволосый Балаж Гал осторожно внес в мою уборную улыбку удовлетворения на лице.
– Молодец, кутька, – сказал он с многозначительной краткостью, давая мне возможность несколько мгновений беспрепятственно любоваться его совершенно отточенным выражением признания на лице.
Была в армии поздравляющих и Тери Коллар, которая несколько лет назад на театральном фестивале сказала, что столько хорошего слышала об «Эмпириокритицизме», что, по ее мнению, надо было бы попробовать его инсценировать. Тери Коллар расцеловала меня в обе щеки, потом, словно не в силах совладать со своим восторгом, перечмокала все лица в уборной, не делая исключения и для гримерши.
Голос Марии вывел меня из моих мечтаний:
– Госпожа актриса, уже пора обедать!
– Нет, я еще не голодна, – протестую я резко, чуть ли не грубо.
– Хорошо, тогда, может быть, Марика пообедает со мной на кухне?
– Марика тоже не голодна.
– Но я хочу есть, – поднимает голову моя дочь.
– Ты хочешь есть?
– Очень.
– А папу ждать не будем? – спрашиваю я, глядя на часы.
Звонит телефон. Бегу.
4
– Алло, дорогая! – слышу я голос Лаци и тут же таю от счастья.
– Алло, Лацика…
– Как дела?
– Хорошо.
– Вы уже обедали?
– Нет еще.
– Прекрасно. Мы можем пообедать через полчаса?
– Конечно. Я жду не дождусь, когда ты приедешь.
– Кати! За это время столько всего произошло.
– Прилетели французы?
– Да. Жаклин Норе и Клод Пере.
– Кто этот Пере?
– Оператор.
– Неужели Норе будет у нас сниматься?
– Да! В венгерско-французском фильме.
– Мы делаем совместный фильм?
– Да. Он будет называться «Ракоци в Париже». Слушай, как раз о том и речь. Мы встречали их в аэропорту с Шани Луксом, режиссером. Он ни слова не знает по-французски, и у него челюсть отвисла, когда он услышал, что я разговариваю с ними по-французски совершенно свободно.
– Скажи, а Жаклин Норе действительно такая красивая, как в фильмах?
– Да, но сейчас не о том речь, Катика. Шани Лукс, когда мы ехали из аэропорта в город, спросил: мол, а что, если бы ты сыграл Ракоци?
– С Норе?
– Да.
– Ух ты!
– И меня тоже в жар бросило от такой идеи. Только представь: месяц съемок дома и два – в Париже.
У меня сжимается сердце – просто не вздохнуть. Я быстро цепляюсь за книжную полку.
– Ну разве не великолепно, Катика?
– Конечно, просто сенсационно, – отвечаю я, переводя дух.
– Разумеется, это вовсе не точно и существует пока только как идея. Шани Лукс сказал, что вообще-то предполагал на эту роль вовсе не меня, а Бакони, у которого голова просто вылитый Ракоци. Обо мне он подумал, только когда услышал, как я говорю по-французски.
– Скажи, а Жаклин Норе уже знает об этом?
– Да. Шани Лукс говорил об этом при ней.
– Ну и?
– У Норе нет против меня возражений. Мало того, Клод Пере нашел, что моя внешность полностью соответствует описанию, которое дал внешности Ракоци Сен-Симон.
– Кто это, Сен-Симон?
– Французский писатель.
– Он автор сценария?
Хохот в телефонной трубке, потом упоенное восклицание Лаци:
– Я тебя обожаю! Ты неподражаема, Катика! Я влюблен в твое невежество. Сен-Симон – сценарист! У меня сердце разорвется от блаженства… – гремит мне в ухо телефонная трубка.
Я молчу. Мне не по себе. Лаци смеется так раскованно, что я умолкаю. В телефонной трубке тоже тишина. Нас связывает только безмолвие. Я чувствую: Лаци пожалел о своих словах, потому и молчит. Внезапно на меня обрушивается новое чувство: начинаю жалеть Лаци. Я уже почти нарушила молчание, когда телефонная трубка вновь наполнилась его голосом:







