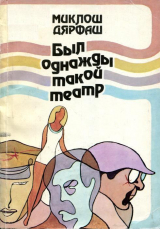
Текст книги "Был однажды такой театр (Повести)"
Автор книги: Миклош Дярфаш
Жанр:
Повесть
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 19 страниц)
Да, конечно, хотел он совсем другого, но может ли это служить оправданием, если ни на что другое у него так и не хватило сил? Одиночество призывало его к ответу, чем дальше, тем безжалостнее судил он самого себя. Как цинично предал он Тордаи, Гардони и всех тех, кто готов был умереть во имя настоящего искусства!
Быть может, он просто не понимал Тордаи в свое время? Что ж, ищи, ищи оправдания первому предательству – теперь-то это легко. Ну как же: молодость, неопытность, одиночество… Аргументов сколько угодно, и ни один из них не имеет ни малейшего отношения к действительности. Тордаи считал его очень талантливым! А он не оправдал ничьих надежд. Он сам во всем виноват, и нет ему прощения. А Гардони? В тот незапамятный день, гуляя по Сегеду, он сказал, что еще никогда и никто не играл Люцифера так, как Дюла, а Дюла, выкарабкавшись из болезни, начал жить совсем не с той точки, на которой остановился. Он согласился играть опереточных герцогов, позволил себе откровенную халтуру – и все для того, чтобы сохранить свое драгоценное здоровье. Теперь он ясно видел, что это было всего лишь продолжением первого предательства. Да разве он сердце берег? Нет! Просто искал повода для безответственной жизни. Тордаи сыграл бы Люцифера, даже если бы знал совершенно точно, что умрет в тот же вечер. Ну да, а он предпочитал сесть на стульчик поближе к суфлерской будке, закатить глаза, вздохнуть и пропеть хрипловатым голосом: «О где вы, юности волшебные мгновения?» О «парковых» спектаклях он вспоминал как об удивительном подарке судьбы. В известном смысле она была к нему милостива. Напоследок дала отведать вина, которое он всю жизнь отталкивал, потому что хотел остаться трезвым. Этот хмель оказался упоительным. Даже воспоминание об Аннушке не кружило голову с такой силой. Останься он в свое время верен Тордаи, все сложилось бы иначе. Всю жизнь вкушал бы он этот огненный, обжигающий напиток, а не лимонную водичку, поданную на серебряном подносе.
Снаружи ничего не менялось. Солдаты, пушки, повозки бесконечной чередой тянулись по улице Штефании то под ноябрьским дождем, то под редкими лучами солнца, и всегда – под аккомпанемент осеннего ветра. В декабре картина почти не изменилась – разве что повозок стало побольше да пар вокруг лошадиных ноздрей – погуще. Поднятые воротники шинелей скрывали головы до самых макушек, бесконечные взрывы укладывали все больше и больше убитых на обочину дороги. Дюла не собирался искать спасения. Снаружи вовсю хозяйничала смерть, и он чем дальше, тем больше привыкал к ее соседству.
В начале января дом заняли немцы – командование какого-то пехотного соединения. Всех жильцов затолкали в две подвальные комнаты, остальные помещения заняли под штаб. Дюла ничего не взял с собой в подвал. Он сидел на табуретке в пальто и шляпе и ждал смерти. Ему хотелось умереть как можно естественнее, без театральных эффектов, без яда и кинжала. Он ждал, когда оборвется дыхание и очередная волна крови не доберется до сердца. Для верности он оставил коробочку с лекарствами наверху, боясь, что рука сама потянется к ней, когда не будет хватать дыхания. Он забился в угол, прислонился головой к печке, к красному коврику, связанному некогда дворничихой, и заснул. В комнате стояла удушающая жара: дыхание набившихся в подвал людей согревало его не хуже печки.
На рассвете немцы неожиданно снялись с места, расселись по машинам и покатили куда-то к улице Телеки. Кратковременная депортация закончилась. Все могли разойтись по домам. Дюла оглядел свою квартиру, и ему стало смешно. Солдаты унесли всю его одежду, в том числе и театральные костюмы. К холодильнику они не притронулись – должно быть, консервов у них у самих было вдоволь. Дюле было совсем неплохо в перевернутой вверх дном, опустошенной квартире. Это соответствовало его планам. Ему хотелось лечь на диван прямо в пальто и заснуть. Он очень надеялся, что заснет, ведь сил у него за последние недели явно поубавилось, да и порция консервов день ото дня становилась все меньше. Нет, он не экономил, просто не хотел больше жить.
Дюла поднял с пола разбросанные подушки и положил их на диван, готовясь к последнему отдыху. В душе в который раз всплыли воспоминания о блаженных послеобеденных часах, проведенных в обществе «приемных родителей». Он выглянул в окно, чтобы попрощаться с миром.
За окном шел снег. Январский ветер трепал и кружил большие рваные хлопья. Густая пелена скрыла деревья, дома, опрокинутые телеги. Мир спал. Под слоем снега неподвижно лежали солдаты, на скамейках вытянулись два-три покойника в штатском, посреди дороги валялись две пегие кобылы. Гробовая тишина стояла кругом. Январское утро запеленало мир снежным покрывалом, затянуло солнце толстым слоем облаков.
Дюла приподнялся и сбросил одеяло, потом снова лег и закрыл глаза, пытаясь заснуть. Ничего не выходило. В это время загрохотали пушки. Никогда еще не бывало такого грохота, хотя стреляли где-то вдалеке. Самолеты тоже летели мимо, и все-таки все небо гудело. Дюла мечтал заснуть, но сон бежал его, несмотря ни на какие старания.
С сердцем был полный порядок. Оно билось сильно и ровно – ни дать ни взять крепкое, мужское сердце, никогда не знавшее недугов. Никаких фокусов не ожидалось.
В конце концов он решился и встал. Надо пойти в парк, окунуться в снегопад. Холод сузит сосуды. Он будет бродить по улицам, пока его случайно не пристрелят или – что еще лучше – не доконает мороз. Тогда он останется сидеть на скамейке, вроде этих – там, внизу.
Квартиру он оставил открытой. Там есть что взять. Так пускай берут. Он вышел на улицу и направился к парку, захлебываясь морозным воздухом. На улицах было пусто – одни покойники кругом. Дюла стянул перчатки, чтобы мороз поскорее принялся за дело, и ускорил шаги.
Пока он шел к парку, снегопад кончился. Заметно посветлело. Дюла ни капельки не замерз, хотя не был на улице уже несколько месяцев. Он направился в глубь парка, с трудом ориентируясь в изрытых бомбами и окопами аллеях. А ведь он знал этот парк как свои пять пальцев!
Пытаясь разобраться в паутине тропинок, он на минуту остановился. Вдруг откуда-то из-за кустов вынырнула мальчишечья голова. Ребенок с ужасом уставился на Дюлу, Надо сказать, что Дюла, несмотря на всю свою готовность к смерти, тоже перепугался, увидев перед собой странное явление в папахе и огромном неуклюжем полушубке.
– Эй! – окликнул он. – Ты кто такой?
– Хэлло, мистер, чего это вы так напугались? – Мальчик сунул левую руку в карман, а правой наставил на Дюлу воображаемый револьвер.
Лицо его было черным от грязи. В карих глазенках светился страх.
– Слушайте! – крикнул он. – Чего вам здесь надо? Вы что, не знаете, что война идет?
Широко расставив ноги в женских панталонах и огромных солдатских башмаках, он смотрел на Дюлу в упор, пытаясь придать себе вызывающий вид.
– Чегой-то мне лицо ваше знакомо, мистер! – выкрикнул он, состроив рожу. – Небось какой-нибудь граф из нилашистов?
– Как ты сказал? – Дюла шагнул к перепуганному ребенку.
– Полегче, господин хороший… Русские в парке, к вашему сведению!
Торш остановился.
– Русские?
– Они самые.
– Откуда ты знаешь?
– Я из Луна-парка иду. Они там. Немцы-то еще на рассвете драпанули.
– Ты-то сам с ними встретился? – в полном замешательстве поинтересовался Дюла.
– А вы что, не видите, что ли? Этот цилиндр они мне пожаловали, – мальчишка ткнул пальцем в свою папаху, а потом подергал самого себя за рукав, – и этот жакет тоже.
Дюла потер уши. Их нещадно щипал мороз. Носу доставалось не меньше.
– Значит, говоришь, они уже здесь? – Он посмотрел на мальчонку в упор.
– Думаете, вру?
Мальчишка снова пристально уставился на Дюлу.
– Скажите-ка лучше, где я вас видел?
– Наверное, в кино.
– В кино?
– Да.
– Так вы…
– Я артист.
– Ну как же! – завопил мальчишка. – Вы же Торш!
И повторил совсем другим голосом:
– Господин артист Дюла Торш…
– Как тебя занесло в Луна-парк?
– Я там прятался, в вагончике, на змейковой дороге.
– Ты что, из дома сбежал?
– Нет. Нету у меня дома.
– А родители твои где?
– Не знаю.
– Не знаешь?
– Нет. Отец на фронт ушел. Сержантом.
– А мать?
– Она евреев прятала. Ее нилашисты увели.
– Так ты один?
– Один…
– А кто твой отец по профессии?
– Зазывалой он был, в Луна-парке. Цирковой, в общем. А теперь вот – сержант, коли жив. Уж два года, как писем нету.
– Сколько тебе лет?
– Тринадцать.
– А что ты все-таки делал в Луна-парке в такое время?
– Мне там нравится. Когда в вагончике сидишь, спине тепло. Дом-то наш разбомбили. Тридцать жильцов было, всех поубивало. Один я остался. Потому что в Луна-парке торчал.
– А на что ты жил?
– На милостыню. Будто сирота. Русские мне тоже пожрать дали – фасоли с хлебом.
Он вытащил из кармана две горбушки.
– Видите, даже осталось.
– И куда ты теперь?
– Хлеб продавать.
– Самому-то тебе не нужно?
– Я еще раздобуду! А этот на сигареты обменяю.
– Ты куришь?
– Ну…
Холодную, гулкую тишину внезапно нарушил какой-то звук. Далекий и робкий, он с каждой минутой становился все смелее и громче.
– Слышите? – Рот мальчишки приоткрылся от восторга.
– Что это?
– Шарманка.
– Что?
– Шарманка. Та, что на карусели.
Механическая мелодия звучала все громче. Над парком плыла печальная и протяжная песня о девушках Баризоны, которой было никак не меньше полувека. Бессмысленными и странными казались эти звуки, пронзавшие тишину, которую больше не нарушал грохот орудий.
– Слышите, как красиво? – спросил мальчик, захлебываясь от восторга.
– Красиво, по-твоему?
– Ага, замечательно.
Дюла молчал, не сводя с мальчика глаз и вслушиваясь в неожиданные, неправдоподобные звуки.
– Русские, – шепнул мальчик.
– Русские?
– Да. Они открыли карусель. Руками крутят, электричества-то нету.
– Ты что, видел?
– Да. Я сам на ней катался. Мы с казаком вдвоем на лошади сидели. Летали-летали по кругу, а потом – раз! – и свалились, уж очень он лошадь дергал.
Мальчишка внезапно полез в карман, вытащил горбушки и сунул их Дюле в руку.
– Держите, господин артист. Это вам. Я себе другие раздобуду.
Он повернулся и понесся вскачь к Луна-парку, издавая на бегу что-то вроде лошадиного ржания.
Жеребенок мчался обратно к карусели – худенький мальчонка в здоровенных ботинках, снятых с убитого солдата, в длинном, нелепом полушубке и огромной папахе. Слева и справа от него взлетали фонтанчики снега.
– Постой! – беспомощно крикнул Торш ему вслед, сжимая в руке горбушки.
– Ур-ра! – Мальчишка подпрыгнул еще выше.
– Вернись! – Дюла сложил ладони рупором.
Он хотел крикнуть: возвращайся, я возьму тебя к себе, я воспитаю тебя, ты будешь моим сыном, потому что тебе тринадцать лет и ты один в целом свете…
Но, увидев, что мальчонка не внемлет, он опустил руки и замолчал. Пускай его, пусть бежит на звуки шарманки. Пусть бежит, словно на зов отца, зазывалы из парка, на звук его громкого, визгливого голоса, призывающего почтеннейшую публику послушать о невиданных чудесах.
От мороза перехватило дыхание, а Дюле так хотелось крикнуть: если ты вернешься, мальчик, я выучу тебя на артиста. Не такого, как я или пропавший без вести зазывала. Я сделаю из тебя большого артиста, такого, как Балаж Тордаи. Ты скажешь людям все, чего не успел сказать я. Ты сыграешь Люцифера и Тиборца! Ему хотелось кричать громко, звучно, разрывая тишину белой лесной декорации, но из горла рвался лишь призывный слабеющий звук:
– Э-э-эй…
Звук дошел до ушей мальчугана – он сцепил руки и, не оборачиваясь, потряс ими над головой.
Дюла понял, что ему не заставить мальчишку вернуться, и сам двинулся следом за ним. Он шел медленно и спокойно, по узенькой тропке, навстречу звукам шарманки.
Ему больше не хотелось умирать. Ему хотелось увидеть карусель, катающихся на ней русских солдат и сына зазывалы, поднявшего на дыбы гипсовую лошадку. Никогда в жизни он не был так уверен в себе. Легкие наполнились свежим морозным воздухом, а все тело – удивительной радостной легкостью. Он натянул перчатки и немного расслабил на шее шарф, чтобы легче было дышать.
Перед глазами вставали замечательные картины. Завтра утром его навестит Иштван Пастор с друзьями.
– Пора браться за дело, – скажет Пастор. – Надо открывать театр как можно скорее.
– А что мы будем ставить первым делом? – спросит Дюла.
– То, что запретила полиция, – ответит Пастор. – Чоконаи. Начнем с того, на чем остановились.
Потом он заметит мальчишку, сидящего с ногами на диване и прислушивающегося к разговору.
– А это кто такой? – спросит он.
– Это мой сын, – ответит Дюла.
– Правда? А как его зовут?
Дюла совсем было собрался ответить на этот вопрос, как вдруг почувствовал, что голос ему изменяет.
Перед глазами стояли выбеленные снегом кроны, на секунду мелькнул мальчик, петлявший среди деревьев, в ушах звучала шарманка; Дюла в ужасе сбросил перчатки и распахнул пальто в последней отчаянной надежде – а вдруг она здесь, маленькая коробочка из жести.
– Мальчик! – вырвалось у него. Он хотел упросить мальчишку вернуться и принести ему лекарство, оно где-то там, дома…
Потом он выбросил вперед руки, словно пытаясь уцепиться за кого-то, кто удержал бы его и не пустил туда, куда он неотвратимо проваливался. Но впереди никого не было. Не было и мальчишки, а ведь ему ничего не стоило бы удержать Дюлу в эту минуту. Горбушки покатились по снегу.
Он проковылял еще несколько шагов и рухнул, точно так же, как в египетской картине «Трагедии», исполняя свою первую в жизни роль. Падая, он выбросил вперед левую руку. Со стороны могло показаться, что он из последних сил старается достать упавшую горбушку.
Горбушка так и осталась в нескольких сантиметрах от протянутой руки. Дюла Торш лежал совершенно один. Ему больше не суждено было встать и раскланяться. Мальчик в папахе мог не возвращаться. Дюла не встал бы даже ему навстречу.
Ветер стих.
ИСТОРИЯ МОЕЙ ГЛУПОСТИ


Ева Рутткаи в роли Кати Кабок (фильм «История моей глупости»).
Butaságom története
Перевод Т. Гармаш
В ПОСТЕЛИ, ОСВЕЩЕННОЙ СОЛНЦЕМ
1
Я только что открыла глаза. На плече у меня пляшет крохотное пятнышко желтого солнечного света. Мария неплотно задернула штору, и в щель прокралось солнце. Словно крохотная птица чистит перышки на моем голом плече.
Я нервничаю. Сегодня вечером я первый раз в жизни играю главную роль. Десять лет ждала я этого вечера, и вот он наступил, то есть вечером наступит, конечно, если только ничего не случится: не обрушится театр или я вдруг не умру. По поводу моей кончины можно было бы произнести ужасно красивую надгробную речь: «Вот стоим мы здесь, у гроба прелестной и талантливой двадцатидевятилетней актрисы, и сердце сжимается от боли при мысли о том, что она умолкла навеки именно тогда, когда могла бы наконец что-то сказать».
На другой половине кровати – у нас ужасно роскошная кровать в четыре метра шириною и с балдахином – сопит Лаци. Я не перестаю ему удивляться, он даже сопеть умеет содержательно и с неподдельной глубиной, он у меня такой, это свойство его мастерства: во всем может выявить какую-то глубину, даже в сопении. Так благородно и интеллигентно спят разве что ученые с мировым именем, ну, может быть, еще государственные деятели, страдающие глубокой духовной жизнью. Да, Лаци умеет выразить своим изысканным и утонченным пыхтеньем, что он в настоящее время самый популярный актер Венгрии и награжден всем, чем только можно, мало того, он даже умудряется дать почувствовать, что его деятельность вовсе не независима от общего роста уровня культуры.
А что, если бы это солнечное пятнышко у меня на плече вдруг защебетало, как настоящая птица? Вот, пожалуйста, опять пришло в голову красивое и поэтичное, совсем как в детстве, когда мне постоянно лезли в голову разные необычные мысли. Я-то думала, что мысли мои необычайно красивы, но потом, когда мне исполнилось восемнадцать, появился Лаци и объяснил мне, что я просто глупая.
2
Человеческая природа – неразрешимая загадка. До сих пор не пойму, почему я была так счастлива, когда провалилась на вступительном экзамене в Театральный институт. Провалил меня Лаци.
Он уже в то время был знаменитым артистом, на которого простые смертные взирали как муравьи на кафедральный собор.
– Какой последний спектакль вы смотрели? – спросил он, восседая за покрытым красной скатертью столом, а справа и слева от него тянулись две глухих стены мрачных членов приемной комиссии.
– «Мостостроителей», – ответила я.
– Вам понравилось?
– Нет.
– А знаете ли вы, что эту пьесу наградили премией имени Кошута?
– Нет.
– И все же, что вы можете сказать об этом произведении?
– Что оно скучное.
– И все?
– Все.
Стены еще мрачнее уставились на меня. А он улыбнулся. Так, улыбаясь, он и вписал в мой экзаменационный билет «неуд».
3
Я ждала его около института: мне показалось, что своей улыбкой он хотел утешить меня. Блеснувший на окнах кафедрального собора свет я сочла персональным, мне одной предназначенным подарком.
– Большое вам спасибо.
– Вы очень огорчены?
– Да что вы…
Я не смела сказать ему, что счастлива, в этом я признаюсь только сейчас, здесь, в постели, глядя на него, на его правильный нос, одинаково совершенный и в классическом, и в современном репертуаре.
Я проводила его до театра. Чего я ему только не наговорила, всю свою жизнь шиворот-навыворот перевернула. У ворот театра, когда я почувствовала, что он хочет со мной проститься, я быстренько перешла к своему духовному миру.
В глубине души я уже в семь лет была актрисой. Самый первый урок в школе учительница начала словами: «Сердечно приветствую вас, дети», и я встала и поклонилась. Однако никто на меня не обратил внимания, тогда, воспользовавшись минутной тишиной, я встала из-за парты и выпалила выученное в детском саду четверостишие. Декламацию я завершила новым поклоном.
– Честно говоря, мне хотелось поклониться даже тогда, когда вы поставили мне «неудовлетворительно», – завершила я свое признание в моих актерских притязаниях.
– Странные у вас представления о театральном искусстве, – протянул он на прощание руку.
– Почему? – спросила я, смело глядя ему в глаза. – Я не знаю о театральном искусстве ничего, кроме того, что хочу стать актрисой.
4
Каждый день я часами прогуливалась перед его виллой, перед той самой виллой, в которой уже десять лет живу как его жена.
Своей постройкой наш дом обязан киноролям Лаци. С возведением стен связаны образы крестьян-середняков, трудно находящих свою дорогу в жизни, настилке паркета и покрытию крыши способствовали два дальновидных партсекретаря, облицовка кафелем ванной и кухня с мойкой и сушилкой слопали капитана-куруца и гонведа 1848 года, а построенный прошлым летом бассейн в саду нам удалось сделать благодаря одному не находящему выхода из жизненного тупика и кончающему самоубийством профессору.
После девятидневного стояния в карауле я наконец вывела его из терпения. Я скромно прогуливалась взад-вперед по противоположной стороне, когда он ко мне подошел.
– Какого черта вы здесь постоянно торчите? – спросил он весьма грубо.
Я остановилась и собралась со всеми своими душевными силами.
– Я хочу быть актрисой, – посмотрела я на него отчаянно, любуясь тем временем его изумительным носом, который и сейчас, в этот утренний час, разглядываю с таким восторгом.
– Вы же сдавали вступительный экзамен, не ответили, больше я ничего не могу для вас сделать.
– Я хочу быть актрисой, – повторила я, стараясь придать голосу как можно больше смелости, а на самом деле совершенно отчаявшись.
– Вы можете снова попытать счастья на будущий год. Это ваше право, больше мне нечего вам сказать, всего хорошего.
– Если я не стану актрисой, то…
– Послушайте, не смейте мне угрожать! – перебил он.
– Я не угрожаю.
– Не смейте мне тут кричать, что покончите с собой.
Я затрясла головой:
– Я не хочу кончать с собой, но если я не стану актрисой, то стану театральным критиком и буду писать о вас жуткие статьи.
Он рассмеялся. Он был прекрасен в эту минуту, он и теперь неотразим, когда смеется, хотя в этом месяце ему исполнилось сорок пять.
– Знаменитости легко смеяться. – Я обиженно выпрямилась. – А что делать тому, кто уже на вступительном экзамене провалился? Он вынужден вынашивать планы мести против своих угнетателей.
– Это вы меня называете угнетателем?
– Да.
– Почему, черт вас побери?
– Потому что вы мне предложили удалиться из-за «Мостостроителей» и не позволили прочитать «Агнеш».
– Что ж, прочитайте!
– Правда?
– Правда.
– Когда?
– Сейчас.
– Здесь, на улице?
– Здесь. Начинайте вполголоса, с толком. Меня интересует акцентировка и вообще как вы понимаете то, что читаете.
Я ни минуты не колебалась. Поклонилась и начала декламировать стихотворение прямо под круглыми кронами акации.
Мне удалось прочитать только три строфы. Четвертую он уже не позволил, сказав, что я не имею никакого представления о том, что читаю. Потом он стал меня спрашивать, задавал множество всяких вопросов, какие только можно себе вообразить, только я ни одного не поняла. Неважно, что́ я отвечала на эти его вопросы, но, по-моему, отвечала красиво и связно. Однако он накричал на меня:
– Довольно. Остальное меня не интересует. Идите домой и на веки вечные выбейте из головы мысль стать актрисой.
– Почему?
– Потому что вы дура.
Несомненно, это было то самое мгновение, когда я в него влюбилась.
5
«Во все времена нам надо было быть сильнее мужчин. Мы, женщины, в отличие от реалистов мужчин, в сущности, ирреальны. У мужчин и тело, и сила, и чувственная жизнь явны, реальны. А нам, женщинам, при наших невероятно хрупких, тонких физических данных, нужно нести все тяготы жизни, но так, чтобы из нашей усталости и наших страданий тоже рождалась красота. В этом наша ирреальность и наша поэзия».
Это финал третьего действия. Сегодня вечером ровно в девять пятьдесят я буду произносить эти слова на сцене Нового театра. Дюри Форбат говорит, что если я прислушаюсь, то в ответ на закрытие занавеса услышу гром аплодисментов.
И мне так кажется. На сегодняшней премьере я должна увлечь, захватить зрителей. Форбат написал свою пьесу «Счастье» для меня и долгое время бился с дирекцией театра, пока наконец главную роль не поручили мне. Я чувствую, Форбат в меня верит, и знаю, что сегодня вечером стану настоящей актрисой.
Меня тянет к Форбату? Нет, меня тянет только к моему мужу.
Дружба Дюри и Лаци возникла в первые дни нашей супружеской жизни. Тогда он начал писать пьесы для Лаци; он говорил, что в Лаци счастливо сочетается сухость современного человека с какой-то приятной романтикой. Ему он подарил три пьесы. А четвертую написал для меня, и по этой причине, мне так кажется, между ними возникла некоторая до сих пор не наблюдавшаяся напряженность.
Кстати, с Дюри Форбатом у меня очень сложные отношения. Я страшно много ему лгу. Не знаю почему, но, когда я ему что-нибудь рассказываю, всегда все получается не так, как было на самом деле. Хотя в общем я не такая уж и лгунья. Вру я не больше, чем другие. Однако Дюри мне всегда хочется рассказать что-то интересное, а иначе, как привирая, не получается. К счастью, он еще ни разу меня не уличил. Но это только благодаря тому, что свои враки я держу в порядке. Я буквально отпечатываю их в памяти и в любое время могу раскрыть на нужной странице.
Например, историю моего замужества я преподнесла ему следующим образом: «Знаешь, Дюри, случилось это так: однажды летней ночью окно у Лаци было открыто, я воспользовалась тем, что на улице никого не было, прекрасненько пролезла между железными решетками ограды, потом по плетям дикого винограда вскарабкалась по стене дома и влезла в окно спальни бедняжки Лаци. В окно светила луна, Лаци, спокойно и ровно дыша, спал. Я скинула туфли и села на край его постели, я смотрела на его лицо, которое он сам называет «вполне человеческим», и покорно гладила его руку. Представьте себе, когда он проснулся, то совсем не удивился, а только смотрел на меня нежно и улыбался, потом его глаза наполнились слезами, и он медленно, мягко привлек меня к себе. На следующий день мы расписались».
На самом деле все было совсем не так. После моего позорного провала с декламацией «Агнеш» я исчезла со сцены. Однако несколько дней спустя я прочитала в газете, что в Доме актера состоится диспут о современной драме, в котором выдающиеся писатели и актеры обсудят «самые злободневные вопросы нашей театральной культуры». Поскольку я была уверена в том, что Ласло Мереи будет в нем участвовать, я пробралась на этот диспут.
Там я впервые услышала имя писателя Дёрдя Форбата. Я запомнила его только потому, что докладчик назвал Дюри писателем, пользующимся уродливыми буржуазными методами, герои пьес которого своим постоянным мелкобуржуазным хныканьем вредят сознанию зрителей. Из этого интересного анализа я поняла не слишком много.
После нескольких выступлений, которые одобряли знания и прозорливость докладчика, с кресла, обтянутого красным плюшем, поднялся Лаци. Да, ты, мой Лацика. Ты, наверное, видишь сейчас во сне, как твоя жена стоит на сцене и, взяв за руку автора, низко кланяется публике под вихрь аплодисментов.
Ты увидел меня тогда и говорил изумительно красиво. Я не понимала, что ты говоришь, только слушала голос. Помню, и ты осудил за что-то Дюри Форбата, но за что ты его осудил, я ни тогда не поняла, ни сейчас не понимаю. Иногда, когда ты произносил какое-нибудь слово вроде «ограниченность», ты глубоко заглядывал мне в глаза, и я слушала твои рассуждения словно признание в любви.
После выступления Лаци все хлопали с большим воодушевлением, за исключением одного высокого, тощего молодого человека, который безмолвно покинул остолбеневший от неожиданности зал. Это был Форбат.
Председатель объявил перерыв. Я испугалась и решила поскорей сматывать удочки.
– Постойте! – услышала я у себя за спиной на лестничной клетке.
Я остановилась. Это был Лаци. Он энергично, почти грубо взял меня под руку, вывел на улицу и впихнул в какую-то машину. Вел он жестко, рискованно и всю дорогу молчал. На вершине горы Сабадшаг, свернув в какой-то переулок, мы остановились.
– А теперь говорите! – рявкнул он.
– Что говорить?
У меня зуб на зуб не попадал.
– Все равно, только не о театре, не об искусстве, мелите что хотите.
– Разве вам не нужно возвращаться на конференцию?
– Заткнитесь! – заорал он в бешенстве. – Если не хотите, чтобы я вас пристукнул.
Я вжалась в сиденье, рука моя искала ручку дверцы, чтобы вовремя выскочить. Глаза застилали слезы. Тут он совершенно неожиданно прижал меня к себе и ужасно страстно поцеловал. Мы целовались в машине, потом на улице, потом он привез меня в театр, и мы целовались в его гримерной, потом в квартире, я лишь за голову хваталась от этого безумия и пришла в себя только на третий день, когда уже была его женой.
Вместо этой истинной истории я выдумала для Дюри ночное приключение с влезанием в окно. Поверил ли он? Думаю, да, поскольку ничем не выдал своего сомнения. А может, он только сделал вид, что поверил? Не важно, и это мило с его стороны. Для меня, во всяком случае, это ночное приключение – одна из самых любимых выдумок. И я привязана к ней, как к правде.
Ой, Лаци проснулся: то самое солнечное пятнышко, которое до сих пор трепетало у меня на плече, перепрыгнуло ему на нос. Сейчас он улыбнется мне и скажет что-нибудь ободряющее, вроде: «Не бойся, Кати, вечером ты будешь иметь грандиозный успех». Но он не говорит ничего. Ресницы его снова медленно опускаются. Бедняжка, он очень устал.
В ВАННЕ
1
Я стою перед зеркалом: имею полное право посмотреть на себя, прежде чем залезть в ванну. Так вот я какая? Да, такая. У меня все в полном порядке, хотя мне уже исполнилось двадцать девять и я родила Лаци Марику, которая сейчас ходит во второй класс. Я мама. Красивая стройная мама, о которой и о такой вот, обнаженной, можно написать сочинение: «У моей мамы исключительно пропорциональная фигура; изящные покатые плечи и нежная линия бедра наполняют гордостью мое дочернее сердце». Так могла бы Марика начать свое школьное сочинение ко Дню матерей. К сожалению, за такое сочинение ее бы не похвалили, потому что красота не из тех предметов, о которых можно говорить откровенно между людьми.
Вода приятная, теплая. Я смущена: если у меня и в самом деле будет большой успех вечером, как мне себя вести? Быть скромной и бесстрастной или закутаться в златотканую мантию успеха и задрать нос?
– Ты никогда не станешь настоящей актрисой, – сказал мне однажды на актерском балу Лаци. – Ты не умеешь себя вести.
И он прав. Мне бесполезно приготовляться к вечеру, я не смогу быть ни скромной, ни гордой. Я буду такою, какая есть. Какой кажусь здесь, в этой кристально чистой воде.
Для бедного Лаци это ужасная трагедия. У меня нет настоящего чутья к культуре – что правда, то правда. Это выяснилось уже в школе. Я, например, считала слегка чокнутыми поэтов, чьи стихи не понимала. Однажды я и сказала об этом на уроке литературы и до самых экзаменов на аттестат зрелости страдала от последствий этого своего выступления. Впрочем, я до сего времени не выросла из подобной примитивности, просто теперь я лучше слежу за своим языком.
За время нашего десятилетнего супружества Лаци всегда с должным пониманием относился к тому, что я не могу блистать рядом с ним.
Он никогда не упрекал меня за мое простое происхождение. Я думала, что такой известный артист, как он, хотел бы сохранить в тайне, что отец его супруги трамвайный кондуктор. Я ошибалась. Лаци дал на нашей вилле блестящий свадебный ужин, на который были званы два замминистра и множество видных общественных деятелей. Мои папа и мама места себе не находили: мама, когда ее представляли гостям, улыбалась все отчаяннее, папа с праздничным выражением лица прострадал весь вечер. Бедные мои, они чувствовали себя ужасно, хотя Лаци постоянно их опекал.
Признаться, я и сама струхнула. Вечер был головокружительный. Под руководством нашей экономки, тети Марии, гостей обслуживали четыре нанятых на этот день официанта. Свадебный вечер обошелся в двадцать тысяч форинтов, и в распахнутых настежь комнатах толклось больше восьмидесяти человек.
Заместитель министра – тот, который очкарик, который посимпатичнее, – взял Лаци под руку и вышел с ним на террасу. Я болталась по другую сторону от Лаци и чувствовала, что я тут совершенно лишняя, но мне не приходило в голову никакого предлога, под которым я могла бы смыться. А ведь сколько раз видела в кино и в театре, как хозяйка дома с милой, слегка лукавой улыбкой говорит: «Простите, мне нужно распорядиться по дому». Действительно простой текст, и все же он не пришел мне в голову. Я чувствовала себя так, словно у меня сползает чулок, а вокруг полно людей и поправить его невозможно.







