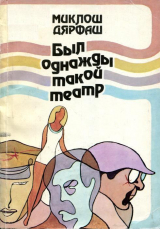
Текст книги "Был однажды такой театр (Повести)"
Автор книги: Миклош Дярфаш
Жанр:
Повесть
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 19 страниц)
– Я сказал: в любой труппе!
– Да ведь мы…
– А мне плевать, что вы и как вы. Я сказал, и все. – Он даже передернулся от возмущения.
– Дядя Банди, господь с вами! Вы что, забыли, где мы находимся? – Голос у молодого актера стал умоляющим.
– А? – очнулся Белезнаи от своего праведного актерского гнева. – Ты о чем, собственно? С ума тут все посходили, что ли? И я тоже… тоже тронулся с вами…
Он засмеялся, огляделся вокруг, протер глаза и покорно вернулся к столу. А я начал излагать тему.
АКТЕРЫ
– Непонятный ты все-таки человек. По всем качествам, если брать их в отдельности, ты, в сущности, ангел, а сложишь – получается дьявол. Ты так здорово изложил нам свои вдребезги расколотые мечты, так представил большую драму, превратив ее в дурацкую оперетту… да еще улыбался при этом… В общем, я тебя поздравляю.
Торда горячо стиснул мне руку. Я скромно поклонился. С первой минуты знакомства мы с искренним удовольствием разыгрывали друг перед другом маленькие спектакли.
– Итак: «Дочь колдуна». Четыре морских офицера: русский, американец, англичанин и француз – попадают на остров. И все четверо влюбляются в дочь живущего на острове колдуна, в прекрасную Акабу… Дьявольская выдумка, Мицуго, – прощался со мной Торда, лейтенант и писатель, у задней двери третьего барака, ставшей служебным входом театра. Он спешил в редакцию, чтобы мелким четким своим почерком, сразу притягивающим к себе взгляды, и цветной феерией заголовков в завтрашнем номере известить мир о начале работы театра.
Люди мои с первых дней были отравлены сладким ядом сценического дурмана. Они жили словно в гипнозе, забыв прошлое; они совершенно освоились в новом, чужом для них мире.
– Ты считаешь, я буду хорош как английский лейтенант? Может, я бы лучше американца сыграл? – задумчиво спрашивал меня всегда такой флегматичный Мангер. – Что говорить, Гамильтон мне подходит, я чувствую себя естественно в этой роли, вот только американец, мне кажется, должен быть более легковесным да к тому же обладать юмором; боюсь, что Шелл, который как-никак только шпагоглотатель из луна-парка, превратит лейтенанта Брауна в хулигана и шаромыжника. В общем, может, мне с ним поменяться?
– Нет. Из тебя получится великолепный Гамильтон.
– Да, да, но я бы и Брауном был неплохим.
– Верно, Калман, но твой юмор – скорее суховатый, английский.
– Как? По-твоему, у меня нет американского юмора?
Зеленовато-серые глаза Мангера затуманила обида.
– Есть. Определенно у тебя есть американский юмор, – поспешил я со всей убежденностью успокоить его. – У тебя есть еще и французский, и русский юмор, но все-таки я даю тебе роль не Пуассана, не Бородина, а Гамильтона, потому что твоей натуре английский офицер ближе всего.
– Что ж, как знаешь, – возникло на лице Мангера высокомерно-оскорбленное выражение, так свойственное актерам.
Едва Мангер скрылся в пятом бараке, а я занял свое место на белом камне, освещенном розовыми лучами заката, как откуда-то из-под земли возник Хуго Шелл и сообщил: чтобы сыграть американского моряка, ему обязательно нужна жевательная резинка.
– На черта тебе жевательная резинка?
– Я хочу постоянно двигать челюстями. Тогда Браун действительно будет похож на американца. Резинка во рту днем и ночью, в бою и в постели с женщиной, понимаешь?
– Двигай, если считаешь, что это будет смешно. Но ты и так прекрасно можешь изобразить, будто во рту у тебя резинка.
– Ха-ха, милый мой, только дело в том, что я собираюсь время от времени вытаскивать ее изо рта и растягивать.
– Фу, как не стыдно, Хуго? Разве морской офицер так поступает?
– Стыдно? Мы будем играть не для баронов и графов, а для голодранцев военнопленных. Понял, директор? Надо, чтобы зрители, милый мой, покатывались со смеху. Да, да, я буду вытаскивать резинку изо рта, а в конце прилеплю ее Бородину на лоб, чтобы показать, какие мы хорошие союзники.
– Слушай, Хуго, ты во всем лагере не найдешь ни кусочка резинки, а если бы и нашел, все равно таких пошлых трюков я на сцене не потерплю. Тебе тут не балаган.
– Ах, вот как? Тогда пардон. Это – дело другое. Если тут не балаган, то извини. Тогда остается святое искусство. Тогда Хуго Шелл заткнется и примет к сведению, что он не в балагане, а в господской компании.
Я в отчаянии опустился на камень.
– Ну, хорошо. Делай, как сочтешь нужным, но учти, что я не стану тебе искать в лагере жевательную резинку.
– И не ищи. Резинка – вот она, у меня в кармане, – победоносно посмотрел на меня ефрейтор.
– Где ты достал?
– Когда я был без работы, мне пришлось на какое-то время пойти в карманники, – застенчиво улыбнулся Хуго Шелл. – Хочешь одну?
Он ласково сунул мне в руку прямоугольную пластинку жевательной резинки и исчез. Я хотел было развернуть бумажку, но с изумлением обнаружил, что в ладони у меня пусто.
Над сторожевыми вышками пылал алый закат. Я сидел, щурясь в его лучах, смирившись с колючей проволокой, ограждавшей лагерь и мое сердце.
ЮНОЕ СЕРДЦЕ
Когда раздавали ужин, Янчи Палади со своей миской оказался передо мной. Кутлицкий распорядился, чтобы мне тоже выдали алюминиевую посудину. Геза Торда отказался занимать очередь к казану.
– Я не ужинаю сегодня, – заявил он.
– Ну да? – не поверил ему Палади.
– Фасоль я не ем.
– Господи боже!
– В жизни не ел фасоли. И сейчас не стану.
– Но это же самый питательный продукт, о котором можно мечтать в лагере.
– Можешь съесть мою порцию.
Молодой человек бросился целовать Торде руку. Когда подошла его очередь, Торда сделал раздатчику знак, что свою порцию он уступает Палади. Горячее варево из второй разливательной ложки брызнуло молодому актеру на руку, но тот, не особенно огорчившись, тут же слизнул с кожи драгоценную пищу. Он сел рядом со мной.
– Сколько можно будет, столько и съем. Здоровье очень уж быстро слабеет. Если кому что не нравится, пускай мне говорят. Надо же так повезти: Торда от фасоли отказался. Про такое я до сих пор не слыхал даже, – шептал он, словно боясь, что лейтенант, не дай бог, передумает.
– Ешь спокойно. А то у тебя вон даже руки трясутся.
– Вот увидишь, я буду прекрасным офицером русского флота, – уплетал он похлебку. – Обаятельным, милым, храбрым, простым, красивым… Словом, лейтенант Бородин из меня получится идеальный – дитя народа и в то же время истинный князь… Ну, понимаешь, как бы два русских типа вместе: и мужик, и аристократ. В общем, тебе ясно?
– Ясно.
– Ты мною ужасно будешь доволен. И русские тоже. Я хочу отличиться, потому что мне позарез нужно в этом году вернуться домой. Как ты думаешь: если я Бородина этого сыграю так, что русское начальство ахнет, отпустят меня?
– Вполне может быть. Но чего ты так спешишь, Янчи?
– Есть там бабенка одна. Влюбилась в меня как раз перед тем, как я в плен попал. Не думаю, что она будет меня долго ждать.
– Почему же не будет? В таких случаях женщины ждать умеют. Любуются собственной душевной силой, гордятся ею – и ждут.
– Она – не станет. Натура у нее не такая.
– Что-то ты в мрачном свете все видишь.
– Нет. Верности в ней – на семь-восемь месяцев, не больше. Потом сдастся. Если до ноября сумею вернуться, может, не опоздаю… Ты чего улыбаешься?
– Плохо ты знаешь женщин. Веришь тому, что про них навыдумывали разочаровавшиеся мужчины. Веришь, будто неверность у них в натуре…
– А ты из всего делаешь философию. Жизненного опыта у тебя мало. Ты Кати не знаешь, а я – знаю, и знаю, какая у нее натура.
– Ты что, жениться на ней собираешься?
– Женился уже.
– Ты ведь только что говорил – бабенка.
– Это – из суеверия. Боюсь, не совсем еще она мне принадлежит.
– Когда женился-то?
– Перед осадой Пешта. С помощью сотни стихотворений венгерских классиков.
– То есть?
– Стихи я читал ей. Чоконаи, Бержени, Верешмарти. Дошли до Петефи, когда она согласилась моей женой стать, и немного оставалось до Ади, когда меня увезли… А можно я спрошу тебя о твоей любви?
– Нет, – резко ответил я.
– Не хочешь говорить?
– Не хочу.
– Почему?
– Я уже говорил о ней с Гезой Тордой. Не хочу свои чувства размножать под копирку.
– Нелегко тебе, наверное, с такой замкнутостью.
– Нелегко…
Палади с грустью взглянул на пустую миску, встал, озираясь: нельзя ли еще немножко продолжить ужин? Вдруг кому-нибудь станет плохо или кто-то внезапно умрет…
ДО́МА
Вечером изгородь из колючей проволоки наводит особую грусть. Постепенно сливаясь с густеющей темнотой, она кажется более бессмысленной, чем обычно. В такой час начинаешь думать, что она, эта изгородь, не нужна, раз ее не видно. Человеку, который за ней находится, начинает казаться, что проволока и ржавые колючки куда-то исчезли, – и воображению его открываются ничем не ограниченные просторы.
Когда Палади оставил меня одного, я тоже куда-то двинулся в густеющей тьме и беспрепятственно оказался за чертой горизонта. Несколько кратких минут – и взгляду моему открылась знакомая улица, сводчатая подворотня с калиткой, серого, паутинного цвета перила на лестнице; оставалось нажать лишь кнопку звонка у дверей.
– Вера? Ее нет дома. По вечерам она в парткоме. Приходит обычно поздно совсем, – сказал через приоткрытую дверь доброжелательный женский голос.
– Я ей навстречу пойду, можно?
– Конечно, пойдите. Вы не устали?
– Нет, всего каких-то пару тысяч километров.
– Ну, это в самом деле немного. Особенно если не связываться с поездами: они теперь ходят как бог на душу положит. Вы приехали или пешком?
– Пешком.
– И правильно, сынок, пешком – это самое лучшее.
– Только я по воздуху. Так, знаете ли, быстрее.
– Конечно. Вера тоже часто прямо отсюда, из окна, вылетает. Вон там, видите, возле трубы, повернет, потом крутой вираж – и на месте.
– До свидания, целую ручки.
– Счастливо, сынок, счастливо.
– А скажите, тут уже в самом деле равенство?
– Конечно. Каждого, где бы он ни работал, назначают на должность человека.
– А блага, блага тоже теперь у народа? По справедливости?
– А как же, милый! Все как положено.
– Спасибо за разъяснение. Так я тогда полетел, – говорю я и, оттолкнувшись, через перила галереи лечу прямо к трубе. Подо мной, в глубине двора, привратник спешит к угловой квартире первого этажа. Не удержавшись перед соблазном, я сверху плюю ему прямо на шляпу.
МЕЧТЫ
На другое утро барак был сотрясен мощным пением. Эрнё Дудаш, расправив плечи и подняв голову, бесконечно долго выдерживал одну ноту, которая, как ураган, билась в стены, снеся с сосновых балок, на которых укреплены были нары, несколько зазевавшихся клопов.
– Однако, кажется, я нынче в голосе, черт возьми, – хвастался сапожник, плеща на себя холодную воду из жестяной шайки. – Лишь бы в спектакле было что петь.
– Будет, будет что петь, – успокаивал я его, ежась в жидких лучах утреннего не-греющего солнца. – Будешь петь в каждом акте.
– Дурак я, что не учился пению.
– Точно, точно, голос надо было поставить.
– Только кто бы стал там со мной разговаривать, с подмастерьем сапожника?
– При чем тут подмастерье? Например, Шаляпин был грузчиком.
– А кто такой Шаляпин?
– Всемирно известный бас.
– Черт возьми, теперь все будет по-другому. Смотри русским не проболтайся, что я сапожник: еще засунут куда-нибудь в мастерскую.
– Думаешь, они захотят остаться без лучшего певца в лагере?
– Ты тоже веришь в мой голос?
– Верю.
– Когда я стану всемирно известным, потихоньку буду сам шить себе обувь. Это будет моей благодарной данью памяти о голоштанном детстве, проведенном за дратвой и шилом.
– Хорошая мысль. Какой-нибудь ловкий журналист, американец или итальянец, наверняка напишет о тебе книгу и упомянет в ней эту интригующую подробность.
Дудаш широко развел руки и прямо так, полуголый, посреди лагерного двора стал выводить гаммы. Он три раза прошел по шкале из конца в конец, без видимого напряжения постоянно наращивая силу рвущегося из глотки голоса. На дальних, величиной в дюйм, сторожевых вышках шевельнулись черные точки.
ОПЕРЕТТА
Один только Арпад Кубини как будто не рад был приближению первой репетиции. Утром того дня, на который она была назначена, он нервно расхаживал вдоль задней стены барака.
– Что-нибудь не так, Арпад?
– Нет-нет…
– А все-таки?
– Я подал рапорт с просьбой включить меня в транспорт, которым отправляют штабных офицеров. Не хочу я быть актрисой.
– Зачем тогда пел женским голосом при отборе?
– Не знаю. Может, очень хотелось жить полегче.
– Ты очень хорошо пел.
– Это – не искусство. Это – отчаяние. Трусость офицера, можно и так назвать.
– Скорее, пожалуй, смелость.
– Послушай, я читал романы о военнопленных. В них было и о театре, об исполнителях женских ролей. Это были гомосексуалисты. Имитация женщины совершенно преображает актера. Понимаешь меня? Я не хочу лишиться своей офицерской чести. И не стану лагерной примадонной.
– Этого ты не бойся, Арпад. Гарантирую, что такая опасность тебе не грозит. Я хочу создать настоящий театр. В шекспировском театре все женские роли: леди Макбет, Джульетту – тоже играли мужчины. Я не допущу, чтобы в третьем бараке появился какой-то любительский театришка. Цель нашего театра – дать людям счастье… Погоди, я могу сказать и точнее…
– Оставь ты эту ерунду. Я лишь в том случае останусь паяцем, если вы примете к сведению: пусть я играю дочь колдуна, все равно я – офицер. Солдат, который попал в плен. Ясно?
– Ясно.
– Если вы будете уважать мои чувства…
– Ради бога.
– Мой образ мыслей…
– Разумеется.
– И мой ранг. То есть: если я смогу остаться тем, кем являюсь.
– Все будет так, как ты хочешь.
– То есть: если никто, ни из актерских восторгов, ни из неуклюжего желания пошутить, не назовет меня актрисой или примадонной. Принимаешь эти условия?
– Принимаю.
– Спасибо, Мицуго.
– Не за что, господин капитан.
Он остановился, вытянулся по стойке «смирно» и отдал честь. Он играл другую оперетту.
СОЧИНЕНИЕ ПЬЕСЫ
– Пьеса начнется аккордами гавайской музыки. Это – увертюра. Мягкая мелодия саксофона даст зрителю ощутить, как дремлют под солнцем томные пальмы. Литавры…
– Можешь не продолжать, – остановил меня в самом начале репетиции Абаи. – К завтрашнему дню музыка будет. Пока только на скрипке, через несколько дней я сделаю полную оркестровку. У меня одиннадцать человек музыкантов, все с инструментами. Начнется как-нибудь так…
Он стал насвистывать мелодию. Хуго Шелл тут же подхватил ритм, а в следующий момент изобразил перебранку попугаев.
– Эти крики очень были бы кстати перед поднятием занавеса, пока звучит увертюра, – сказал я, режиссерским жестом показывая на Хуго Шелла.
– Будут, будут тебе попугаи, – успокоил меня шпагоглотатель. – Если искусство потребует, я сил не пожалею.
– Итак: увертюра, крики попугаев, занавес поднимается, на сцене – морской берег, нигде никого, потом появляется Бао-Бао-Бао, колдун, владыка острова.
– Откуда: справа, слева, в середине? – вылез вперед Белезнаи.
– В середине. Из пальмовой рощи, – ответил я. – Вообрази на сцене пальмовую рощу.
– Вообразил, – нетерпеливо прервал меня старый актер. – Мне такое не надо объяснять, как ребенку. А как я оттуда выйду? Вприпрыжку? Или степенным шагом, как подобает вождю племени?
– Нет. Медленной, осторожной походкой.
– Почему осторожной?
– Потому что тебе страшно.
– Почему?
– Потому что война. Остров только что бомбили немецкие самолеты… Пьеса начинается с того, что Бао-Бао-Бао проклинает гигантских железных птиц.
Глубокие морщины на лице Андора Белезнаи от изумления стали вертикальными.
– Разве мы ставим не оперетту?
– Оперетту.
– Милый ты мой, прости, ты же актерский сын, неужели ты всерьез это говоришь? Так шекспировская драма может начаться, а не оперетта.
– Дядя Банди, дорогой, это ты меня прости… ты всегда был прекрасным актером, я твое имя узнал вместе с именем Арпада Одри[9], – пустился я лицемерить, как научился еще в раннем детстве, – но ты же должен понимать, что одно дело – игра, а совсем другое – сочинение.
– Другое?
– Другое.
– Господи боже! Все к черту перевернулось, – в отчаянии, круглыми глазами смотрел на меня Белезнаи.
Я ничего не ответил ему, ожидая, пока воцарится полная тишина. Старик тоже молчал. Было тихо. И тут из глубины сцены послышались решительные шаги.
– Так дело не пойдет, – раздался суховатый и ироничный голос Торды. – Мицуго, текст все-таки нужен. Я выпишу тебе сто пятьдесят листов туалетной бумаги, а ты сядешь и, как полагается, напишешь нам пьесу. Сколько времени тебе нужно?
– Три дня, – сказал я, не раздумывая.
– Прекрасно. Я примерно так и предполагал. Господа, все могут идти по местам, в пятый барак.
ПРОИЗВЕДЕНИЕ
Перед его отточенной, словно бритва, вежливостью нельзя было не отступить. Я писал пьесу без остановок и исправлений, сидя возле барака, опершись спиной о его стену и положив на колени доску.
– Готово? – легла на меня его тень ровно через три дня, в воскресенье, в послеобеденный час.
– Пять минут, как закончил, – поднял я на него глаза.
– Как получилось?
– Хорошо.
– Тогда читай.
– Пожалуйста.
– Давай походим, читай на ходу.
– Как тебе будет угодно.
Я чувствовал себя усталым: работа, сидение в одной позе утомили меня, но я не протестовал против прогулки. Мы двинулись вдоль нескончаемого ряда бараков. Торда держал меня под руку.
С волнением стал я читать первое действие.
– «Бао-Бао-Бао, черный колдун, вбегает на сцену, изображающую поляну в джунглях. Он тащит за руку дочь.
Б а о – Б а о – Б а о. Все исчезли, Акаба. Все варвары, до последнего, покинули остров.
А к а б а. О, скажи мне, отец, неужели наше племя было когда-то таким же жестоким и кровожадным, как те, что вторглись сюда?
Б а о – Б а о – Б а о. Да. Сотни лет назад, когда мы находились еще на такой же низкой ступени развития, как эти белые.
А к а б а. А что, наши предки тоже верили в бога по имени Гитлер?
Б а о – Б а о – Б а о. Имени того древнего идола я не помню, но он, видимо, был таким же жестоким, как Гитлер, ибо среди наших древних племен царили тогда первобытная ненависть и страх».
Я прочел и слова песен. Первой была песня Акабы о свободе. Потом шла призывная песня колдуна. Собственно, даже не песня, а заклинание, которым он созывает туземцев, бежавших от варваров на пирогах.
Торда молчал и внимательно слушал. Когда на сцене появились четыре морских офицера: Бородин, Браун, Гамильтон и Пуассан, – а колдун с дочерью в отчаянии убежали, он прервал меня.
– Довольно, Мицуго. Отдохни немного.
– Тебе нравится?
– Мы ждали от тебя оперетту, так почему же это мне не понравится? Если я верно уловил ход твоей мысли в первом акте, то в дальнейшем четверо офицеров-освободителей, иными словами – четверо союзников, завоевывают доверие колдуна и его дочери, доказав, что они – враги злого бога, Гитлера.
– Это действительно так, но не забегай вперед. Давай я закончу чтение.
– Погоди, не спеши, Мицуго. Боюсь, что пьеса эта такова, что ни убавить, ни прибавить. По моим расчетам, четверо офицеров все как один влюбляются в Акабу, между ними начинается соперничество, оно переходит в открытую вражду, в борьбу за девушку.
– Да, а в конце…
– Не надо, не рассказывай конец. Это совершенно излишне. Чтобы сложившаяся коллизия не привела к роковой развязке, колдун вместе с дочерью тайно садятся в пирогу и покидают остров, и лишь удаляющаяся, тающая в морском просторе песня Акабы доносит до нас ее неизбывную грусть.
– В самом деле, все именно так и кончается, – сказал я убито, когда мы вышли на широкий пустырь за бараками. – Выходит, дальше читать нет смысла.
– Смысла нет, – кивнул Торда. – Ты написал именно то, что требовалось, задачу ты выполнил. Завтра можно начинать репетиции. Поздравляю.
Ирония исчезла с его лица. В глазах у него я впервые увидел боль.
ПОЭЗИЯ
Из-за нехватки бумаги мы не расписывали роли на каждого персонажа. Трижды в день мы собирались и заучивали текст. После десятка таких репетиций каждый знал свою роль наизусть. И не только свою. Мы были счастливы.
Возбуждение не покидало нас и после репетиций. Это часто бывает с актерами: разучивая какую-то роль, они страстно в нее влюбляются и неохотно возвращаются в привычные рамки своего «я». Когда матушка моя играла королеву, она щедро давала мне денег на мороженое, а когда вдову, деревенскую учительницу, я не мог добиться у нее ни гроша.
Любители наслаждаются своей ролью вне сцены еще с большим самозабвением. Сапожник Дудаш и вне стен третьего барака продолжал оставаться лейтенантом Пуассаном: это ощущалось и в его фатоватой походке, и в горделивой осанке. Всего за несколько дней он избавился от своей угловатости, стал частенько употреблять изысканные выражения, выучил – с помощью Торды – первый куплет «Марсельезы», а при встрече вместо приветствия небрежно козырял. Вначале он не обижался, если над ним посмеивались, однако спустя две недели потребовал, чтобы с ним обращались, как положено обращаться с французским морским офицером. В вопросе о географическом положении Франции он проявлял известную неуверенность, не видя существенной разницы между Тихим и Атлантическим океаном, но – опять же с помощью Торды – узнал имя де Голля и с удовольствием поминал военного руководителя французского Сопротивления, называя его фамильярно «мон женераль».
Торда каждый день проводил с Эрнё Дудашем по полчаса, обучая его французскому.
– Удивительные способности к языку, – сказал он мне на одной репетиции. – Каждое слово схватывает на лету. Напишу ему палочкой на земле, объясню, как произносится, и готово. Можно стирать и писать следующее.
Эта страсть к игре начисто отсутствовала у Мангера. В роли английского лейтенанта он еще кое-как удовлетворял требованиям, но, сойдя со сцены, не желал играть ни минуты. Я знал, он все время думает о жене.
– Ты что, все еще полагаешь, что она тебя бросит? – спросил я однажды, застав его за бараком в слезах.
– Нет. Я боюсь, что она умерла.
– Когда мы шли по шоссе, тебя только ревность мучила. Причем без малейших оснований. Брось ты, к черту, мрачные мысли, – пытался я немного расшевелить его.
– Знаешь, я все время вижу ее на середине моста Эржебет: она бежит в сторону Пешта – и вдруг мост раскалывается пополам.
– Калман, вы со стариком Белезнаи жизнь мне спасли. Я ничем не могу тебя отблагодарить, кроме как…
– Ты уже отблагодарил, – перебил он меня. – Отблагодарил, когда взял в труппу актером.
– Нет! Я тебя по-настоящему отблагодарю еще – хорошим пинком под зад. За то, что ты себя понапрасну травишь.
Он пожал плечами, не переставая плакать.
Хуго Шелл проделывал с жевательной резинкой самые невероятные трюки. Он выстреливал ею изо рта и тут же втягивал обратно, выдувал воздушный шар, потом вдруг глотал его; однако самым большим сюрпризом для нас были его слова, когда я, пользуясь своим режиссерским правом, категорически запретил всякие игры с резинкой.
– Мицуго, милый ты мой начальник, да нет у меня никакой резинки, – посмотрел он на меня искренними, чистыми глазами и широко разинул рот. – Пожалуйста, смотри сам: нигде нет, – показывал он всем свое нёбо.
– К десне приклеил.
– Нет.
– В зубах спрятал.
– Честное слово, нет у меня никакой резинки.
– А если я тебе пальцами в рот влезу?
– Ради бога.
Всерьез разозлившись, я побежал на сцену и тщательно ощупал нёбо, десны, зубы Хуго Шелла. Наверняка я был первый режиссер в мире, который прибег к такому экстравагантному приему, – но я уже не способен был справиться со своим возмущением.
Во рту Хуго Шелла не было и следа резинки.
– Неужели проглотил? – заикаясь, пробормотал я.
– Нет. Вот, смотри, – он сделал шаг назад, – смотри на мои руки, вот, да не так сердито, ага, теперь хорошо – точь-в-точь царственный олень, это как раз то, что надо… Итак, раз, два, три, – произнес он, и на губах его вдруг вновь возник пузырь из жевательной резинки.
Я попытался схватить его рукой, но схватил лишь пустоту. Лицо Хуго оставалось серьезным.
– Пойми наконец, Мицуго, речь идет о простом обмане. О внушении.
– Ты что, и гипнозом владеешь?
– А что? Конечно.
– Невероятно.
– Репетиция продолжается, – шагнул на середину сцены балаганщик и запел выходную арию офицеров: «Мы союзники, парни бравые, против Гитлера сражаемся со славою…»
И тут на губах у него вновь возник и стал разбухать цветной шарик.
СООБЩЕНИЕ
Янчи Палади везде и всюду изучал русскую душу. Правда, по-русски он говорить не умел и русских слов, кроме названий некоторых предметов первой необходимости и двух-трех ругательств, не знал; поэтому в наблюдениях своих он исходил из различных теорий. А теории эти сочинял сам. «Мечтательный народ», – заявлял он, увидев охранника, который, задумавшись, смотрел вдаль. Пускай охранник просто-напросто нетерпеливо ждал смены – обстоятельство это ничуть не влияло на открытие Палади. Умозаключения его время от времени менялись, мечтательный народ в один прекрасный день превращался в «народ, носящий в душе Христа», а все потому, что какой-нибудь солдат, наевшись, давал Янчи ломоть ржаного хлеба. «Наивные, доверчивые люди», – делал он вывод, выманив у одного старика украинца жестяную табакерку; на другой день, услышав, как Миша, пятнадцатилетний охранник, вел пленного в лагерный лазарет и, когда у него схватило живот, заставил и конвоируемого, чтобы тот не сбежал, спустить штаны, Янчи нашел в русской душе заряд «здоровой крестьянской хитрости».
Вживаясь в роль лейтенанта Бородина, Палади на каждой репетиции вносил в этот образ все новые краски. Но в игре его было одно постоянное свойство: глубочайшая жажда перевоплощения. Мечтательным ли, христолюбивым ли, он полностью отдавал себя роли. Я был уверен: вернувшись домой, на родину, он станет актером высочайшего класса… Стал же он шинкарем в пивной, которую получила в наследство его жена.
Белезнаи следил за Янчи со все возрастающим унынием. Видно было, он готов поставить крест на актерском будущем Палади. Когда ему, Белезнаи, было столько лет, как этому сопляку, он ходил в клетчатом пиджаке, вертел в пальцах тонкую бамбуковую трость, небрежным тоном, слегка кривя рот, произносил хлесткие реплики, подмигивал публике, а когда признавался в любви субретке, прижимал к верхней губе – на манер усов – ее локон. Я видел, искренние интонации Палади приводят Андора Белезнаи в ужас.
– Разве это сценическая речь, милый мой? – не выдержал он на очередной репетиции. – В Академии, может, такое вот бормотание, такие невыразительные движения и сошли бы, а на сцене от этого толку не будет. Вы уж меня простите, но в оперетте надо говорить в полный голос, в хорошем темпе, слегка чеканя слова, молодцевато – особенно если ты играешь военного. Да не простого военного, а морского офицера!
Он показал, как, по его представлениям, должен ходить морской офицер: расправив плечи, с гордым блеском в глазах, с неотразимой улыбкой. Сдавленным голосом он пропел несколько строк из выходной арии, бросил взгляд направо, налево, промаршировал по сцене и завершил урок, триумфально, упруго вскинув руку к головному убору.
– Видел? – спросил он, обращаясь к Палади. – Все как следует рассмотрел?
– Все как следует.
– Тогда продолжай.
Это была в полном смысле слова драматическая сцена. Молодой актер и старый комедиант молча смотрели друг на друга. Не было мировой войны, не было миллионов убитых, не было плена – лишь они вдвоем стояли в центре мироздания. Два артиста.
– Прошу всех продолжать! – закричал я с тайным страхом и деланным воодушевлением. Палади застенчиво, но решительно улыбался. Белезнаи сложил руки на груди, глаза его сверкали, как у Сирано де Бержерака.
– Что, не понравилось, может?
– Это было великолепно, дядя Банди, вот только…
– Только? Что только?
– Я не так это представляю.
– Не так? Тогда изволь. Тогда я ничего не говорил. Вам, молодым, виднее. – Голос его дрожал. – Мы, старики, ни на что, конечно, уже не годны. Так что делайте по своему усмотрению.
– Дядя Банди, но я же…
– Не желаю спорить с тобой! – с оперной звонкостью в голосе воскликнул Белезнаи, обычно слегка хрипловатый. – Большего, чем я сделал, я для театра сделать не могу…
И тут с треском распахнулась боковая дверь. В барак влетел Геза Торда, подбежал к сцене. Остановился, подтянутый, как струна, и с непривычной для него торжественностью объявил:
– Друзья! Вчера Советская Армия выбила с территории Венгрии последние немецкие части.
Он стоял неподвижно, в подчеркнуто скульптурной позе. Он знал, что сейчас под ним – пьедестал истории.
Два актера все ругались на сцене. Потом вдруг замолчали и уставились на застывшего внизу офицера.
МАРИЯ
У капитана Арпада Кубини работа над ролью Акабы, дочери колдуна, шла ровно, без сбоев. Он был мягок, изыскан, удивительно хорошо пел, легко, словно порхая, двигался среди пальм даже в мундире.
Мы с интересом наблюдали, как он, задолго до генеральной репетиции, стал надевать сценический наряд, чтобы освоиться со своей необычной задачей. Основой его костюма стали зимние офицерские кальсоны и нательная рубашка; в белье этом, выкрашенном в шоколадно-коричневый цвет и плотно обтягивающем тело, капитан ни капли не был смешон. Высокая, стройная фигура его выглядела превосходно. А когда ему дали юбочку из рафии, и плетеный бюстгальтер, он стал совершенно неотразим.
После очередной репетиции я дождался его у выхода и от души поздравил. Я сказал, что считаю его игру образцом виртуозного артистизма.
– У меня просто слов нет, честное слово, – признался я. – Ведь ты до мозга костей человек военный, на тебе написано, что ты офицер, и вдруг – столько естественной, непритворной грации. В твоей игре, во всех движениях, в манере держаться так много глубокого знания о женской натуре… словно ты намеренно, долго изучал какую-нибудь юную девушку. Не понимаю даже, как можно такое создать…
– У меня сестренка была. Звали ее – Мария. Она умерла в восемнадцать лет. И давай на эту тему говорить больше не будем.
Я остался стоять возле груды кирпича. А он широким шагом направился в сторону пятого барака. Я медленно побрел следом.
РЕВНОСТЬ
В годы юности я был во власти одной странной мании, или пристрастия, во всяком случае. Театральная атмосфера, мир кулис, бродяжничество, веселая хвастливость и легковесное глубокомыслие актерской братии, ее склонность преувеличивать страдания, уживающаяся со способностью быстро вспыхивать и впадать в благородный гнев, – все это еще в детстве побуждало меня находить удовольствие в лицемерии, лицедействе. И лицедействовать при любой возможности – не из низости, разумеется, а просто, естественно, словно я уже был готовым актером.
Когда меня, еще второклассника, сажала к себе на колени пухленькая субретка из родительской труппы и играла со мной в гусары, я представлял себя молодцеватым, с колючими усами капитаном и, войдя в эту роль, наслаждался ее округлыми формами, запахом пудры и духов, исходившим от ее груди. Я и в школу пошел как актер и с удовольствием играл школьника, поначалу разражаясь трагическими рыданиями из-за двоек, а позже изображая легкомысленного бонвивана и дерзко пожимая плечами, когда хотел дать понять своим учителям, до чего мне плевать на все эти мелкие школьные неприятности.







