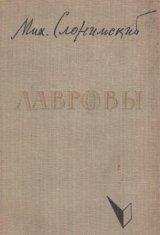
Текст книги "Лавровы"
Автор книги: Михаил Слонимский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 19 страниц)
Михаил Леонидович Слонимский
Лавровы
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
I
Борис Лавров, сын инженера, ученик восьмого класса Четвертой классической гимназии, летом 1914 года жил с родителями и братом на даче в Разливе и, как всегда, давал уроки. Он обучал кадетика в генеральской семье. Трудней всего было с французским языком. Борис стеснялся своего дурного произношения. Но в алгебре и геометрии он был силен, и бледненький кадетик с нездоровой синевой под робкими глазами почтительно слушал его объяснения. К концу уроков обычно появлялась генеральша в открытом на груди капоте, в кружевной рубашке с очень низким вырезом и обязательно с картами в руках. Она либо садилась раскладывать пасьянс, либо гадала Борису и говорила грудным, с многозначительными перекатами, голосом:
– О! Я бы сказала, что вам предстоит, но вы еще маленький.
Генерал и сыновья – подпоручик и юнкер – приезжали редко. Борис однажды спросил генерала, не приходилось ли ему когда-нибудь действовать врукопашную, шашкой. Генерал не счел нужным ответить, только кивнул головой и глянул на Бориса страшноватыми зелеными глазами неумного, исполнительного и жестокого человека.
Была в семье и дочь – гладкая, безгласная и застенчивая девица, украдкой разглядывавшая Бориса.
Когда началась война, генерал со старшими сыновьями отбыл на фронт. Борис должен был признаться себе, что эти люди, раньше казавшиеся ему глупыми и скучными, теперь предстали перед ним в ином, романтическом свете. Генеральша с дочерью и кадетиком осталась на даче, словно ничего не произошло. Теперь и она стала вызывать у Бориса неожиданное уважение, особенно когда он сравнивал ее со своей матерью.
Мать Бориса Клара Андреевна решила героически, вопреки всем военным опасностям, «спасти» семью и имущество из Разлива. Ей почему-то казалось, что в Разливе гораздо страшней, чем в городе. Она самолично наняла четыре воза, на которые целый день, с утра до вечера, грузилась большая и малая кладь, вывезенная весной из городской квартиры.
Переезд на дачу всегда был большим несчастьем для Бориса. Он с детства возненавидел все эти тяжелые ненужные вещи, которые неведомо для чего сдвигались с места, вывозились на дачу, загораживали там все ходы и выходы, а осенью снова перевозились в город. Это были какие-то табуреты, комоды, ширмы, швабры, корзины, сундуки, а для чего-нибудь путного, вроде, например, ящичка с книгами, места на возах почему-то никогда не оказывалось.
– Довольно мне ваших книг на моем горбу! – кричала мать. – Если я умру – вам же будет хуже.
Теперь Клара Андреевна впервые бросала дачу среди лета. Вещи грузились под ее неусыпным наблюдением, и она громко выражала восхищение своей храбростью, тем, что, не растерявшись, она нашла возы и спасала семью от войны и разоренья. Столь же громко она приказывала сыновьям и прислуге следить за возчиками. По ее убеждению, все возчики были ворами и разбойниками.
– О! – многозначительно произнесла генеральша, когда Борис пришел к ней сообщить, что он уезжает и поэтому прекращает уроки. – Вы испугались войны.
И тогда Борис неожиданно для себя самого ответил ей:
– Я иду добровольцем на фронт.
Он сказал это не подумав, просто для того, чтобы избавить себя от тяжелого стыда за мать, за огромные возы, полные ненужных вещей, чтобы отделить себя от всего этого шумного и постыдного вздора.
– О! – повторила генеральша уже с одобрением. – Я напишу генералу, он возьмет вас в свою бригаду.
Она слишком близко придвинулась к Борису, и он поторопился уйти.
За оградой его ждали генеральская дочь и кадетик. Дочь хотела сказать что-то задушевное, в глазах ее появилось сентиментальное выражение, но она только молча глядела куда-то мимо Бориса, и лицо, шея, уши, открытые плечи – все у нее багровело от застенчивости. Кадетик был смелей, он сказал Борису:
– Вы заходите к нам, пожалуйста. Вера, – он кивнул на сестру, – тоже просит.
Борис понял, что он, видимо, уже давно нравился этой большой, глупой, безгласной девушке.
Когда он подходил к возам, на которые все еще грузился никому не нужный громоздкий хлам, мать кричала:
– Слушай, ты! Помоги ребенку! Ведь он же надрывается!
Старший брат Бориса, Юрий, студент, нес большую плетеную корзину, неловко держа ее перед собой и стукаясь о нее коленками.
Помочь этому «ребенку» должен был Николай Жуков, рабочий железнодорожных мастерских, тот самый, с которым Борис познакомился на озере, при купанье. Жуков был немногим старше Бориса, но казался ему гораздо более опытным и взрослым, – может быть, потому, что при их первой встрече он оказался сильней Бориса. Они поплыли наперегонки, и когда повернули к берегу, Борис устал, задыхался и напрягал все силы, чтобы не захлебнуться. Жуков заметил это и протянул ему руку. Но дружба у них так и не получилась, хотя Борис однажды зашел к Жукову и даже познакомился с его отцом, машинистом. Все же иногда они встречались на озере.
Сейчас Жуков, видимо, шел домой и свернул к даче Лавровых, привлеченный шумными сборами. Бориса передернуло, когда он услышал, как грубо крикнула мать Жукову, да еще называя его на ты.
Юрий бросил корзину.
– Невыносимо! – воскликнул он. – Если я «ребенок» – так к черту!
И он пошел к станции. Ему всегда удавалось с выгодой выйти из любого положения. Так и теперь, разыграв из себя обиженного, он ловко отстранился от всех хлопот по переезду.
– Для такой войны нужно только мое хладнокровие, – заметила Клара Андреевна. – Конечно, его нервы уже не выдержали.
Все это было так хорошо знакомо Борису и так давно опротивело ему, что он – опять неожиданно для самого себя – вспомнил случайные слова, сказанные генеральше. «Бежать, бежать, – подумал он. – Может быть, и в самом деле пойти на фронт, в армию, в солдаты?»
Он подбежал к Жукову и схватил его за руку.
– Вы, наверное, пойдете на фронт? – спросил он.
Тот ничего не ответил, повернулся и пошел прочь.
Это было обидно, но понятно: все-таки мать обошлась с ним грубо. Борис догнал его.
– Мама была груба с вами, – сказал он, – простите, я этому не сочувствую.
– А я и не заметил, – отозвался Жуков. Было похоже, что он действительно не слышал окрика Клары Андреевны.
Спускались сумерки, когда возы наконец выехали на городское шоссе. Дорога была запружена нескончаемыми дачными обозами.
Конечно, Борису пришлось сопровождать возы в город. Он шел по обочине дороги. Впереди зажигались огни Петербурга. Борис думал: «Бежать, бежать. Куда угодно, хоть на войну, только бежать».
II
В этом городе не было ничего фантастического или призрачного. Санкт-Петербург вешал на Лисьем Носу, хлестал нагайкой на улицах и площадях, сапожищами городовых топтал людей в тюрьмах, командовал ружейными залпами по безоружным толпам. О Медном Всаднике можно было забыть. Другой всадник, на широкозадой каменной лошади, встал на Знаменской площади перед Николаевским вокзалом. Не имело никакого значения, что именно Александру III поставлен был этот тяжелый, приземистый памятник. Это был памятник безглазой, как булыжник, силе. Началась война, и в июльских грозах 1914 года, падая на колени перед Зимним дворцом, вместе с околоточным запел «Боже, царя храни» и либеральный журналист. Запылало на Морской улице германское посольство. Но спокойно проехала германскую границу мать русского царя, возвращаясь из Берлина, от своих царственных родных.
Новый кнут – война – исхлестал рабочие окраины Санкт-Петербурга. В кандалах и арестантских халатах пошли на каторгу подлинные патриоты. Ложь отравляла жизнь. На гала-вечерах публика в крахмальных манишках и бриллиантах требовала гимнов и предсказывала победу в трехмесячный срок. «Прежде чем весна откроет ложе влажное долин, будет нашими войсками взят заносчивый Берлин...» Люди попроще распевали: «Одеваются дымом края, спаси, господи, люди твоя». Гвардейско-экономическое общество, что помещалось на Конюшенной улице, бойко торговало погонами, аксельбантами, шегольским офицерским обмундированием. Раскупались флаги и флажки всех союзных стран. В пьесе модного драматурга прославлялся бельгийский король. Женщины увлекались маленькими изящными японцами, вдруг появившимися на улицах города в чрезмерном количестве. Иностранцы самых разных мастей съезжались в Санкт-Петербург, как на торжище, и уже погнали русских солдат по Мазурским болотам, чтобы спасти Париж.
Зимним днем 1914 года на углу Конюшенной улицы и Невского проспекта Борис Лавров встретил Николая Жукова, которого не видел с лета. Жуков был уже в солдатской форме. Борис бросился к нему.
– Вот видите, вы пошли в армию, я же говорил. Здравствуйте, вы узнали меня? Борис Лавров... как раз я тут живу, на Конюшенной.
Николай ответил хмуро:
– Помню.
– Я тоже иду на войну. Я подал заявление...
– А чего вам? Отвоюем за вас.
– Почему за меня? За всех. Все же, весь народ...
– В офицеры, значит?
– Нет, я хочу как можно скорее, а в офицеры – это училище, это долго, я хочу сразу, побыстрей, а то вдруг война кончится, и как же тогда? Даже неловко. Меня уже допустили к ускоренному выпуску, в январе. Значит, вы тоже сами пошли?
Николай ответил:
– Иду с маршевой, дали погулять день. – Он посмотрел себе на ноги и усмехнулся: – Сапоги – картонные, развалятся на первом походе. В гвардейском бы купить, да солдатам туда нельзя...
Николай, вынув деньги из кармана, перебирал их в пальцах.
– Почему же нельзя? – удивился Борис. – Как же так?
– Вот что, – не отвечая на вопрос Бориса, сказал Николай, – берите деньги. Купите мне сапоги, сорок первый номер. А я подожду.
Борис взял деньги и посмотрел на солдата с недоумением.
– Пойдемте вместе, – предложил он.
Николай ответил сдержанно:
– Вам сказано – солдатам туда нельзя, магазин офицерский. Понятно? Согласны купить? Или нет? Нет, так отдавайте деньги, найду кого попросить.
– Да нет, я сейчас...
Не прошло и десяти минут, как Борис вынес Николаю новенькие сапоги. Николай тряхнул ими, постучал пальцами по подошвам, поблагодарил, попрощался и пошел. Борис догнал его.
– Николай Дмитриевич, но почему вы... Что у вас случилось? Ведь сейчас такое время, все решительно, весь народ...
Николай остановился, оглядел его с головы до ног.
– Не поймете, – сказал он. – Судьба у нас разная.
И зашагал прочь, уже не оглядываясь.
Борис смотрел ему вслед до тех пор, пока Николай не повернул за угол. «Что с ним такое? Какой-то он все-таки недружелюбный». Но Борис недолго думал о Николае Жукове. В конце концов он, как и Жуков, шел на фронт, и ему не терпелось поскорей сдать выпускные экзамены.
Дома его особенно не отговаривали. Мать сказала что-то очень неестественное:
– Как гражданка, я горжусь и отпускаю, но как мать – я испытываю горе.
Брат, как всегда, стал длинно философствовать:
– Боря – обыкновенный, нормальный человек, и это его счастье. По крайней мере он будет просто где-нибудь служить, женится...
В его словах звучало, как всегда, презрение к обыкновенному, нормальному Боре. Сам Юрий считался в семье будущей знаменитостью.
Отец проговорил:
– Значит, ты хочешь на фронт? – И, по обыкновению, повторил: – Хочешь на фронт?
Но тут же на него прикрикнула мать, и он замолчал, как будто в чем-то провинился.
Юрий до сих пор жил на счет родителей, а Борис с четырнадцати лет зарабатывал сам. В прошлом году он получал огромные деньги – тридцать рублей в месяц, да еще обед у кухмистера Ланцуцкого за то, что тянул двух его оболтусов. Деньги он отдавал родителям. Это считалось правильным, естественным, потому что, в отличие от Юрия, Борис был обыкновенным.
Дома Борис не стал рассказывать о встрече с Николаем Жуковым. Он вообще мало о чем рассказывал дома.
Надо поскорей уходить на фронт. Солдатом – так солдатом. Сережа Орлов идет в военное училище. Он уже сейчас нацепил на гимназическую фуражку офицерскую кокарду, ему не терпится. Но шнурки вольноопределяющегося – романтичней. Грушницкий у Лермонтова сразу потерял всякий интерес для княжны Мери, когда надел офицерские погоны... Об экзаменах Борис не беспокоился, как и все другие молодые люди, пожелавшие идти на фронт добровольцами. Ясно, что учителя всем постараются поставить наилучшие отметки. Экзамены будут самые легкие. Только бы скорей...
Прошел трехмесячный срок, назначенный для победы белобилетчиками и тыловиками, а где-то там, где окопы и землянки, уже случилась беда – шептали, что погибла армия генерала Самсонова, что армия Ренненкампфа бежит из-под Кенигсберга. Эшелоны, полные раненых, приходили в Петербург. Кое-кто из офицеров в пьяном виде уже запевал: «Ямщик, не гони лошадей, мне некуда больше спешить...» Но все это шло мимо Бориса. Он готовился к выпускным экзаменам, и они начались в январе.
В эти январские дни брат Юрий однажды подсунул Борису журнальчик, в котором напечатан был рассказ под названием «Странный закон». Автор утверждал, что большинство людей создано для низменных дел – то есть для труда и для войны, а меньшинство – для возвышенных идей. Большинство должно служить меньшинству, ибо в нем, в этом меньшинстве, – дух жизни, соль земли и еще что-то очень высокое. Юрий восхищался этим рассказом.
– Это – о Боре. Он создан для войны.
Юрий, конечно, создан для возвышенных идей.
Ну и к черту! Борис не хотел спорить. Когда он начинал думать о том, что его ждет, мысли путались. Он знал только одно – существовать так, как его родные, он больше не может. Нужно уйти, нужно самому испытать то, о чем пишется в военных корреспонденциях. Пусть он обыкновенный. Он сам хочет быть обыкновенным – как все.
III
Второго апреля 1915 года веселая музыка духового оркестра проводила маршевую роту Первого запасного пехотного полка с Охты к товарным платформам Варшавского вокзала. Там Борис простился с отцом, матерью и братом и сел в теплушку. Семнадцатого апреля, шагая в ногу со своим отделением, он подходил уже к местечку Красносельцы на берегу реки Оржиц. Над ним распростерлось польское небо, воздух был теплый. Пыль, поднятая тяжелыми сапогами русских солдат, вставала над песчаной дорогой, оседая на лица, руки, плечи.
На красносельском фольварке за Оржицем стояли недолго. Краткая команда – и маршевая рота двинулась дальше, туда, откуда доносились редкие выстрелы. За пять верст от позиций молоденький прапорщик тихим голосом отдал приказ: «Не курить!» – и солдаты, еще преувеличивавшие (так же, как и прапорщик) опасности войны, побросали цигарки и окурки.
Полк, в который назначен был Борис, занимал позиции в деревне Единорожец, в восемнадцати верстах от Прасныша и в семи – от германской границы. Этот полк входил в состав того корпуса, который отстоял Варшаву, ринувшись в атаку прямо из вагонов только что прибывшего на выручку эшелона. Участников варшавских боев было в полку уже совсем мало: те, что не погибли под Варшавой, пали в боях у Лодзи.
Борис даже и не думал об усталости или о страхе. Он был твердо уверен в том, что снаряды и пули могут убить кого угодно, только не его: ему недавно исполнилось восемнадцать лет. Не задумывался он и над тем, почему и для чего делается все то, в чем он участвует. Он был счастлив, что вырвался из домашней духоты, а что касалось общего положения дел, то его вполне удовлетворяли официальные объяснения.
Затишье кончилось первого июня. В этот день полк под ураганным огнем германской артиллерии оставил Единорожец и отступил на вторую линию окопов. Немцы производили усиленную разведку. Германские аэропланы кружили над русскими позициями и, высмотрев батарею, пускали сигнальные ракеты, разноцветными лентами повисавшие в воздухе. Артиллерия пристреливалась, и эта пристрелка давала много работы для русских врачей, фельдшеров и санитаров. Контратаки русских полков двенадцатого и тринадцатого июня не дали никакого результата: немцы не оставили занятых позиций.
Буря, гнавшая русскую армию с карпатских высот, предупредила о себе еще двадцать девятого июня дальним, у Прасныша, грохотом, от которого задрожало поле. Тридцатого июня генерал фон Гальвиц бросил свои дивизии на окопы, в которых сидел Борис. Русская артиллерия, быстро истратив небольшой запас снарядов, отступила утром. Пехота билась до вечера. К вечеру из пятидесяти пяти человек, составлявших до начала боя роту, в которой сражался Борис, осталось трое. Эти трое шли по лесу. Снаряды рушили лес; стволы деревьев шатались, трещали, раскалывались и склонялись к земле; желтый дым полз, ширился и повисал в воздухе. Когда двое, оставшиеся в живых (третий был убит), вышли из лесу к пылающей деревне Вольки-Дронжи, они сочли себя в полной безопасности. Но если бы сюда перенести мирного петербуржца, еще не изучившего всех степеней опасности, он с ума сошел бы от страха.
Дым застилал небо и землю, и в этом дыму желто-красное пламя с треском рвало крыши и стены халуп. Над всем господствовал особый сумрачный цвет, которому усталые глаза придавали тысячи небывалых оттенков.
Этот день потряс Бориса. Все, что он знал до этого дня, казалось, навсегда ушло в далекое прошлое. Он свалился за красносельским мостом и сразу заснул. А утром все прежнее, обыкновенное вернулось к нему, а ушло из памяти то, что случилось вчера. Как раз то, что казалось незабываемым, вспоминалось теперь как нечто постороннее, случившееся не с ним, Борисом Лавровым, а с кем-то другим.
Полк отступил к Рожанам, за Нарев, и занял позиции на Остроленковском шоссе. Артиллерия бездействовала: снарядов, как обычно, не хватало. Железнодорожная насыпь линии Остроленка—Малкин отделяла русские позиции от германских. Тут полк стоял неделю, до тех пор, пока германский штаб не разбил распростертое перед ним поле на квадраты и не обрушил на каждый квадрат сотни и тысячи снарядов. Все те, кому посчастливилось уцелеть, кинулись бежать по голому, открытому полю туда, где в полутора верстах от позиций темнел низкорослый лесок.
Сотни снарядов уничтожали людей и рвали землю. Все вокруг было достаточно ужасно для того, чтобы и самый сильный человек потерял самообладание. Однако Борис неожиданно испытал полное спокойствие. Сознание работало яснее, чем всегда. Борису казалось, что потрясающая механика разгрома выбросила его за пределы жизни, что он уже умер и с другой планеты глядит на все, совершающееся на земле. Он увидел полкового священника, который без шляпы, с развевающимися волосами, прямо сидел в седле, не уклоняясь от летающей вокруг смерти. Священник трепал широкой рукой гриву испуганной кобылы и громко, спокойно молился, словно уговаривал все живущее умереть, не сопротивляясь. Через минуту его разорвало на части вместе с лошадью.
Люди были брошены в этом поле без всякой возможности обороняться. Что может штык против сотен снарядов? На глазах у Бориса происходило нечто совсем непохожее на то, что писалось в газетах.
Борис бежал к лесу по прямой линии, отбросив всякие хитрые расчеты. Он вдруг потерял уверенность в том, что он не может быть убит. Он был убежден теперь, что непременно умрет, наверняка умрет. Только он не хотел умереть сейчас.
Но вот из грохота за его спиной выделилось гудение, единственно слышное, предназначенное специально для него, Бориса Ивановича Лаврова. Это летел снаряд, пущенный для того, чтобы убить Бориса. Борис рванулся в сторону и упал. В следующее мгновение он взлетел, поднятый силой взрыва на воздух, и снова был брошен наземь.
Борис знал, что в таких случаях человеку полагается терять сознание: так писалось в книжках и военных корреспонденциях. Но он не потерял сознания – и это было ужасно. Он закричал так, как кричит человек, который умирает и который ни за что не хочет умереть.
Крик этот остановил пулеметчика, гнавшего одноколку к лесу. Задержавшись на мгновение, пулеметчик подобрал Бориса, и лошадь примчала одноколку в лес.
Бориса положили на шинель под деревом.
Пулеметчик подошел к Борису, постоял, не зная, что сказать, и наконец промолвил:
– Это я тебя спас.
– Спасибо, – отвечал Борис.
Пулеметчик отошел, и Борис никогда больше не встречался с ним.
В лесу собрались остатки полка: командир, врач, два офицера и тридцать шесть солдат. Остальные были убиты, взяты в плен, ранены.
Борис был легко ранен в левую руку (небольшой осколок засел в мякоти, не задев кости) и контужен. Санитарная двуколка доставила его в дивизионный госпиталь. Дивизионный врач отправил его в тыловой лазарет, в город Остров, той же Ломжинской губернии, что и Красносельцы. Тут Борис лежал неделю, а потом получил разрешение ходить – сначала по палате, а потом и по улицам.








