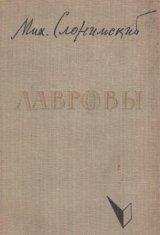
Текст книги "Лавровы"
Автор книги: Михаил Слонимский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 19 страниц)
XII
Трехмесячный отпуск Бориса кончился, но он не стремился на фронт. При мысли о фронте он не испытывал никакого страха, но уже решительно не понимал, во имя чего будет воевать. Кроме того, ему стали необходимы Жилкины. В разговорах у них Борис чувствовал свои собственные сомнения, смутные и подчас еще не ясные ему самому желания. Он узнавал много нового, ему хотелось почаще бывать здесь, а для этого надо было остаться в Петрограде. Поэтому он не возражал, когда Григорий Жилкин устроил ему назначение в свой полк, в четвертую роту, а оттуда вызвал его к себе в полковую канцелярию. Обязанностью Бориса стало раскладывать полковую корреспонденцию по конвертам, надписывать адреса и отмечать рассылаемые бумаги в разносной книге. Разносную книгу брал дежурный писарь и посылал на почту.
Пухленький экспедитор, бывший служащий сберегательной кассы, проверял Бориса и пугал его, рассказывая страшные истории о том, что получается, если вложить бумагу не в тот конверт. Однажды, еще в начале войны, с экспедитором это случилось: он заслал бумагу вместо Брянска в Уфу. Когда бумага вернулась обратно, адъютант призвал экспедитора к себе в кабинет и кричал так, что, рассказывая Борису об этом событии, экспедитор и теперь дрожал от страха. Вот что может случиться, если не по тому адресу направить бумагу!
Борис являлся на службу к половине девятого, садился в самый угол, к окну, и принимался за работу. К девяти часам канцелярия была уже полна. За всеми столами гнули спины писари с нашивками и без нашивок. За отдельным столиком, у двери в кабинет адъютанта, сидел старший писарь Григорий Жилкин. Адъютант являлся в одиннадцатом часу. Когда его толстая фигура появлялась в дверях, писарь, первым увидевший его, кричал:
– Встать, смирно!
И все вскакивали со своих мест, оправляя гимнастерки и вытягивая руки по швам. Адъютант до войны служил земским начальником и был привычен к знакам верноподданничества. Он говорил грудным, готовым при случае загрохотать голосом:
– Здорово, писаря!
На что все с восторгом отвечали:
– Здражлавашвсокродь!
И, возбужденные собственным криком, радостно глядели друг на друга, на миг убеждаясь в том, что они живые люди. Потом снова сгибались над столами.
Адъютант скрывался в кабинете и звонками вызывал туда то старшего писаря, то дежурного. В половине пятого Григорий Жилкин шел к нему с докладом. В шесть часов канцелярия пустела – писари расходились по домам. Оставался только дежурный.
Иногда через канцелярию проходил командир полка. Он был совсем не страшен – ласковый, сконфуженно улыбающийся старичок. Он махал руками («Сидите! Сидите!») еще до того, как кто-нибудь успевал крикнуть: «Встать, смирно!»
И пока писари кричали, здороваясь с ним, он все кивал головой в разные стороны, ласково улыбался, а Григорию Жилкину подавал руку. Григорий говорил Борису, что полковой командир – тайный революционер.
Писари боялись адъютанта гораздо больше, чем полковника. Но хуже всех офицеров был помощник адъютанта – военный чиновник, недавно произведенный из фельдфебелей. У него были крупные бесцветные усы. Чувствовалось, что волос у него в усах жесткий и сухой. Усы торчали кустиками в разные стороны. Чиновник дергал их и ругался. С тех пор как он получил право входа в офицерское собрание, он забыл все слова, кроме бранных, и перестал улыбаться. Бранью он поддерживал свое новое положение, добытое долгими годами подхалимства, и грубо рвал отношения со старыми приятелями-писарями.
С половины девятого до шести часов вечера Борис сидел в канцелярии. В первом часу дня он на несколько минут бежал в унтер-офицерское собрание, где быстро съедал порцию шнельклопса или сосисок.
В шесть часов он оставлял казарму. На улицах начинались новые беды. С Охты на Конюшенную надо было идти пешком. Ездить на трамваях солдатам было, в сущности, запрещено. Всего лишь три солдата могли ехать на задней площадке прицепного вагона и два – на передней. Но в трамваи – особенно в неслужебные часы – набивалось гораздо больше. И уж тогда неизбежно ссаживали и отправляли в комендантское всех солдат без разбора.
Нередко Борис все-таки садился в трамвай. И когда он высматривал, выгибаясь с площадки, ловцов из конвойной команды, когда, заметив их, соскакивал до остановки, а потом бежал за трамваем и прыгал на подножку, он испытывал все ощущения человека, лишенного обычных гражданских прав. Он завидовал каждому штатскому, как каторжник завидует вольному человеку, и в то же время ненавидел штатских, потому что те радовались, когда комендантские патрули вышвыривали из трамвая переполнявших его солдат.
К лету Бориса перевели на стол отпусков. Тут была более ответственная работа. Теперь обязанностью Бориса было выписывать отпускные свидетельства и литера на проезд. Перед ним лежала карта, и он, разглядывая ее, направлял солдат в разные концы России – к матерям, женам и детям «на побывку».
Начальником Бориса стал длинный веснушчатый человек в очках. Пальцы у него всегда дрожали, и он сам про себя говорил, что он ужасно нервный. Нервным он сделался, по его словам, еще до войны, когда служил агентом страхового общества: очень нервная работа. Вскоре его перевели помощником на стол болезней, и Борис остался на столе отпусков один. Теперь уже выдача отпускных свидетельств целиком зависела от него. Пачка прошений лежала у него в ящике стола, и он должен был представлять их адъютанту на резолюцию. Он обычно просил об этом Григория, но тот однажды удивился:
– Да ты что, боишься, что ли?
И с той поры Борис сам ходил к адъютанту. Адъютант ставил резолюции, не слушая объяснений Бориса и даже не прочитывая заявлений. Фактически судьба солдат зависела от Бориса: захочет он – и заявление, поданное вчера, сегодня же вне всякой очереди и нормы получит положительную резолюцию, а захочет – и заявление пролежит месяц и даже больше. Борис соблюдал строгую очередь.
Выписав отпускные свидетельства и литера, Борис искал офицеров для подписи. За адъютанта имели право подписывать его помощник, военный чиновник, и еще один прапорщик, недавно назначенный в канцелярию. Борис предпочитал его. Высокий, очень худой и прямой, этот прапорщик слонялся по канцелярии, плохо, должно быть, понимая, зачем его сюда прикомандировали. Он являлся с аккуратностью простого писаря и уходил не раньше, чем пустела канцелярия. Волосы у него уже серебрились.
Прапорщик совсем не заботился о своем офицерском престиже. Узнав, что Борис кончил гимназию, он часто присаживался к нему для беседы и предлагал помочь в работе.
Борис давал ему на подпись тетрадки пустых литеров. И прапорщик сидел и подписывался за адъютанта.
Добыть подпись командира полка было гораздо труднее. За командира могли подписывать офицеры чином не ниже капитана. Разыскать их было не так легко. Борис с тетрадкой литеров, пачкой отпускных свидетельств и химическим карандашом сторожил капитанов и подполковников у входа в офицерское собрание, но не успевал еще разинуть рот, как подполковник или капитан уже махал рукой:
– Нет! Пошел прочь! Убирайся, тебе говорят!
И Борис убирался в сторону, поджидая следующего. Иной раз он по нескольку дней подряд ловил офицеров на подпись, пока наконец не уламывал кого-нибудь. Однажды он догадался поручить это дело прапорщику. Тот немедленно согласился и сразу добыл подписи для нескольких еще не заполненных тетрадей и для целой груды пустых отпускных бланков. Своим неофицерским поведением прапорщик еще до того вызывал возмущение писарей, а теперь над ним уже насмехались чуть ли не в лицо. Прапорщик ходил по канцелярии грустный, унылый, ничего не замечающий, и однажды, присев к Борису, сознался, что военная служба чужда его поэтической душе, что он уже напечатал несколько стихотворений и теперь готовит к изданию книжку стихов. Вскоре он исчез: его убрали неизвестно куда.
Борис с его помощью накопил подписей по крайней мере на три месяца вперед, и теперь судьба отпусков была всецело в его руках. Ежедневно к нему являлись солдаты разных рот, становились в очередь, и каждый спрашивал:
– Когда, господин писарь, отпуск выйдет?
При этом солдат испытующе глядел прямо в лицо Борису. Иные осторожно подмигивали ему, незаметно показывая кончик коричневой рублевой или даже зеленой трехрублевой бумажки. Однажды какой-то вольноопределяющийся подал Борису запечатанный конверт и сказал уверенным голосом:
– Вы потом прочтите. Не сейчас.
Борис сразу вскрыл конверт и обнаружил в нем десять рублей с краткой просьбой об ускорении отпуска. Он так покраснел, как будто уже принял взятку и теперь его обличили. Бросив вольноопределяющемуся его десятку, Борис крикнул:
– Пошел вон!
Тот усмехнулся, нисколько не поверив в честность писаря. Когда Борис шел домой после работы, солдаты, поджидавшие на улице, принялись упрашивать его принять деньги и устроить отпуска. Борис молча прошел мимо солдат и услышал, как кто-то за его спиной вполголоса сказал:
– Сволочь!
Его честность была в лучшем случае бесполезна, а может быть, даже вредна солдатам: она не оставляла никаких надежд на смягчение казарменной жизни. Думая об этом, Борис удивлялся: до чего же неправильно все вокруг, если даже честность оказывается вредной.
Другие писари брали, это Борис знал. Несколько дней тому назад писарь со стола болезней принял при всех трешку. И когда вся канцелярия радостно засмеялась, он сказал с достоинством:
– Да. Вот и взял. И еще возьму. Мой отец был педель и тоже брал.
Раз в три недели приходила Борису очередь ночного дежурства. И ночью, когда он часами сидел один в дежурной комнате, ожидая телефонного звонка, он думал о том, что ничего хуже такой жизни быть не может. Ему казалось, что на фронте он чувствовал себя лучше. Но в то же время фронтовые дни вспоминались ему отдельными эпизодами, которые он никак не мог соединить в одно целое. Многие месяцы просто выпадали у него из памяти, как будто он прожил их в бессознательном состоянии. Да и то, что он припоминал, как будто случилось не с ним, а с кем-то другим. И все-таки это он, Борис, долгие дни сидел в окопе, не смея высунуть голову. И это он видел вблизи разрывы двенадцатидюймовых снарядов. Его ели вши. Он прошел в кольце пожаров всю Польшу. Он был ранен. И все это для того, чтобы теперь гнуть спину в полковой канцелярии, бояться адъютанта, тянуться на улице перед не нюхавшими пороха прапорщиками и отбрыкиваться от взяток.
Однажды, когда он размышлял так во время дежурства, раздался телефонный звонок. Борис, забывшись, вместо «дежурный писарь» сказал:
– Алло!
И после этого целую минуту слушал изощреннейшую брань, которая шла из слуховой трубки. Брань закончилась фразой:
– Я надворный советник Николаев, а ты – шваль, дрянь, дерьмо, писарь!
Вот ради кого он воевал! Ради этого надворного хама. Он, Борис, пошел добровольцем для того, чтобы стать безгласным рабом. Ему вспомнился бой у деревни Единорожец, когда от полка почти никого не осталось. У вольноопределяющегося Шорина, студента, такого же добровольца, как и Борис, в том бою оторвало нижнюю челюсть, но в глазах его было больше удивления, чем боли и ужаса. Убитые длинной вереницей проходили перед Борисом. Это были разные люди, и воевали они по-разному, но всех их убила война. А войной управляли и непреклонно продолжали ее такие вот люди, как тот англичанин у Жилкиных. Зачем же он, Борис, пошел на эту войну? Что он искал в ней и что нашел? Искал героизма, а нашел рабство. Тут он вновь подумал о Клешневе, который так твердо знал, чего хочет, так уверенно говорил. И снова его захлестнуло желание стать мастером жизни, сильным человеком, который строит жизнь по-своему. Но ради чего? Ради каких целей?..
К осени полковой командир получил чин генерал-майора и бригаду. Его место занял начальник хозяйственной части, полковник, словно спрыгнувший с лубочной картинки, – с лихо закрученными усами и глазами, в которых раз навсегда застыло бравое выражение.
Полк был выстроен на дворе: полковник принимал командование. Гуляя по рядам, он орал что-то. Борис не расслышал, что именно.
Утром, проходя через канцелярию, новый полковник приветствовал писарей не по-обычному:
– Здорово, люди!
Это «люди» ударило Бориса, как оплеуха.
Борис не раз говорил обо всем, что волновало его, с Григорием Жилкиным. Но тот ничего не мог ему посоветовать и ничем не мог помочь:
– Это зависит от общей системы. У нас еще нет сил опрокинуть ее. В строю и на фронте еще хуже.
– На фронте лучше, – отвечал Борис.
Григорий усмехнулся:
– Это потому, что для тебя фронт уже в прошлом.
Борис служил писарем семь месяцев – с апреля по октябрь шестнадцатого года. Он не видел ни весны, ни лета – все для него сникло и потухло. А его родные были довольны: Борис не подвергался никакой опасности, о нем можно было не беспокоиться. Они считали, что Борис очень удачно устроился.
XIII
Это лето навсегда запомнилось Марише – лето пятнадцатого года, когда отец, землемер Граевский, посадил ее на проходившую мимо телегу и сказал:
– Поезжай... Твоя судьба в России, а я... – Он сдерживал слезы. – Езжай, – повторил он. – Найдешь дядю, он поможет тебе.
Уже горел костел. Слушая этот зловещий грохот и треск, Мариша дрожала, и у нее не было сил справиться с собой. Больше ей уже не играть в веселой толпе девчонок и мальчишек, которых уважаемые господа – воинский начальник, брандмейстер и прочие – называли уличными. Больше не выслушивать выговоров от матери, которая однажды упала в обморок, внезапно увидев свою единственную дочь бегущей по балке недостроенного дома на двухсаженной высоте. Мать тяжело больна, и отец остается при ней. А она едет с малознакомыми людьми – соседом-медником и его женой – неведомо куда. Страшно! Ей было только семнадцать лет, и до этого она никуда не ездила. Она знала только свой родной маленький городок, изрезанный извилистой и узкой речкой, в которой водились пиявки.
Так началось это странное и необычайное путешествие на восток – первое путешествие в жизни Мариши. Особенно пугала ее артиллерия. На дороге появлялся вдруг несущийся вскачь офицер. Размахивая длинным стеком, он кричал:
– Сворачивай! К черту!
Стек гулял по шеям покорных беженцев. И сразу же, теснясь по сторонам, скрипели телеги, громко плакали дети. А сзади уже налетала артиллерия. Могучие кони мчались гордо и несокрушимо. По сравнению с тощими беженскими клячами они казались животными какой-то совсем другой породы. Веселые артиллеристы крушили все на своем пути. Ничто не могло остановить этого тяжеловесного грохочущего потока орудий, зарядных ящиков, походных кухонь, обозных повозок, широчайших мажар. Телеги беженцев опрокидывались, выворачивая наземь людей и имущество.
Мариша соскакивала, помогала отвести телегу в сторону.
Все чаще останавливалась вереница людей и повозок, и все трудней было разобрать, какая же это часть проходит сейчас мимо. Вот какая-то кухня громыхала между санитарной повозкой и пулеметной одноколкой. Вот уже широко и шумно двигалась пехота. Во главе ее шла странная рота: у каждого солдата под мышкой кричал гусь. Во главе гусиной роты шагал, спотыкаясь, прапорщик.
Все это напирало друг на друга, торопясь, толкаясь, а на полях вокруг скучали копны мирного хлеба. Пыль, поднятая тысячами ног, копыт и колес, медленно оседая, колола кожу, и жаркое небо давило плечи.
Потом какая-нибудь из телег робко втиралась в общий поток. Огромный лохматый еврей сгибался на ней в ожидании удара, и жена его замирала в телеге, всем своим телом охраняя закутанного в черную шаль ребенка. И если их никто не трогал, то на дорогу выезжала другая телега, а за ней тянулись и все остальные...
...Деревни, села и города оставались позади.
Наконец они достигли узловой железнодорожной станции.
Ночной вокзал судорожно шевелился. Солдаты толкались, путаясь между составами. Изредка проходили офицеры, раздавались «так точно» и «слушаюсь».
Огни – желтые, зеленые, красные – висели и двигались, загорались и гасли. Вокзал шевелился, гудел, стучал, свистел. Платформы медленно ползли мимо перрона, и на них под чехлами угадывались орудия.
На этой станции Маришу посадили в поезд, и она поехала в далекий Петроград. Кошелек с деньгами, которые дал ей отец, она спрятала за пазуху.
Небо тускнело, и вот уже дождь хлестнул по окнам. Все это было так непохоже на привычные с детства места! Усталая, ошеломленная длительным путешествием, Мариша почти все время спала. Дождь сопровождал ее всю дорогу.
Когда она приехала в Петроград, судьба ее решилась с неожиданной быстротой. Она не нашла дядю, к которому ее отправил отец, но попала на курсы сестер и была направлена на работу в солдатский госпиталь.
Как Мариша попала на курсы сестер? Может быть, она сознательно руководила своей судьбой? Нет, это было не так. Она проходила мимо госпиталя, где в это время принимали новую партию раненых. Случилось так, что она помогла одному из них дойти, подхватив его под руку. Фельдшер, не понявший, кто она такая, стал ею командовать. А когда выяснилось, что она человек посторонний, веселый черноглазый врач сказал:
– Ну, девушка, быть тебе сестрой.
Мариша работала в палате, где часто умирали.
Она никак не могла привыкнуть к этому. Запершись у себя в каморке (она поселилась при госпитале), Мариша частенько плакала. Ей было очень жалко людей, и жить становилось все страшнее и страшнее.
К весне в госпиталь привезли совсем молоденького самокатчика. Черноглазый веселый доктор признал его положение безнадежным. Самокатчик, раненный в грудь, умирал от чахотки. Рядом с ним лежал унтер с большими усами. У него было ранено бедро. Мариша не раз слышала, как унтер занимал мальчика разговором:
– Сколько звездочек у штабс-капитана?
Самокатчик робко отвечал:
– Че-четыре.
– «Четыре, господин унтер». Вот как нужно отвечать. А сколько у подполковника?
– Три, господин унтер.
– А полосок сколько на погоне у подполковника?
Вскоре самокатчик совсем ослабел. Еще утром он мог ходить. Спускал белые безволосые ноги на пол, вставлял сухонькие эти палочки в драные туфли и шлепал туфлями по палате. Так еще утром он бродил по палате, а перед обедом вдруг закачался и слабыми пальцами ухватился за кровать. Маленькое лицо его стало белей простыни, ярко проступили веснушки, и явственней обозначилось, до чего тонка его шея. Тельце его сразу как-то обмякло, и пот смочил рубашку.
Мариша подхватила мальчика и отнесла его на кровать. Он был совсем легонький, как ребенок.
Унтер не пытался больше с ним заговаривать. Он лежал молча, а к вечеру вытащил из-под подушки золотого «георгия», долго рассматривал его – видимо, хотел позабавить мальчика, – но потом опять спрятал его пол подушку.
Веселый черноглазый врач поставил в истории болезни самокатчика после слов «положение безнадежное» черту, как будто мальчик уже умер. И, когда он ушел, унтер пробормотал:
– Убивец проклятый.
Ночью унтер не спал. Он поглядывал на самокатчика, который изредка шевелился и стонал. И вдруг самокатчик захрипел.
– Санитар! – позвал унтер. – Санитар!
Тотчас прибежала Мариша.
Самокатчик последним усилием поднял одеяло на лицо, закрылся с головой и затих.
Унтер приподнялся на локте, повернул к самокатчику желтое, сухое, с обвислыми усами лицо.
– Митюха! – тихо позвал унтер. – Митгоха, а?
Самокатчик не отвечал и не двигался.
– Что ж это, Митюха? – спросил унтер. Он вынул из-под подушки «георгия» и опять позвал: – Митюха!
Митюха не отвечал.
Унтер долго смотрел на него, закрытого с головой одеялом, сунул «георгия» обратно под подушку и, увидав, что по щекам у Мариши текут слезы, приказал:
– Буди санитара, плачем не поможешь.
Подошел санитар, смачно зевая и крестя свой влажный красный рот.
Самокатчика раздели догола. Белье с кровати унесли. Голое, слегка коричневое тело до утра лежало на потрепанном красном матраце.
Утром самокатчика унесли, а на освободившуюся койку положили солдата-артиллериста с гноящейся раной на ноге. Это был Николай Жуков.
Когда в палату прибывал артиллерист, Мариша тотчас вспоминала, как опрокидывали все на своем пути артиллерийские упряжки, и удивлялась, что в самих артиллеристах нет ничего страшного и что они ничем не отличаются от других раненых. Но в этом артиллеристе было что-то необычное. Он совсем не стонал, глаза у него были недобрые, и она плохо понимала, почему он так следит за каждым ее движением. В то же время ей казалось, что он совсем не такой недобрый. Однажды он вдруг попросил ее рассказать о том, откуда она. Она ответила очень коротко и отошла. Этот раненый беспокоил и волновал ее иначе, чем все другие.
Как-то ночью он сказал ей:
– А ведь вас, Мариша, куда понесет, туда и попадете. Так нельзя. И нельзя жалеть всякого без разбору.
Обойдя раненых, Мариша уже шла к себе в каморку, и Николай проговорил эти слова почти шепотом. Мариша остановилась у его кровати. Тусклый и неподвижный свет лампочки, тлевшей под потолком, смутно освещал ее по-ребячьи наивное, но с упрямым подбородком лицо. Она ответила:
– Вас это не касается. Спите.
– Касается. Меня повесят, а вы вешальщика жалеть будете.
– Как вам не стыдно! – тихо воскликнула Мариша, и в ее голосе послышались слезы. – Что я вам плохого сделала?
Николай улыбнулся, глядя на ее бледное, усталое лицо.
– Не надо быть слишком хорошей, – промолвил он. – Надо жалеть с выбором. Я не про раненых говорю. Я вообще про людей говорю.
– А если у кого несчастье?
– Смотря у кого. Некоторым я желал бы несчастья, вот сам хочу кой-кому устроить несчастье.
Удивительнее всего было то, что, говоря такие злые слова, он улыбался доброй улыбкой. Но при этом он вовсе не шутил. Мариша привыкла к тому, что раненые говорят злые слова, даже ругаются. Но у этого все было как-то иначе. Она не знала, что ему ответить.
– Спите! – сказала она строго. – Ночь!
И ушла к себе в каморку.
Но с тех пор Николай то и дело заговаривал с ней.
Каждое его слово было полно гнева, но в то же время она слышала в его голосе неожиданную доброту. Он заговаривал с ней так, словно давно ее знает и лучше понимает ее мысли и чувства, чем она сама. Как будто он и есть тот дядя, к которому она ехала в Петроград и который, как она недавно узнала, умер перед самой войной.
Николай не выздоравливал. Рана гноилась. Веселый черноглазый врач уже заранее определил, что в артиллерию ему не вернуться – там надо ездить верхом. А в пехоте он еще может пригодиться. Положение, во всяком случае, не безнадежное. Ничего. Солдат еще послужит.








