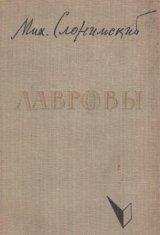
Текст книги "Лавровы"
Автор книги: Михаил Слонимский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 19 страниц)
XXIII
К вечеру Борис явился домой. Тело отца, уже обмытое, в новом форменном, почти не ношенном костюме, лежало на столе в гостиной. Борис подошел к телу, не чувствуя ничего, кроме удивления. Мать обняла его и вывела из комнаты, приговаривая:
– Не надо, Боречка, не надо.
Она, очевидно, упрашивала Бориса не плакать. Но Борис и не собирался плакать. В столовой за самоваром сидели незнакомые люди: два инженера и чертежник с завода. При жизни Лаврова эти люди никогда не бывали у него в гостях. Борис удивился тому, что в такой день все-таки три человека пришли к мертвому отцу. Мать сказала ему:
– Сейчас будет панихида.
Юрий с красными, заплаканными глазами подошел к Борису и ничего не сказал – просто встал рядом.
На панихиду явились жильцы соседних квартир, любители церковного пения. Когда священник возгласил «Вечную память», Борису стало жалко отца. Кто вспомнит о нем? Никто, кроме родных.
После ужина все, как всегда, легли спать. Утром Борис не пошел в казармы. Он ходил заказывать гроб и колесницу. Гроб должны были доставить сегодня же, а похороны предполагались завтра.
Анисья, как всегда, подала обед, а после обеда Борис все же побежал в батальон. Ему согласились дать отпуск на три дня.
Услышав, что у Бориса умер отец, Козловский прищурил глаз и сказал:
– Небось насчет наследства соображаешь? – Тут же он крикнул ратнику: – Хлеб есть?
– Бери, – отвечал Семен Грачев.
Теперь Грачев уже не стягивал с ног унтера сапоги. Он совершенно спокойно снял с себя эту обязанность. К смерти отца Бориса он отнесся хозяйственно. Спрашивал, сколько стоит гроб, сколько заплатили священнику. Выспросив все, покачал головой:
– Живет человек – сам себя кормит. А помрет – сколько расходов!
Козловский, жуя хлеб, говорил:
– Теперь всю Расею жечь надо, чтобы дым пошел. И мужиков жечь. Незачем они живут. Это в краткий срок исполнить можно. Губерния горит ровно день. Это уж точно, с ручательством. Мужик горит долго, как хлеб, и дым идет от него желтый. А городской человек и без спички сам сгорает. Для него и огня не нужно. Подымит Расея и провалится. На ее месте пустышка будет – дыра, а заплатать дыру никто не сможет. Кто подойдет – хоть немец, хоть англичанин – все равно ему конец. Никто не видит, что пустышка Расея – дыра, а тогда все увидят.
– Тебя первого пожечь надо, – сказал взводный. – Сволочь этакая.
– В семи огнях был, в семидесяти горел, – отвечал унтер. – Мне сгореть невозможно. Я последним сдохну. Сам в дыру кинусь. Только допрежь того всю Расею пожгу.
А Борис, получив увольнительную, уже шел домой. Он только теперь сообразил, что надо бы сообщить о смерти отца Жилкиным. Он позвонил из дому Наде и сообщил о дне и часе похорон. Клара Андреевна, услышав его слова, закричала совсем по-прежнему:
– Чтобы не было Жилкиных! Я их не пущу! Я их выгоню, если они посмеют прийти!
Но тут же затихла: тело мужа помешало скандалу. Надо было сначала похоронить мужа, а потом уже восстанавливать свой характер. Борис уже досадовал на себя за то, что позвонил Жилкиным: кому это нужно, чтобы они пришли?
Клара Андреевна послала испуганную Анисью в лавку за провизией. Анисья долго не возвращалась. Клара Андреевна, к которой постепенно возвращались обычные черты характера, сама приготовила ужин, приговаривая:
– Я всегда знала, что она воровка и проститутка. Украла деньги. И кошелку украла. Юрий, где пенсне? Посмотри, может быть, эта ведьма и пенсне стащила. – Пенсне висело у нее за спиной на шнурке. – Украсть кошелку! – воскликнула Клара Андреевна.
Ей особенно жалко было кошелку, которая служила ей верой и правдой четырнадцать лет подряд.
Она долго ругала Анисью, когда та наконец вернулась. Старуха напрасно оправдывалась тем, что очередь была длинная.
Первого марта, в восемь часов утра, от подъезда дома, где жили Лавровы, к Александро-Невской лавре двинулась похоронная процессия. За колесницей впереди всех шла Клара Андреевна, которую под руку поддерживал Юрий. За ними – три инженера, два чертежника, мастер Кельгрен, несколько никому не известных старушек, Жилкины: отец, мать и Надя, а позади всех – Борис. Клара Андреевна с нарочитым хладнокровием поздоровалась с этнографом, его женой и дочерью. Она даже слегка гордилась перед ними: в этом деле, в похоронах, никто не мог оспаривать ее центральное, главенствующее положение.
Двигалась процессия медленно, то и дело останавливаясь.
Борис шел, ни о чем решительно не думая и ничего не замечая вокруг, как человек, который на время лишен самостоятельности в поступках и должен торжественно исполнять неизбежный долг.
На кладбище, над открытой могилой, – снова панихида. И снова Борис пожалел отца при словах «Вечная память»: никто не вспомнит о нем, кроме родных. Когда гроб опустили в землю, Клара Андреевна упала и зарыдала так, что даже могильщик покачал головой, а Жилкин заморгал глазами, вспомнив об убитом сыне. Жена Жилкина тихо, как мышь, стояла над могилой и, казалось, ни о чем не думала. Клара Андреевна на миг опять полностью поняла свое несчастье: ведь то тело, которое столько лет подряд каждую ночь лежало рядом с ней в постели, которое согревало ее и дало ей двух сыновей, теперь навсегда ушло от нее в землю. А ведь это было почти что ее тело – так хорошо она знала все особенности его. И эти костлявые колени, на которые она обижалась в первые месяцы замужней жизни, – они больше никогда не вернутся к ней!
Клара Андреевна потеряла сознание. Юрий и Борис в карете отвезли ее домой.
Борис был рад, что взял отпуск на три дня. Его помощь требовалась тут, Клара Андреевна не спала ночью. Она звала мужа, плакала и все время требовала к себе Бориса, словно признавая в нем большую силу, чем в старшем сыне, который совсем растерялся и сам плакал, как мать. Борис сидел у постели матери, держал ее руку в своей, успокаивал и думал о том, что никакая жалость не вернет его больше в семью. Он оторвался, он отрезанный ломоть. Даже в горе он отдельно от матери и брата.
XXIV
Приказ № 1, подписанный новым революционным правительством, уже висел над столом дежурного по роте и в канцелярии, когда Борис отправился в Таврический дворец – отыскать Фому Клешнева. Надя указала ему, где найти этого человека. Пропуск Борису тоже устроила Надя.
Трамваи уже снова развозили людей по городу. Теперь Борис не боялся коменданта: он сидел внутри вагона на равных правах со штатскими.
Пройдя сад, он вошел в белое, с колоннами, здание.
Он долго искал Фому Клешнева. Ходил из комнаты в комнату, спрашивал; отчаявшись, повернул наконец прочь и в саду столкнулся с тем, кого искал.
Фома Клешнев, на ходу пожав ему руку, сказал:
– Да, я вас помню.
Он уже хотел умчаться куда-то, но задержался еще на миг, чтобы быстро проговорить:
– Я вам нужен? Сегодня ночью я буду дома. Вы зайдите. Это недалеко отсюда. – Он сообщил адрес, прибавив: – Я думаю, что сегодня ночью я смогу быть дома. К одиннадцати часам.
И умчался. Борис заметил перемену в его костюме: пиджак был надет на рабочую блузу, штаны сунуты в высокие сапоги. И это молодило Фому Клешнева. Лицо его похудело за эти несколько дней, щеки обросли щетиной, как и у члена Государственной думы Орлова. Но совсем разные дела мешали бриться Фоме Клешневу и члену Государственной думы...
К одиннадцати часам Борис явился к Клешневу. Тот жил на Суворовском проспекте, в огромном коричневом доме. Он снимал комнату в четвертом этаже, в небольшой квартирке, куда можно было попасть только со двора.
Молодая женщина отворила Борису дверь, сообщила, что товарища Клешнева дома нет, весело улыбнулась и предложила обождать. Она провела его в небольшую, но чисто прибранную комнату, еще раз улыбнулась и сказала, что если товарищ хочет, то она может подать ему чай. Она напомнила Борису Терезу из цукерни. Но это была не Тереза и даже не полька. Улыбнувшись (нельзя было не улыбнуться, глядя в карие глаза этой женщины), Борис поблагодарил и отвечал, что, спасибо, он чаю не хочет. Женщина поглядела на него, подумала и сказала:
– Тогда уж вам придется просто так обождать.
Она вышла из комнаты. А Борис остался ждать «просто так».
В комнате стояли кровать, стол (письменный и обеденный одновременно), несколько стульев и комод. На стенах, оклеенных зелеными, в цветах и полосках, обоями, не было ни одной фотографии, ни одной картины. Груда книг лежала на столе и на полу у окна. Белой простыней было завешено то, что висело на вбитых в стену крюках слева у двери – должно быть, платья, пальто.
Часов у Бориса не было. Он думал, что уже не меньше часа ждет Клешнева, когда незнакомая женщина снова появилась в комнате. Она спросила:
– Вам, должно быть, скучно! – И прибавила: – Я ужин делала. Ужасно плохой примус. Фома обязательно должен прийти сегодня. Я-то не так занята, почти каждую ночь дома. Я его жена. – Борис поглядел на нее с любопытством: у Фомы Клешнева, оказывается, есть жена. А Лиза спросила: – Вы по серьезному делу?
Борис понял, что она беспокоится за мужа: опять бессонная ночь. Он заговорил:
– Я могу завтра, если...
Лиза перебила быстро:
– Нет, оставайтесь, оставайтесь!
Прошло еще несколько времени, прежде чем наконец раздался звонок. Это пришел Клешнев. Увидев Бориса, он слегка нахмурил брови, словно удивляясь, как мог попасть сюда этот солдат. Потом бросил на кровать кепку, снял пальто и хлопнул себя по лбу:
– Простите! Совсем забыл. Сам же я вас и звал сюда. Я сначала поем. Вы не хотите?
Борису было уже стыдно, что он, явившись с самыми неопределенными намерениями, мешает спать усталому человеку. Он начал, вставая:
– Я лучше завтра...
– Сидите, – перебил Фома Клешнев. – Пришли, так уж сидите. Поели бы вместе, а?
Но Борис отказался: он успел поужинать дома.
Лиза принесла ужин – яйца, хлеб, колбасу и чай.
Только сейчас Борис понял, что Клешневы занимают в квартире одну комнату и, значит, он будет мешать спать им обоим.
Клешнев покончил с ужином и обратился к нему:
– Что все-таки привело вас ко мне?
Борис ответил возможно толковее:
– Я сам солдат и видел, что солдатам очень плохо. И вообще, я... я и с родными не могу жить. Я не согласен.
– А с чем же вы согласны?
Борис молчал. Он выяснил вдруг, что знает, чего он не любит, но очень смутно представляет себе, чего он хочет и что ему по душе. Чтобы уверить Клешнева в своей искренности, он хотел сказать ему, что убил командира батальона Херинга, но почему-то не сказал.
Клешнев спросил:
– А вот согласны вы с тем, чтобы войну империалистическую превратить в войну гражданскую, против правящих классов? Знаете вы этот лозунг?
Это было немножко похоже на экзамен.
Борис вспомнил, что однажды он уже слышал эти слова от Клешнева. Но сейчас они показались ему более понятными. Война против правящих классов? Значит, когда он вышел один на один против Херинга – это и была такая война?
– Да. Согласен, – ответил Борис.
Но опять не смог сказать, что убил Херинга.
– Вы очень не любите своих родных? – вдруг спросил Клешнев. – От них и на фронт бежали? – Это был резкий вопрос. Борис запнулся. – Впрочем, не отвечайте, – тотчас же промолвил Клешнев.
Уж он-то имел все основания не любить родителей этого молодого человека. Но не всегда яблоко от яблони недалеко падает. Бывает и так, что откатится очень далеко, под горку, например. А у Лавровых жизнь, бесспорно, пошла под горку.
– Что ж, – проговорил он, – видно, солдатчина кое-чему вас научила. Поговорим о том, как вам быть. Это не так просто... Вам придется жить не только для себя. Кстати, у вас есть товарищи в роте? С кем вы особенно сдружились?
И тут Борис впервые понял, что он ни с кем из солдат не сдружился как следует, что он и не знает никого по-настоящему.
Борис не знал, что ответить. Клешнев ждал – строго, как учитель на экзамене.
Упавшим голосом Борис пробормотал:
– У меня среди солдат нет особенных друзей.
Клешнев помолчал.
– Вот что, – сказал он наконец. – Я вам расскажу об одном товарище, который любит солдат и дружит с ними. Этот пример, может быть, вас кой-чему научит.
И, не называя имени Николая Жукова, он рассказал Борису о работе этого человека на фронте и в тылу...
– Вы, наверное, думали, что в феврале солдаты сами вдруг вышли на улицы и восстали. Вы думали, что это просто стихийный бунт. А на самом деле вот такие товарищи, как тот, о котором я вам рассказал, помогли солдатам понять правду, повели их за собой. А сумели повести они потому, что путь указан Лениным, партией. Поучитесь, постарайтесь работать, как они, вам еще долго учиться. – Он помолчал и, посмотрев на Лизу, добавил: – А теперь пора спать. Приходите завтра в Таврический. В три часа. Я вас познакомлю кое с кем...
Он назвал номер комнаты.
Прощаясь, Борис сказал:
– Я не знаю, сумею ли я стать таким, как тот, про которого вы мне рассказывали. Может быть, и нет.
Этот откровенный ответ понравился Клешневу. Когда Борис ушел, он сказал Лизе:
– Парень как будто ничего, но надолго ли его хватит – не знаю.
– А ты не торопись с выводами, – возразила Лига. – Таких, как он, сейчас много. Им надо помочь. Или тебе опять вспомнилось старое?
Да, Клешневу действительно вспомнилось старое. Юношей он состоял в одном революционном кружке с отцом Бориса, уважал его, как старшего и более образованного. Но когда для кружка наступили трудные дни и большинство его участников было арестовано, Лавров отошел от товарищей, не разделил с ними их судьбы, дал богатой жене спасти себя.
Лиза знала об этом, как вообще знала все, что происходило в жизни мужа. У него не было от нее никаких секретов. Так уж повелось с их первой встречи.
Они встретились лет шесть тому назад, в пригороде, где Лиза жила со своим больным отцом. Она служила в школе учительницей, а Клешнев, только что приехавший сюда, был без работы и находился под негласным надзором полиции. Мать Клешнева служила сиделкой в местной больнице и была счастлива, что ее беспокойный сын хоть ненадолго поселился у нее. В дела его она уже давно не вмешивалась. У нее было небольшое хозяйство, заведенное еще при покойном муже, весовщике с багажного склада. Клешнев привез с собой книжки и тетради – он учился упорно и непрестанно. Еще подростком он поставил себе целью во что бы то ни стало, вопреки всему, сделаться человеком не менее образованным, чем любой интеллигент.
Старая сиделка вскоре заметила, что сын ее стал «как чумной». Объяснялось это тем, что Клешнев познакомился с Лизой. Он был ошеломлен встречей с ней. Все казалось ему изумительным в ней – каждая черточка, каждый жест, каждое слово. Она заплакала однажды, когда он вполголоса запел «Вихри враждебные веют над нами...» Он запел случайно, на прогулке, и даже немножко смутился, увидев ее слезы. Она сжала руками виски и быстро проговорила: «Нет, нет, не думайте, я вообще не плакса, это просто так...»
И она очень откровенно рассказала ему о себе и о своем отце. Отец ее по крайней мере половину своей жизни провел в тюрьмах и ссылке. Из последней ссылки он вернулся совсем больным, и теперь болезни довершали свою разрушительную работу над его телом. История этого человека была типической историей честного интеллигента, пошедшего в народ. Все подробности такого рода историй были хорошо знакомы Клешневу, вплоть до женитьбы на молоденькой и восторженной девушке, которая последовала за мужем в Сибирь и нашла там свою могилу. Но эту историю рассказывала Лиза, и Клешневу представлялось, что еще никогда в жизни он не слышал ничего более трогательного. Мать не взяла с собой Лизу в Сибирь, и девочка росла у богатой тетки. Кончив гимназию и курсы, Лиза оставила тетку и пошла работать учительницей. Вот уже год, как отец вернулся из ссылки, и она, отказавшись от городской работы, переехала сюда, чтобы заботиться о его здоровье.
В дни зимних каникул, когда Лиза была совершенно свободна, они не расставались с утра до вечера.
Это были те, может быть, единственные дни в жизни Клешнева, когда он как бы снял с себя все заботы. Он ходил с Лизой на лыжах, скользил с ней на коньках по глади белого озера, мчал ее на салазках с ледяной горы. Ледяную гору заменяла тут крутая улица, пересеченная внизу узкой дорогой. Было жутковато лететь меж заборов, подскакивая на ухабах. Лизе казалось, что на нижней дороге вдруг выкатится наперерез таратайка, или вывернутся дровни, или просто пешеход заступит путь. Но в этом пустынном углу лесного поселка зимой не замечалось почти никакого движения. На всякий случай Клешнев все-таки ставил какого-нибудь мальчишку караульным на перекрестке, чтобы никто не помешал стремительным салазкам вынестись на ледяной простор озера. Дети были лучшими его друзьями, он целыми часами играл и возился с ними.
Лиза навсегда запомнила, что страшнее всего было начало движения, когда салазки, качнувшись, наклонялись и уже ничто не могло их остановить.
Клешнев и Лиза подолгу гуляли меж зимних сосен и елей. В финках, тулупах, рукавицах и валенках они становились похожи друг на друга. Тишина, полная мороза и солнца, окружала их. Снежная белизна слепила глаза. Смолистые стволы деревьев несли на своих колючих лапах охапки мерзлого снега.
Наконец настал день, когда Лиза сообщила отцу, что у него появился зять.
Вначале, особенно ночами, слушая тихое дыхание Лизы, Клешнев иной раз думал – не поступил ли он как бессердечный эгоист? Выдержит ли Лиза ту жизнь, которую ей теперь придется вести?
Но она выдерживала одно испытание за другим так, словно и не ждала для себя никакой другой жизни, кроме частых разлук, опасностей, борьбы. Она никогда не досаждала мужу жалобами или слезами и неизменно освобождала его от каких бы то ни было забот о ней.
Мать Клешнева не верила в этот неравный, как ей казалось, брак. Она была убеждена, что Лиза бросит ее сына.
«Тебе бы простую жену», – говорила она, вздыхая, когда сын на несколько дней появлялся у нее.
Сын только усмехался в ответ.
Старая сиделка думала так до самой смерти. А Лиза не ушла от ее сына. Выйдя за Клешнева, она окончательно решила свою судьбу. Салазки наклонились, и уже ничто не могло их остановить.
Клешнев всегда внимательно прислушивался к тому, что Лиза говорила о людях: ее оценки людей оказывались почти всегда верными.
О Борисе Лиза сказала:
– Он честный, но еще ничего не понимает.
Клешнев промолвил в ответ:
– Все-таки любопытно, что он сын именно того Лаврова.
Но Лиза немедленно возразила:
– А если б это был сын Иванова или Сидорова? Ты, Фома, лучше меня понимаешь, что история сейчас прямо вынуждает всех Ивановых, Сидоровых, Лавровых сделать выбор – куда и с кем идти. Сейчас им уже нельзя отсидеться по квартирам. А их отцы в огромном большинстве никогда не были революционерами. И все-таки, Фома, – неожиданно заключила Лиза, – я думаю, что он к тебе завтра не придет.
– Вот те на! – удивился Клешнев. – Начала за здравие, а кончила...
– А я лучше тебя знаю таких, как он.
– Ему же и хуже, – заметил Клешнев и усмехнулся. – Пойдет против нас – не сносить ему головы.
– Против он не пойдет, – опять возразила Лиза. – А впрочем, хватит о нем. Ты устал. Пора спать.
XXV
Выйдя от Клешнева, Борис направился прямо в казармы.
Дежурным по роте был Семен Грачев, а дневальным – молодой солдат. Дневальный расспрашивал ратника о приказе № 1, что он означает и можно ли ему верить.
Семен Грачев отвечал неопределенно:
– Смотреть лестно, а жить как – неизвестно.
Борис остановился. Приказ № 1, разрешавший солдатам элементарные человеческие права, нравился ему. У Клешнева Борис только что слышал слова о борьбе с правящими классами и соглашался с этими словами, но ему казалось, что приказ № 1 как раз и был направлен против правящих классов, ибо ограничивал власть свирепых душителей вроде полковника Херинга. Борис начал разъяснять это Семену Грачеву, но тот, не дослушав, угрюмо перебил его:
– На одно солнце глядим, а по-разному едим.
И Борису вдруг вспомнились слова, некогда сказанные Николаем Жуковым: «У нас разная судьба».
Нет, теперь это уже была неправда. Он, Борис, испытал на себе все солдатские тяготы и унижения, хотя отлично мог избежать их, поступив, подобно Сереже Орлову, в офицерское училище. Он сознательно выбрал для себя судьбу солдата, испытал все трудности войны и завоевал право быть вместе с народом. Его поведение у Клешнева вдруг представилось ему наивным и глупым. Надо было прямо сказать, что он, Борис, убил Херинга и этим своим поступком повернул весь ход событий в батальоне. Тогда и Клешнев говорил бы с ним совсем другим тоном. Жизнь замечательна, полна движения, и пусть все знают, что и он, Борис, тоже теперь по-новому строит ее.
Внезапное чувство горькой обиды на кого-то неожиданно охватило Бориса, и он с раздражением сказал Грачеву:
– Вот послушай меня и понимать будешь больше.
Ратник вдруг обозлился:
– А что понимать? Это, – он махнул рукой туда, где висел приказ, – кому нужно? Это тебе нужно, не нам. Это для чего написано? Для войны. А война тебе нужна, не мне. Нам один приказ нужен – кончать войну.
В его словах было прямое совпадение с тем, что говорил Клешнев. Но Борис не сдался.
– А причем тут приказ? – возразил он. – От этого приказа солдатам все-таки легче.
– А чего легче? – повысил тон ратник, и злые огоньки сверкнули в его глазах. Борис с удивлением вспомнил, что этот самый солдат еще так недавно с покорностью стягивал сапоги с ног Козловского. – Для чего это легче придумали? Для войны. Чтобы солдат войну не бросил. Мы что – не понимаем? Кто этот приказ подписал? Что за люди такие? А это Большой Кошель писал! – воскликнул он торжествующе. – Вот кто воюет – Большой Кошель! Он нас посылает, он нас уговаривает, он нас покупает, он нас и продает.
«Большой Кошель»! Эти слова поразили Бориса своей неожиданной меткостью. Но еще больше поразило его злобное воодушевление, с которым они были сказаны. А ведь Борис привык считать Грачева человеком темным и тихим.
– Ты не злись, – примирительно заметил Борис, – говори, что же, по-твоему, теперь надо делать?
Грачев ответил:
– Вспороть, вытряхнуть да выбросить.
И опять глаза его так сверкнули, что Борису стало жутковато.
– Это точно, – солидно подтвердил молодой дневальный.
Борис взглянул на него, на ратника и прошел в комнаты, где спали саперы. Он не чувствовал в себе той злобы, которая звучала в словах Грачева. По-видимому, дело было не только в полковнике Херинге и подпоручике Азанчееве. И Борис удивился – зачем он пошел к Клешневу? Чего он мечется? Все равно он остается чужим и Грачеву и Клешневу. Они ему не верят. И тот рабочий, о котором рассказывал ему Клешнев, тоже отвернется от него, как некогда Николай Жуков: «У нас разная судьба».
Борис понял, что к той деятельности, которую собирался предложить ему Клешнев, он явно неспособен. Очень, конечно, неудобно, что он отнял у Клешнева время, надоедая ему ночью. Больше он приставать к нему не будет. Он не пойдет к Клешневу в назначенный час. Так будет честней.
Теперь Борису очень хотелось быть среди людей, которые любили его таким, каков он есть, и не требовали от него поступков, на которые он неспособен. Поэтому, не пойдя в назначенный час к Клешневу, Борис вечером отправился к Жилкиным. Но по дороге ему вдруг вспомнилась Лиза Клешнева. Борис вспомнил, как во время его разговора с Клешневым она понимающе, с легкой усмешкой, посматривала на него своими карими глазами. Его вдруг охватило желание опять, и как можно скорее, встретиться с ней – именно с ней, а не с Клешневым. Это было такое сильное желание, что он чуть не повернул в другую сторону.
Нет, он решительно никуда не годится. Он и сам как следует не знает: почему он вдруг вообразил, что именно Лизе Клешневой он мог бы все рассказать о себе и она все поняла бы? Какое ей до него дело? Нет, он еще совершеннейший мальчишка.
Борис явился к Жилкиным в самом смутном состоянии, крайне недовольный собой.
Главным у Жилкиных теперь стал Григорий. Он работал и в Совете, и в какой-то министерской коллегии, и в штабе. Его имя мелькало на афишах рядом с именами знаменитых деятелей – он становился постоянным участником всевозможных диспутов и митингов. Когда Борис пришел к Жилкиным, Григорий торопился на какой-то очередной митинг и, споря с отцом, вскидывал голову, выпячивал кадык, взмахивал руками и заполнял всю квартиру зычным голосом опытного оратора. Старик Жилкин, часто мигая глазами, глядел на сына с некоторым недоумением, словно удивляясь тому, что породил такого шумного субъекта.
Григорий кричал отцу:
– Да, папа, ты вскормил на своей груди змею! Предателя! Все они теперь называют нас агентами буржуазии и не хотят понять, что мы ведем уже революционную войну, а не царскую. Это хуже чем недомыслие. И ты обязан отречься, сказать точно, что ты не с ними!
Старик Жилкин молча развел руками.
– Ты слишком мягок, папа, – продолжал Григорий, – а пришли жесткие времена. Надо спасать революционную Россию. Надо быть беспощадным, как бы ты раньше ни любил Клешнева. Таких, как Клешнев, надо клеймить, надо освобождать от них общество. Этого требует революция! Я против интеллигентского слюнтяйства, ты меня извини, папа.
Старик Жилкин тихо отозвался:
– Именно Клешнев против интеллигентского слюнтяйства, как ты выражаешься.
– Он вообще против интеллигенции! – возмутился Григорий. – Нет, папа, ты перестал понимать события.
Вернувшись в казарму, Борис стал внимательно прислушиваться к разговорам солдат о войне. Он заметил, что упорней всех настаивал на продолжении войны унтер Козловский. Он то и дело повторял: «Война до победного конца». Совершенно оправившись от февральского испуга, Козловский приобрел сильную опору в батальонном комитете, где председателем стал прапорщик Стремин. Когда Грачев осмелился заспорить с ним, он пригрозил ему тюрьмой «за разложение армии». И тогда Борис не выдержал. Он вмешался в разговор Козловского с Грачевым и вмешивался всякий раз, когда унтер бывал по-прежнему груб с солдатами. С особым удовольствием он заступался за Семена Грачева. Он говорил унтеру:
– Ты что думаешь, сейчас опять можно измываться над солдатами, как прежде? Ты что, забыл, что революция? Смотри, как бы тебя ненароком не обидели!
Козловский в ответ уже не грозил ему. При Борисе он даже стал воздерживаться от резкостей. «Черт его знает, этого наушника! – думал он. – Сейчас такие, из интеллигентов, пришли к власти».
В этой маленькой войне Борис находил некоторое утешение – все-таки он боролся за человеческое обращение с солдатами.
Однажды в конце марта Борис был назначен дневальным у ворот.
Он похаживал от стены к стене под аркой, потом вышел на улицу и сел на тумбу, положив винтовку на колени.
К воротам подошел со двора Козловский. Щуря левый глаз, он осведомился:
– До какого часа дежурите?
Он уже говорил Борису «вы».
– До двух часов ночи, – отвечал Борис, поднимаясь с тумбы.
– Сейчас половина второго, – сообщил унтер и прибавил: – Вам на Конюшенную? Домой пойдете?
– Да.
Унтер повернул обратно во двор. «Чего это он?» – подумал Борис.
Все последние дни Козловский обращался с ним вежливей, чем с другими солдатами, но в этой вежливости было больше ненависти, чем в самой крепкой брани.
В два часа ночи Бориса сменил на посту следующий дневальный. Оставив в роте винтовку, Борис отправился домой. Оглянувшись, он увидел, что Козловский идет вслед за ним. Длинная синяя шинель Козловского не была опоясана ремнем. Он шагал, сдвинув на затылок невысокую, мягкого меха, папаху. Папаха была совсем новая, не тронутая молью и временем. Она появилась на голове унтера с 27 февраля – должно быть, перекочевала с разбитой головы офицера. Борис ускорил шаг. Козловский держался за ним все на том же расстоянии, не укорачивая и не удлинняя его.
«Если он свернет за мной по Литейному, – подумал Борис, – то, значит, это он специально за мной».
Когда унтер двинулся вслед за ним по Литейному, Борис решил: «Посмотрим у Пантелеймоновской».
Козловский свернул и на Пантелеймоновскую.
У Лебяжьей канавки Борис замедлил шаги. Не пойти ли по Садовой? Но зачем? Неужели он струсил? И Борис пошел по Марсову полю вдоль Мойки. Петербург таял. Грязь, смешанная со снегом, хватала за сапоги.
Козловский догнал Бориса и пошел рядом с ним. Когда широчайшая тьма Марсова поля окружила их, он дернул Бориса за плечо, повернул к себе лицом и остановил. И тут Борис сообразил, что унтер гораздо сильнее его и что, конечно, надо было свернуть по Садовой к Невскому. Глупое бахвальство привело его теперь к полной безнадежности! Этот человек, который кривил рот и щурил глаз, недоступен никаким чувствам жалости. Он имеет все основания смертельно ненавидеть Бориса. Теперь Борис должен глупейшим образом погибнуть по собственной же вине. Это было похоже на самоубийство.








