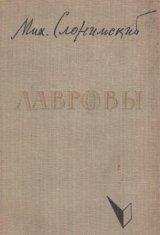
Текст книги "Лавровы"
Автор книги: Михаил Слонимский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 19 страниц)
– Теперь пойдет дело, – радовался Козловский. – Теперь цукать начнут.
Он всегда радовался всякому ухудшению: это укрепляло его твердое убеждение в том, что счастливая жизнь невозможна. Горе тому, в ком он подозревал мысль о возможности счастья на земле! Козловский мучил такого человека всеми способами, какие только имелись у него. А способов этих у взводного командира было немало. Жаловаться на него было бесполезно: ротный боялся унтер-офицера и слушался его во всем.
Солдаты хотели найти хоть какие-нибудь человеческие причины его поведения. Рассказывалось, например, что ему привелось отступать в Гродненской губернии через родные места и он узнал, что молодая жена его, изнасилованная какими-то обозниками, повесилась. Он сам поджег с двух концов родную деревню и вот с той поры стал таким, какой есть. Ходили и другие легенды о нем. Сам Козловский любил рассказывать и совсем невероятные истории – всегда только о войне.
– Ведь воевать-то нам с немцами двадцать лет, – утверждал он. – Это уж точно, с ручательством!
XVII
Придя в субботу домой, Борис встретил со стороны родных преувеличенное внимание. Он помнил, что так же внимательно и любовно относились к нему только восемь лет тому назад, когда умерла его младшая сестра. Это длилось тогда около месяца, а потом прошло.
Клара Андреевна тотчас же рассказала ему об участившихся сердечных припадках отца и, так как до вечернего чая оставалось еще по крайней мере полчаса, решила поговорить о нем самом. Она увела сына в кабинет, выслала оттуда мужа и принялась искать пенсне. Пенсне, как всегда, вблизи не оказалось.
– Ваня, – говорила Клара Андреевна, – это опять ты! Ты вечно засунешь мое пенсне! Юрий, кто взял пенсне?
– Оно тут, – указал Борис: пенсне на шелковом шнурке висело у Клары Андреевны на спине.
– Вот он всегда так! – воскликнула Клара Андреевна, поймав пенсне. Кто был этот «он», так и осталось неясным.
Она надела пенсне, как будто ей предстоял пасьянс, и состроила такое лицо, которое должно было показать Борису, что разговор будет серьезный, на очень щекотливую тему.
Она заговорила, всем своим видом показывая, что подбирает слова и выражения с необыкновенной осторожностью:
– Ты, Боря, уже не ребенок. Ты должен знать, что детей приносит не аист. – Борис удивился такому вступлению. – Детей аист не приносит, – строго продолжала Клара Андреевна, – дети рождаются иначе. – Она задумалась: ни одно сколько-нибудь приличное выражение не подходило для того, чтобы объяснить сыну, как рождаются дети. Потом она нашла наконец нужные слова: – Вот, например, ты. Тебя родил не аист, а я. А для того, чтобы я родила тебя, нужен был папа.
Тут Клара Андреевна покраснела, как девочка. Она встала, сняла пенсне, бросила его за спину и сказала:
– Папа тебе все разъяснит.
– Я уже давно знаю, – сказал наконец Борис.
– Ты меня понял? Тем лучше.
И она пошла из комнаты. Борис с удивлением глядел ей вслед. Весь разговор с матерью показался ему просто неправдоподобным. А за чаем Клара Андреевна глядела на него с нежностью: она чувствовала, что исполнила долг матери и помогла жить сыну. Опровергнуть это убеждение – значило бы убить ее.
На следующий день сразу же после обеда Борис отправился к Жилкиным. Там снова появился Фома Клешнев. Он сейчас играл с этнографом в шахматы. Жилкин был игрок первой категории. Он играл спокойно, медленно и беспощадно. Шахматы были единственной областью, в которой Жилкин был беспощаден. Он пользовался малейшей ошибкой противника и был непреклонен в атаке так же, как тверд в защите. Клешнев волновался, злился и проигрывал.
Борис, не желая прерывать партию, даже не поздоровался с Жилкиным, а ушел в дальнюю комнату – к Наде. Тут стояли кровать, письменный столик, диван, кресло, стул и еще какие-то тумбочки и табуреточки, назначения которых Борис не понимал: садиться на них он боялся – сломаются еще. По размерам все это было меньше обычного. А сама Надя – совсем не кукольная, плотная и здоровая девица с розовыми щеками и длинной русой косой. Стены комнаты украшены были фотографиями родственников и почему-то видами Неаполя.
Надя усадила Бориса на диван и заставила рассказать все, что с ним случилось за последнюю неделю. Выслушав, она промолвила:
– А я рада, что ты не писарь.
И добавила, подумав:
– Мне казалось, когда ты был солдатом, что ты политический преступник. А писарь – это вроде уголовного преступника. Это нехорошо.
Надя выросла среди людей, для которых тюрьма и ссылка были так же обыкновенны, как у других поездка в служебную командировку или перевод с одной службы на другую. В детстве Надя говорила про себя:
– Я кончу гимназию, а потом поступлю в тюрьму.
Она и представить себе не могла, что жизнь ее обернется как-нибудь иначе. А пока она училась на курсах и подрабатывала деньги уроками. Она принципиально не хотела жить за счет отца.
Борис продолжал болтать. Он начал пересказывать ей сцену с матерью и по Надиному лицу понял, что тема разговора ей не нравится. Борис оборвал фразу на середине. И только через минуту, когда Борис говорил уже совсем о другом, Надя, не удержавшись, вдруг прыснула. Борис тоже засмеялся: действительно, девятнадцатилетнему балбесу разъясняют такие вещи, как мальчику.
Жилкин у себя в кабинете уже обыграл Клешнева. Расставляя фигуры для новой партии, он говорил:
– У вас нет достаточной выдержки. Вы путаете последовательность ходов и ни одной комбинации не доводите до конца. Я уже в дебюте получаю лучшую партию.
Клешнев усмехнулся.
– Если бы вы в жизни были так тверды, как в шахматах!
– В жизни я тоже твердый человек, – сказал Жилкин, выдвигая на два поля вперед ферзевую пешку.
– В жизни вы добродушный соглашатель, – отвечал Клешнев и выдвинул на два поля вперед королевскую пешку.
– Нет, не соглашатель, – возразил Жилкин и взял ферзевой пешкой королевскую. – Разве это ход? Вы совсем не знаете дебютов.
– Я упорный человек даже в шахматах, – сказал Клешнев, продолжая игру.
Но уже к восьмому ходу он оказался в таком тяжелом положении, что сдал партию.
– Не всякий хороший политик – хороший шахматист, – изрек Жилкин.
– Не всякий хороший шахматист – хороший политик, – отвечал Клешнев, усмехаясь.
Он уселся глубже в кресло и вынул портсигар. Вздохнул:
– Вот курить начал. На тридцать шестом году жизни начал курить. Я курил только один раз в жизни – в киевской тюрьме. Я тогда ожидал смертного приговора, а мне было двадцать три, нет, двадцать пять – сколько мне было тогда лет? Я получил каторгу вместо смерти.
Он задумался, потом спросил:
– От Анатолия есть письма?
Жилкин замигал усиленно. Глаза его сразу покраснели.
– Уже два месяца нет известий.
Клешнев сразу же постарался перевести разговор на другое.
– Да... гм... папиросы... двадцать штук в день курю. Денег уходит – уйма. Да... А скажите, этот солдат, молодой такой, беленький, кто это такой? Он у вас часто бывает.
– Он с Надей очень дружен, – ответил Жилкин, тоже охотно меняя тему разговора.
– Его фамилия Лавров? – припомнил Клешнев. – И отец его – инженер? Я знавал инженера Лаврова. То есть он тогда еще не был инженером. Он кончал институт. Его звали Иван Николаевич. У меня дурацкая память на лица, фамилии, цифры. Кстати: мне было двадцать три года, когда я сидел в киевской тюрьме. Я напрасно усомнился.
– Это тот самый, – сказал Жилкин. – Иван Николаевич Лавров. Наши отцы очень дружили.
– Я встречал его много лет тому назад в одном кружке. Потом он исчез. Одно время он, кажется, был довольно деятельным работником. Он бывает у вас?
Жилкин приподнял широкие плечи, развел руками, и сглаживающая резкие слова улыбка появилась на его бородатом лице, как всегда, когда он хотел сказать о ком-нибудь неприятное:
– Нет, он не бывает. Он мне не совсем нравится. Он, несомненно, честный и неглупый человек, но в нем не хватает какого-то понимания. А с его женой мы в решительной ссоре – это невозможная женщина. То есть...
Клешнев перебил, усмехаясь:
– Представляю, что это за семейка.
– Он женился и совсем отошел от нас, – продолжал Жилкин и прибавил: – А Боря – прекрасный юноша. Совсем не в родителей. А отца его я все-таки жалею: в молодости он подавал большие надежды. Бедствовал ужасно. За женой он взял большие деньги – она из богатой семьи.
– Да? – спросил равнодушно Клешнев. Эта тема, видимо, не слишком его интересовала. – А вы знаете, что я делаю сейчас в Питере? Работу на заводе ищу. У меня теперь легальный паспорт. Гуляю по Питеру свободно. Самая сейчас работа на заводе и в армии. Я ведь все-таки квалифицированный токарь.
– Идите ко мне в секретари, – предложил этнограф.
– Спасибо, – отвечал Клешнев. – Если не удастся на заводе...
В передней послышались шум и говор. Жилкин вышел. Это одевались Борис и Надя. Надя объяснила:
– Мы в кинематограф, в «Сатурн».
Жилкин, вернувшись в кабинет, сказал Клешневу:
– Вот как раз Борис тут. Он ушел сейчас с Надей. – И прибавил: – Я думаю, что Толя убит. Он предупреждал, что не выстрелит даже тогда, когда это нужно будет для самозащиты.
Жилкин усиленно мигал, и глаза у него краснели.
Надя и Борис шли на угол, к трамваю. Жилкины жили на Большом проспекте, невдалеке от Каменноостровского. В этот вечерний час на улице толпилось много народу. Борис то и дело козырял офицерам, а один раз вытянулся во фронт перед генералом. Надя забавлялась, глядя на него. А Борис уже волновался: увольнительная записка давала ему право на жизнь и после восьми часов вечера, но в кинематографе, особенно в таком шикарном, как «Сатурн», нужно было каждую минуту спрашивать разрешения у старшего чином, стоять в антрактах. Удовольствие превращалось в муку. И он уже раскаивался, что предложил Наде идти в «Сатурн».
На углу Большого и Каменноостровского они сели в трамвай. Надя хотела войти внутрь вагона, но Борис задержал ее на площадке:
– Мне туда нельзя.
Надя удивилась, но послушалась. Чуть трамвай тронулся, на площадку, вскакивая на ходу, набилось столько солдат, что Борис совсем помрачнел.
На предпоследней перед Троицким мостом остановке трамвай после звонка кондукторши не тронулся с места. Борис понял, что это значит: патруль военно-полицейской команды. Он стоял в глубине и не мог соскочить, как некоторые, до остановки. Да он и не стал бы: его стесняло присутствие Нади.
На площадке осталось шесть солдат. Они в ужасе кинулись к противоположному выходу из вагона. Но и там уже стояло двое патрульных с винтовками и красными повязками на рукавах – вагон был оцеплен.
Борис заглянул внутрь вагона: у входа на переднюю площадку стоял унтер. Значит, там все кончено: солдат ссадили. Теперь примутся за заднюю площадку. Прапорщик с совсем новыми погонами, должно быть только что произведенный, на миг появился на площадке и снова нырнул в уличный сумрак. И в следующую минуту молодой солдат взял Бориса за плечо:
– Сходи!
Борис сдернул его руку с плеча.
– У меня билет.
И он показал трамвайный билет.
– Сходи! – злобно закричал патрульный. Видимо, он был очень недоволен своей ролью и хотел как можно скорее от нее отделаться.
Надя молча глядела на все это. Ей было ясно, что помочь она тут ничем не может. Теперь она припомнила жалобы Бориса на запрещение ездить в трамваях, раньше она никогда не обращала на них особого внимания.
Борис сошел с трамвая и оказался в кругу конвойных вместе с семью такими же, как и он, солдатами. Арестованных повели во двор: переписать и отправить в комендантское управление. Борис шагнул один раз, второй, а на третий раз, как будто случайно, запнулся. И тогда конвойный, шедший сзади, тихо потянул его за полу шинели.
– Теки! – сказал он.
Это был тот самый конвойный, который так злобно согнал его с трамвая.
Борис не задумался ни на секунду: он сразу же ринулся из круга конвойных вдоль трамвайной линии. Кто-то крикнул: «Держи!» И еще: «Лови его!» Люди, следившие за солдатом, убежавшим из-под конвоя, думали, должно быть, что это опаснейший преступник – убийца или шпион. Никто бы не поверил в то, что суета на Каменноостровском проспекте возникла по такой пустяковой причине.
Трамвай набирал ход, и Борис никак не мог обогнать его, чтобы перебежать рельсы, хотя он мчался по проспекту стремительнее, чем в атаку. Все – сзади и справа – гнались за ним. Каждую секунду враг мог оказаться впереди. А слева – проклятый трамвай, который не отстает и не перегоняет. Податься Борису некуда. А за бегство из-под конвоя полагается наказание почище обычных дисциплинарных взысканий. Военная тюрьма, штрафной батальон...
Вагоновожатый на всем ходу остановил трамвай: он заметил и понял солдата. Борис дернулся влево, перебежал рельсы, и вагоновожатый тотчас же снова дал полный ход трамваю, отделив Бориса от преследователей. Борис никогда не узнал, кто был этот вагоновожатый. Он так же мелькнул в его жизни, как тот пулеметчик, который спас ему жизнь в поле за Наревом.
С того момента, когда конвойный потянул Бориса за полу шинели, прошло не больше двадцати секунд. А через десять секунд Борис уже затаился на первом же дворе, забежав далеко вглубь, к помойке. Там он перевел дыхание: он был жив и спасен. Отдышавшись, он вышел на Каменноостровский проспект. Те, что гнались за ним, уже бесследно исчезли. Трамваи, экипажи и люди ежеминутно сменялись на этом перекрестке. Борис двинулся пешком по панели к Троицкому мосту. В том, что случилось с ним, ничего неожиданного или необычного не было. Он был даже доволен: по крайней мере избавился от необходимости идти в кинематограф. И чего это ему взбрело в голову развлекаться не вовремя!
Против памятника «Стерегущему» Бориса остановила Надя. Она ждала его тут:
– Что это такое?
Борис пожал плечами:
– Ничего особенного. Самое обычное дело. Ты извини, что так глупо получилось.
Надя вдруг заплакала. Борис растерялся. Сам он плакал в последний раз шести лет от роду. Тогда восьмилетний Юрий без всякой причины хлопнул его по щеке. Борис заревел во всю глотку не столько от боли, сколько от неожиданности и еще от того, что брат слишком всерьез ударил его, по-взрослому. С той поры ему не приходилось плакать, хотя причины бывали. Он как-то сразу и навсегда поверил отцу, что плакать стыдно и не к чему. Он привык дома не к плачу, а к истерикам, которые ненавидел. А тут девушка плакала без всякой истерики, еле слышно всхлипывая. Было жалко глядеть на нее, но Борис совершенно не понимал, как ее успокоить. Он пробормотал:
– Что ты?.. Успокойся... Что с тобой сделалось?
Прохожие с усмешкой оглядывались на солдата с «георгием» на груди и на плачущую девушку: обольстил, наверное, а теперь на попятный!
Вдруг Надя перестала плакать, отерла глаза рукавом пальто и сказала:
– До свиданья, и, пожалуйста, не провожай меня.
Она быстро пошла прочь.
Борис шагнул вслед за ней, но остановился. Он ничего не понимал. Потом догадался: ведь для нее все то, к чему он так привык на улицах Петрограда, совершенно неожиданно и необычно. Неужели же положение солдата до такой степени тяжело, что может даже довести до плача? Размышляя об этом, он медленно шел к мосту. Все-таки это хорошо, что они не попали в «Сатурн». Завтра к шести утра надо быть в казарме. По крайней мере он успеет выспаться.
А Надя выплакалась окончательно только к двум часам ночи. Она никому не созналась бы в том, почему плакала. И никому не сказала бы еще того, что ей все-таки было мучительно стыдно, когда с ее Борисом обошлись так грубо, а ему пришлось покориться.
XVIII
Николай Жуков выписался из госпиталя только к зиме шестнадцатого года. На комиссии он был признан годным в пехоту и назначен в Волынский полк. Его соседа по койке, усатого унтера, комиссия тоже признала годным, хотя тот прихрамывал. Унтер был заслуженный, с тремя «георгиями», и сам просил оставить его в армии. До войны он жил в далекой деревне вдвоем с сыном. Теперь сын его уже никогда не вернется в родную деревню: он погиб в прифронтовом госпитале, как тот молоденький самокатчик. За вольные слова о земле, сказанные офицеру, сын попал в штрафную роту, а и сказал-то он только то, что за войну, за все страдания крестьянству будет дана земля. Вот и все. Какое же в том преступление? Унтер спросил об этом Николая, а тот ответил неожиданно:
– Никакое начальство не даст, надо самим брать землю.
Уходя из госпиталя, унтер говорил Николаю:
– Не могу сейчас в деревню. Жена померла, сына нет, бобылю думать надо.
Он пошел на комиссию за месяц до Николая.
Получая увольнительные в полку, Николай каждый раз старался найти Клешнева. Это было нелегко, ибо Клешнев постоянно менял места встреч. Жена Клешнева Лиза со стариком отцом жила на Суворовском проспекте. У них Николаю было хорошо, как дома. К ним он пошел и после того, как узнал, что его отец умер в дальней тайге. Лиза не утешала его ненужными словами.
Поневоле он сравнивал ее с Маришей. Та пропадет без сильного человека. Плывет по течению. Без сильного человека невесть куда и приплывет. Незаметно для самого себя Николай все больше убеждался, что именно он и есть тот самый сильный человек, без которого непременно пропадет Мариша. Уходя из госпиталя, он сказал, что им обязательно надо встречаться, что он ее научит, как жить. В один из воскресных дней, когда оба они были свободны, Николай привел Маришу к Лизе Клешневой. Как он и ожидал, Мариша сразу привязалась к Лизе, как младшая сестра. Упрямства в ней хоть отбавляй, а все-таки слабенькая и плакса...
С Клешневым Николай встречался без Мариши. У Клешнева каждый раз появлялись все новые и новые люди. Как-то зимой пришел новый гость – незнакомый Николаю солдат Мытнин, в шинели с желтыми петличками Павловского полка.
– Здравия желаем, – сказал он, козырнув всем, аккуратно повесил фуражку на гвоздь и присел к столу. – Еле увольнительную получил. – Мытнин начал прямо и точно: – Терпение в армии кончается.
Николаю это сразу понравилось.
– Надел хозяйчик погоны, и стало ему совсем просто нас хлестать и калечить, – продолжал Мытнин. – Любой хлюст – хозяин тебе. Бьют. Хлещут по лицу, а скажешь слово – пуля в лоб. А то, случается, и выпорют, даром что по уставу не полагается.
Вешнева, истощенная тонкогубая женщина, работница с Выборгской стороны, спросила:
– Это они со всяким так?
Губы у нее дрожали.
– Разные есть наказания, – продолжал Мытнин, – усиленный арест, штрафной батальон, тюрьма военная. Мало на нас управы, что ли? На наш век хватит, если не... – И он потряс кулаком. – Помним твердо: империалистическую войну в гражданскую. Только тактика нужна. Осторожность. Вот и учимся.
– Моего за забастовку с Путиловского в солдаты забрали. Миллер, генерал, – быстро и зло заговорила Вешнева. – Мужа на смерть отдай, а сама издохни с тоски да с голоду. Этому генералу Миллеру самую худую смерть пожелаю. Сколько семей в беду вогнал!
Каширин, с пригородного ружейного завода, промолвил:
– И наш генерал не лучше. – Он повернулся к Николаю своей багровой, обваренной паром щекой: – Кельгрена, мастера, помнишь? Смирный стал. Как однажды присмирел, так больше и не скандалит. Совесть, что ли?
Николай усмехнулся:
– А нас ведь уже и боятся тоже.
– Понимают солдаты медленно, – опять заговорил Мытнин. – Но этой войны уже не хотят. И ругателей не любят. Крепко не любят. И землю хотят. Голод научил. Девять копеек в сутки семье выдают – это агитация хорошая. А за твоего, – обратился он к Вешневой, – не волнуйся. Умный мужик. Такой не пропадет.
Николая радовало все то, что он слышал. «Чем хуже, тем лучше, – думал он. – Тем скорее восстанут люди».
– Пишет еще – вша его ест, – всхлипнула вдруг Вешнева, поворачиваясь всем своим тощим телом к Мытнину. – Ножичком, пишет, по шву проведешь – треск, как с пулемету.
– Рабочего человека всюду паразит гложет, – сентенциозно заметил Каширин, – и на дому и на заводе. Хозяйчик оставит, так насекомое приползет. Небось, возьмем да по всем швам ножичком – вот уж это треск будет настоящий.
– У волынцев, слышал, лучше всех дела идут, готовы, – с завистью сказал Мытнин. – Видно, хороши ребята там подобрались.
Николай не смог сдержать радостной улыбки: ведь и он принадлежал к этим хорошим ребятам – волынцам.
Клешнев, похаживавший по комнате, подошел к столу и обратился к Мытнину, указав на Николая:
– Товарищ Жуков – один из наших работников в Волынском полку. Знакомься, Николай, с товарищем Мытниным. Связь надо вам установить. Пора.
В павловце вдруг проснулся солдат.
– А почему не по форме одет? – спросил он Николая. – Петличек почему нету? Не разберешь, какого и полка, словно не гвардеец.
– А ты не знаешь, что ли, складов вещевых? Какую шинель дали, ту и взял. За гвардейским званием не гоняюсь.
Мытнин уже опомнился.
– Так ты, значит, из Волынского? – говорил он. – Ну, громко не говорим, но один из ваших заходил, к земляку своему заходил. Крепко разговаривал.
– Давай уславливаться будем, где да как встречаться, – отвечал Николай. – Почаще бы надо...
С этого совещания расходились, как всегда, по одному.
Николай отправился отсюда к Лизе Клешневой. Он шагал быстро, даже и не пытаясь сесть в трамвай: теперь не время было рисковать арестом за такую чепуху, как нарушение трамвайных правил. Он все ускорял шаг и наконец сознался себе, что ему не терпится увидеть Маришу. Конечно, она не боец, сопротивляться не умеет, для борьбы не годится, но... но не может он без нее. «Ну, влюбился, и все тут», – сказал он себе даже с некоторой злобой.
Сегодня Мариша была свободна. Николай знал это, они заранее условились встретиться. Он взбежал по лестнице, рванул звонок. Вот она стоит у окна в своем сереньком платьице, похожая на воробышка. Когда Мариша, встретив его в дверях, подняла на него свои тихие серые глаза, Николай даже, кажется, побледнел, и голос у него дрогнул. Войдя в комнату, он не заметил, как схватил Маришу за руку, и торопливо заговорил:
– Мариша, нам нельзя больше жить розно, ну вот так случилось, не могу больше молчать, сказать должен, жениться нам надо... – Она так испуганно глядела на него, что он почти закричал: – Только не плачьте! Всегда вы плачете, чуть что!..
Он так сильно сжал ее руку, что она вскрикнула, выдернула руку и по-детски помахала ею.
– Простите, – смущенно промолвил Николай. – Повредил?
– Нет, ничего.
Она размяла пальцы, разглядывая их так внимательно, словно они в самом деле были повреждены. Когда она вновь подняла глаза на Николая, он не прочел в них ничего, кроме печали. Любви не было. Он зашагал по комнате.
Мариша заговорила грустно:
– Вот видите, какой вы оказались непонятливый. Мы уже так хорошо начали дружить, а вы все хотите запутать. Совсем это ни при чем, чтобы нам жениться. Совсем не то. Никакая я вам не жена, и все было бы только очень плохо.
Она и не собиралась плакать. Она говорила даже с досадой, с необычным для нее раздражением. И Николай снова заметил, что подбородок у нее упрямый. «Вот она какая», – подумал он с удивлением. А она продолжала:
– Вы вот, оказывается, совсем не умеете дружить. Совсем не надо жениться, чтобы дружить. Ну прямо вы все, все испортили...
Она даже рукой махнула и отвернулась.
Тогда Николай подсел к ней и опять безбоязненно взял ее за руку.
– Ну, напутал, – сказал он с такой неожиданной легкостью, что Мариша повернулась к нему и вдруг улыбнулась – печально и весело в одно и то же время. От этой улыбки сердце у Николая дрогнуло. – Ну, прости, – промолвил он, переходя, сам того не замечая, на ты. – Прости. Научила меня. Если опять что напутаю, ты одергивай меня. Прикрикни – я и пойму.
Мариша, продолжая улыбаться, промолвила доверчиво:
– Это же очень серьезно – полюбить, муж и жена. Это так нельзя, как вы налетели. Это очень серьезно. И мы друг друга совсем не так любим, чтобы жениться. Я это очень хорошо знаю. Очень хорошо. У нас с вами совсем не то, совсем не то. Совсем у вас ко мне не то чувство.








