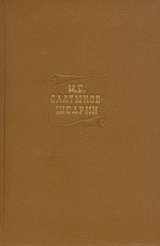
Текст книги "Том 10. Господа «ташкентцы». Дневник провинциала"
Автор книги: Михаил Салтыков-Щедрин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 42 (всего у книги 61 страниц)
Я принадлежу к хорошей фамилии. Один из моих предков ездил в Тушино; другой кому-то целовал крест, потом еще целовал крест и потом еще целовал крест. За все эти поцелуи ему выщипали по волоску бороду и заточили в Чердынский острог. Третий предок соперничал в грасах с Бироном, но оплошал и за измену был сослан в Березов.
С материальной стороны обстановка моя представляется далеко не столь блистательною.
Предки мои жили весело; но так как и в то время насчет этого существовали законы, то мои веселые дедушки и бабушки почти постоянно находились под судом. Мой прадедушка просудил свое саратовское имение (около 800 душ) за то, что скатил в бочке с горы попа; моя прабабушка просудила свое пензенское имение (около 600 душ) за то, что вымазала капитан-исправника медом и выдержала его в этом виде несколько часов на солнечном припеке.
Результатом всех этих веселостей было то, что когда мне пришлось вступить во владение наследственным имением, то предо мной предстало неуловимое село Прахово, при котором значились какие-то странные земли: по болоту покос, да по мокрому месту покос, да лесу ненастоящего часть и т. д. Даже мужики явились какие-то ненастоящие: или совсем дряхлые, или подростки с огромными, выпяченными вперед животами.
Разумеется, я сейчас же всю эту чушь побоку и, получив куш (последний куш!), отправился с ним в Петербург.
Воспитание получил я очень изящное, но не могу скрыть, что знаний больших не имею. В том закрытом заведении, где протекли годы моей юности, науки преподавались коротенькие: тетрадки в две, в три, не больше. Приводились примеры рыцарских чувств и утонченной вежливости; излагалось кратко, что рыцари имели обыкновение сечь (rosser) и обдирать различных буржуа и manants, но за что собственно производилось это хроническое сечение – этого никто нам не объяснял. Только уже по выходе из школы я узнал, что это была целая величественная система, задуманная в видах предотвращения коммунизма и нигилизма…
По субботам нас отпускали к родителям. Но родители у нас были милые и, точно так же как и мы, воспитывались в чувствах рыцарства и утонченной вежливости. Ничего буржуазного, ничего такого, что напоминало бы унылый семейный очаг. Когда мы являлись домой, нас очень любезно осматривали, давали целовать ручку, произносили: amusez-vous! и уезжали в гости. После этого мы были свободны, как ветер в поле.
Собственно у меня maman была настоящая конфетка. Всякий раз, как я являлся домой (особенно когда я был на последнем курсе), она в каком-то детском страхе зажмуривала глаза и восклицала:
– Ах, какой большой! ах, какой большой!
– Но нельзя же, ma chère, – утешал ее papa, – таков закон природы! Молодое растет, старое старится! (Он отлично знал наши прекрасные русские поговорки.)
– Ах, нет! ах, нет! я хочу, чтоб он был маленький! всегда, всегда маленький! – повторяла maman и затем, бросив последний взгляд на свой туалет, уезжала в гости.
Затем из всех воспоминаний моего детства остались в моей памяти только два: воспоминание о том, как я в первый раз напился пьян (мне было тогда тринадцать лет, и, клянусь честью, я думал, что совершил бог весть какое преступление!) и воспоминание о моем первом грехопадении (мне было тогда пятнадцать лет… Леокади!).
Ни наук, ни искусств…
Ничего, кроме рыцарских чувств и утонченной вежливости.
Годы летели мимо меня с такой быстротой, что я даже не чувствовал их. Умер папа̀, скончалась maman; я поплакал. Серые рысаки сменились караковыми, караковые – вороными. Леокади уступила место Армансе, Арманса – Жозефине (не француженке, а шведке). Даже Марья Петровна какая-то была… из русских. Все это плыло и плыло и заставляло вместе за собой уплывать те тысячи, которые были выручены через продажу села Прахова с ненастоящей землею и ненастоящими мужиками. Я возмужал, а в кармане у меня оставалась только одна тысяча… на всю жизнь!
Когда я убедился в этом, то мне показалось, как будто я сейчас только родился. Я понял, что покуда у меня были деньги в кармане, я их расходовал; что теперь у меня нет денег в кармане, и я не могу расходовать. Что такое: нет денег? почему я не могу расходовать?.. Я думал, что я с ума сойду! Весь мир представлялся мне в каком-то новом свете; все эти портные, прачки, квартиры, лакеи, все, что прежде представлялось как во сне, вдруг приняло какие-то живые образы, заговорило, запротестовало… я положительно думал, что сойду с ума!
Но ежели у меня нет ни имений, ни капиталов, если предки мои проживали свое достояние, как они выражались, «ради вящего Российской империи блеску и авантажа», – ужели я не должен быть за это вознагражден? Рыцарские чувства! утонченная вежливость! – tout ça est bel et bon, messieurs! [545]545
все это прекрасно, господа!
[Закрыть]но мне нужен пирог, настоящий пирог, который я мог бы кусать à belles dents! [546]546
в полное свое удовольствие!
[Закрыть]я желаю его! я требую его! я требую той доли, на которую мне дают право мои рыцарские чувства, мои правила утонченной вежливости!
И вот, в эту критическую минуту, в уме моем созрела мысль о месте в провинции.
Я рвался в провинцию, потому что жизнь уже поистрепала меня. Борьба с кокотками подорвала мои силы; опасение встретиться с портным (которому я много лет не платил) убило во мне всякую предприимчивость. В Петербурге я решительно не годился; Петербург требует, чтоб человек разглядывал свою добычу издалека и налетал на нее с уверенностью. Я никогда не мог достичь этой виртуозности. Я был хищник второго разряда; я не нападал, а просил и вследствие этого очень скоро поступил в разряд пик-ассьетов * . С тех пор никто не хотел смотреть на меня серьезно. Самые, что называется, шалопаи из шалопаев – и те легкомысленно улыбались при упоминовении моего имени. В тех редких случаях, когда мне поручалось какое-нибудь дело по службе, – это считалось анекдотом, который, с разными прибаутками, ходил по городу, услаждая всеобщие досуги. Когда у меня появлялись деньги, то говорили, что я придумал новый способ подделывать духовные завещания или что я вступил в компанию с некоей Адольфинкой и выписал, по ее поручению, женщину с усами… Каждый мой поступок истолковывался самым непозволительным образом, а некоторые утверждали, что у меня даже совсем нет поступков… Меня кормили обедами и поили шампанским и в то же время вымещали на мне каждый съеденный кусок, каждую выпитую бутылку. Иногда это оскорбляло меня. Ужели я в самом деле гороховый шут? – спрашивал я себя внутренно и давал слово проучить первого шалопая, который позволит себе назвать меня этим именем. Но самый гнев выходил у меня как-то странно, и вместо того чтоб устрашать, пробуждал еще больший взрыв веселости…
Несмотря на все это, я продолжал жить. Я чувствовал, что еще одна минута – и все будет кончено. Голова наполнялась каким-то туманом, в глазах мелькал хаос, в ушах звенело. Я вставал утром с постели и спрашивал себя: скоро ли? Я ложился спать на ночь и спрашивал себя: скоро ли? Я целый день куда-то спешил, сам не отдавая себе отчета, куда спешу, и только спрашивая себя – скоро ли?
Провинция! Не там ли тихая гавань, в которой должно навсегда погрузиться мое прошлое, в которой, в первый раз в жизни, сказанное мною слово не будет встречено ни хохотом, ни щелчками!
Но тут, на первых же порах, я был озадачен совершенно неожиданным образом.
– Ваши принципы? – спросили меня, едва я успел заикнуться о предмете моих вожделений.
Я смутился; я думал, что меня хотят испытать.
– Никаких принципов я никогда не имел! – отвечал я с негодованием.
– Подумайте и придите в другой раз.
Собеседник мой улыбнулся (он некогда видал меня у Леокади) и прошел далее.
– Ваши принципы? – вторично раздался в ушах моих вопрос, обращенный уже к следующему соискателю.
– Священное исполнение предписаний начальства… до последней капли крови… Ваше превосходительство! ежели!..
С говорившим сделалось дурно.
Я вышел словно ошеломленный. Принципы!
Я не могу сказать, чтоб это слово было мне совершенно неизвестно. Я знаю, что принципы существуют, но при этом слове в воображении моем всегда рисовалось что-то лохматое, неумытое, тайнодействующее. И вдруг я слышу это самое слово… где? когда? по какому случаю?
Как зародилось это нововведение? какой был процесс его развития? По-видимому, тут не было ни зарождения, ни развития, а было только внезапное помрачение. Принципы явились на сцену жизни, как являются не помнящие родства на сцену полицейского действия. Откуда? как? где ночевал? где днем шатался? кто был пристанодержателем? – никто ничего не знает, никто ничего объяснить не может. Приходит откуда-то нечто и требует, чтоб его взяли в острог. Острогом оказалась чья-то голова. Вот и все.
К счастию, у меня был приятель Поль Беспалый, который мог объяснить мне все это. Он служил сначала в гусарах, потом определился к штатским делам, потом прошел огонь и воду и имел один недостаток: терпеть не мог, когда его называли действительным статским кокодессом.
– Mon cher, – сказал я ему, – ты, который знаешь все, ты должен объяснить мне, что такое «принципы»!
Мне показалось, что на лице его выразилось моментальное изумление. По крайней мере, он не тотчас ответил, а ущипнул меня разом за обе щеки и сказал:
– Душка!
– Но, мой друг, мне предложен вопрос, имею ли я принципы, и я завтра же, в одиннадцать часов утра, должен дать ответ!
– И ты меня спрашиваешь об этом! ты, который снизу доверху преисполнен самыми лучшими принципами! нет, это какое-то недоразумение! – весело смеялся Поль.
– Да не смейся же, Поль! скажи, что должен я отвечать?
– Во-первых, ты ничего отвечать не должен; во-вторых, ты должен приложить руку к сердцу, в-третьих, слегка закатить глаза и, в-четвертых, что-нибудь пробормотать. «Смею уверить»… «безграничная преданность»… «святое исполнение долга»… что-нибудь в этом роде. Чем невнятнее, тем лучше, потому что это докажет, что в тебе говорит не ум, а чувство. Скажи, пожалуйста, ведь ты… не оченьумен?
Вопрос этот был так неожидан, что я невольно сконфузился.
– Виноват, мой друг, – продолжал Поль, – но этот вопрос нам необходимо очистить, чтоб иметь под ногами совершенно твердую почву.
Как я ни привык к веселонравию моих друзей, но ответ был так щекотлив, что просто-напросто не срывался с моего языка.
– Хорошо; будем говорить яснее, – вновь начал Поль. – Возьмем для примера хоть наши теперешние взаимные отношения. Я тебя искренно люблю, и ты меня искренно любишь – это несомненно; но почему же мы любим друг друга? спрашиваю я тебя. А потому, душа моя, что мы оба: и ты, и я – оба не оченьумны. Понимаешь: оба, не ты один! Ты расскажешь мне какой-нибудь проект, и я тебе расскажу какой-нибудь проект – и нам обоим… не стыдно! Тогда как, если б ты был очень, а я не оченьумен, то мне было бы постоянно совестно, и я кончил бы тем, что возненавидел бы тебя… понял?
– Так, но ведь я могу, наконец, скрыть свой ум?
– Нет, это уж не то! Человек, который скрывает свой ум, хоть невзначай да обмолвится. Нет, если ты хочешь успеть, то лучше не скрывай, а прямо так, как есть. Итак, этот вопрос очищен…
– Позволь, тут могут встретиться еще некоторые подробности, которые тоже необходимо предусмотреть… Например, может понадобиться мой взгляд, мое мнение… que sais-je enfin! [547]547
как знать, наконец!
[Закрыть]
– Ну да, и взгляды, и мнения… все это ты обязан! Ах, да пойми же, душа моя, что ты сам весь состоишь из взглядов и мнений и только не подозреваешь, что все это называется взглядами и мнениями…
Поль сделал несколько туров по комнате, как бы желая наглядно объяснить, в чем заключаются взгляды и мнения.
– Все взгляды известны, все мнения составлены, – продолжал он, останавливаясь передо мною, – разумеется, не оченьумные. И чем больше ты будешь высказывать таких взглядов и мнений, тем лучше. Ты не поверишь, мой друг, как это развязывает язык, когда знаешь наверное, что не скажешь ничего… оченьумного! У нас в клубе случился на днях поразительный пример в этом роде. Сорок лет сряду прожил Пьер Накатников на белом свете, и сорок лет нельзя было разобрать, говорит он или молчит. Говорят, будто он боялся сказать что-нибудь оченьумное. И вдруг этот человек убедился, что он хоть и умен, но не очень…и заговорил! И что ж! мы целый час его слушали, и, право, слушали не без удовольствия… Потому что он действительно говорил не оченьумные вещи!
– Но Накатников ведь был басней целого города!
– А теперь он сделался чуть не гением. Ах! ты не поверишь, душа моя, как это освежает, когда вдруг заговорит перед тобой нечто такое, что десятки лет сряду сидело против тебя и молча предлагало тебе рюмку вина! Наплыв какой-то чувствуешь… радость какую-то! Так бы и вырядил его в одежды златотканые и пустил бы на все четыре стороны: лопай кого угодно!
По мере того как Поль говорил, я чувствовал, что мне делается легче и легче. «За что ж они меня называли шалопаем?» – спрашивал я себя.
– Понимаю, – сказал я после некоторого размышления, – но ведь это почти то же самое… ну да, это совсем то же самое, что я всегда…
– Вот то-то и есть, что мы часто создаем себе затруднения там, где их совсем не существует. Но резюмируем наши дебаты. Ты хочешь знать, в чем состоят наши принципы: вот они. Принцип первый: везде… всегда… куда угодно… Принцип второй: мыслей не имею, чувствовать – могу. Если ты усвоишь эти два принципа, то можешь дерзать совершенно свободно!
Поль обнял меня с нежностью. Очевидно, что роль ментора была для него еще внове, и я был чуть ли не первым учеником его в деле искусства приобретать успехи.
– Ах да – чуть не забыл, – спохватился он, – принцип третий: вот! – Он сжал правую руку в кулак, как будто держал вожжи. Глаза его сверкнули. – Это для тех, которые… ты понимаешь? ну, для тех… для умников!
Объяснение кончилось. Я вышел от Поля слегка отуманенным, но по мере того как я удалялся от его квартиры, туман постепенно рассеивался и уступал место лучам света.
– Что ж! – говорил я себе, – все это я давно знал, только не мог хорошо выразить – вот и все! Ведь если наш разговор пересказать своими словами, то выйдет так: принцип есть неимение никаких принципов… помилуйте! да разве я когда-нибудь думал противное!
И я чувствовал, как во мне зарождалось и с изумительной быстротой крепло сознание принципа. Покуда я ехал по Невскому, покуда повернул в Большую Морскую, все было готово. Двери Дюссо распахнулись передо мной и не узнали меня. Перед ними стоял все тот же Базиль, Васюк, Васька – но под новым лаком.
– Принципы! – весело твердил я, – et dire que ce n’est que cela! [548]548
только и всего!
[Закрыть]
Они были все в сборе.
– Вася! Васька! Васюк! последняя тысяча! – раздалось со всех сторон при моем появлении.
Но я не обращал внимания на эти крики и с достоинством составлял меню. Между тем в компании происходил так называемый обмен мыслей.
– Что с ним? Basile! ты, кажется, хочешь наслаждаться на собственный счет! – говорил один.
– Messieurs! y него деньги, следовательно, он участвовал в ограблении Зона! * – говорил другой.
– Messieurs! он снял заведение Фюрста!
– Messieurs! Эстер, уезжая в Париж, позволила ему продать в свою пользу ее кровать!
Вдруг посреди этого ливня клевет (именно клевет, потому что Зона я даже совсем не знал и ни в какие сделки ни с Фюрстом, ни с Эстеркой не вступал) я обернулся, и все почуяли что-то новое. Как будто Васюк навсегда исчез, а явился Basile… и даже с перспективою сделаться в ближайшем будущем Василием Андреичем.
– Basile! да что с тобой? – тревожно спрашивали меня со всех сторон.
– Messieurs! – сказал я торжественно, – отныне вы должны смотреть на меня серьезно. Вы видите перед собой… l’homme aux prrrincipes! [549]549
человека с принципами!
[Закрыть]
Все молча переглянулись, как бы ожидая разъяснения этой загадки.
– Принципы, messieurs, – продолжал я, – это то самое, что каждый из вас всегда носит в самом себе. Только вы не знаете, что носите, а я… я знаю!
Опять обмен мыслей:
– Charmant! [550]550
Очаровательно!
[Закрыть]
– Показывай, что такое ты носишь!
– Он носит надежду попасть в долговое отделение!
– Он носит сладкую уверенность, что Дюссо простит ему долг!
– Васька! стань перед Дюссо на колени!
– Одну слезу, Basile! одну слезу – и он простит!
И т. д. и т. д.
– Позвольте, messieurs! – прервал я этот поток, – вы забываете, что компрометируете своего соотечественника… перед кем?.. Вспомните про Севастополь, messieurs!
– Браво, Васенька, браво!
– Но к черту национальности! – продолжал я, – дело идет о принципах. Messieurs! в эту самую минуту вы сидите у Дюссо, вы пьете, едите, болтаете вздор – и не подозреваете, что все это делается вами в силу принципа! Вы ездите к Бергу, вы целый день рыскаете, не зная куда приклонить голову, – и не понимаете, что вами руководит принцип! Вы занимаете деньги без отдачи, вы не платите портному, обсчитываете прачку, лакея – и не видите, что все это принцип, принцип и принцип! А я все это вижу, знаю и понимаю!
– Браво!
– Что такое принцип? – принцип, говорят нам, есть не что иное, как последовательный образ действий. Следовательно: ежели человек действует последовательно, хотя бы вопреки каким бы то ни было принципам, то это значит, что он все-таки действует по принципу. Сойдите в глубины ваших сердец, взвесьте ваше прошлое – и судите! Что нужно, чтоб из отсутствия принципов образовался принцип? – для этого нужно убедить себя, что отсутствие всяких принципов есть тоже своего рода принцип – и ничего больше! Что нужно, чтоб этот принцип восторжествовал? – для этого нужно, чтоб те, которые чувствуют в себе его присутствие, подали друг другу руки и сдвинули ряды свои!
Оглушительное «браво!» встретило эти слова.
– Messieurs! – продолжал я, – нам говорят, что мы шалопаи – пусть так! не будем ни подтверждать, ни опровергать этого мнения! Соединимся, «станем до̀бре», comme dit quelqu’un dont le nom m’échappe pour le moment! [551]551
как говорит некто, чье имя сейчас не могу припомнить!
[Закрыть]Станем против тех… ненавистных… гнусных… пошлых… которые выдумывают какие-то мрачные положения вещей… которые на все и всех смотрят в черном цвете, которые утверждают, что Деверия канканировала на краю бездны! Только тогда мы образуем живую изгородь, сквозь которую не проскочит ни один неблагонамеренный заяц! только тогда мы заплетем ту великую сеть, которая опутает собой все пространства и перспективы. Я кончил, messieurs.
Я чувствовал, что это был мой первый ораторский успех. Хотя по местам еще раздавалось хихиканье, но большинство собеседников уже задумалось. Их в особенности поразили слова: сдвинуть ряды.
– Как? как ты это сказал? «сдвинуть ряды»? – переспрашивали меня со всех сторон.
– Подадим друг другу руки и сдвинем наши ряды! – повторил я, поднимая бокал.
– Браво! – раздался общий голос.
– И изыдем к Бергу, потому что там самое настоящее место, чтобы сдвигать ряды! – откликнулся чей-то отдельный скептический голос.
Один Simon (известный служитель в ресторане) не принимал участия в общем энтузиазме и, казалось, рассчитывал мысленно, сколько придется ему на водку.
– Нас называют проходимцами, – вновь начал я, – об нас говорят que nous sommes des hommes perdus de dettes… [552]552
что мы – люди, погрязшие в долгах…
[Закрыть]Оставим! Оставим, messieurs, астрономам доказывать – кажется, так я это сказал? – и докажем, в свою очередь, что мы тоже люди принципов, что и в нас есть нечто такое, что составляет силу! Силу, messieurs, силу!
Гам, который поднялся в этот момент, был ужасен. Все эти милые, благовоспитанные люди до того наэлектризовались, что готовы были испепелить первого попавшегося прохожего, разбить окна в первой по пути женской бане!
– Докажем! докажем! – кричали они какими-то неестественными голосами.
Я не знаю, что со мной сталось. Я был красен, я пылал, я тоже был готов разбить что угодно… разумеется, с тем чтоб не узнала об этом полиция. Такова сила энтузиазма к принципу.
Через полчаса мы были там.Blanche, Eugénie, Finette – все уже знали, что во мне сидит l’homme aux principes. Сначала все жалели, но потом поздравляли.
Комплот восприял начало.
Через месяц я был уже в N.
– Господа! – сказал я собравшимся, – человек, который имеет честь обращать к вам настоящее слово, с гордостью может засвидетельствовать, что он человек принципа. Если вам угодно будет спросить, что такое принцип? то я отвечу вкратце: принцип – это образ действия. Следовательно, в дальнейшем все будет зависеть от того, как вы поведете себя. Есть вещи, к которым я отнесусь благожелательно; есть вещи, на которые я посмотрю с снисходительностью, и есть вещи, которых я не потерплю. Пусть процветает торговля, пусть земледелие принимает неслыханные размеры, пусть воздвигаются монументы – на все это я буду смотреть сквозь пальцы. Пусть молодые люди предаются свойственным их [возрасту] играм и забавам – и на это я взгляну снисходительно, потому что не ученые нам нужны, господа, а доблестные. Но… ммеррзавцев… негодяев… возмутителей общественного спокойствия… я не потерплю!
Сказавши это, я погрозил пальцем, сверкнул глазами и удалился.
Сознаюсь откровенно, я сделал ошибку: не нужно было грозить пальцем. Пальцем грозить следует, когда знаешь наверное, что люди виноваты; но когда видишь людей в первый раз, то подобного рода жест легко может поставить их в недоумение. Так именно и случилось. Вечером того же дня я узнал от своего секретаря, что в обществе уже возникли превратные толкования.
– Что же рассказывают эти негодяи (и опять-таки я сделал ошибку, ибо негодяями следует называть только тех людей, о которых наверное знаешь, что они негодяи)? – спросил я, возмущенный до глубины души.
– Да говорят-с, что вы изволили кулаком пригрозить-с?
– Ну-с?
– Еще говорят, что изволили всех обозвать мерзавцами-с.
– Дальше-с?
– Обижаются-с.
– Понимаю. Это всё умники. Составьте мне к завтрашнему дню список этих молодцов. Я их уйму.
Я не мог скрыть своего волнения. Едва успел сделать первый шаг – и уж противодействие!
– Позвольте, однако ж, почтеннейший! – обратился я к секретарю, – разве прежде не бывало подобных примеров?
– Помилуйте-с, очень довольно бывало. И все слушали-с. Только вот с тех пор, как эта самая власть упразднилась…
– Какая власть? какая власть упразднилась?
– То есть не упразднилась-с, а так сказать…
Он взглянул на меня и вдруг присел.
– Извольте идти! – указал я ему на дверь.
Но этому вечеру суждено было остаться в моей памяти. Едва отпустил я секретаря, как явился мой помощник.
– Ну, что, любезный коллега, управим? – весело обратился я к нему.
– Коли власть, так, стало быть, надо управить-с! – отвечал он очень развязно, – только вот что осмелюсь вам доложить: с тех пор как упразднилась эта самая власть…
Я даже вскочил от негодования.
– Помилуйте! – воскликнул я, – об чем вы говорите! о каком упразднении власти! Mais ça n’a pas de nom [553]553
Но это неслыханно.
[Закрыть].
И что ж? весь вечер толкались у меня разные провинцияльные тузы (что-то вроде начальников каких-то частей, которых обязанность состоит в том, чтобы противодействовать), и весь вечер я слышал один и тот же refrain: [554]554
припев.
[Закрыть]с тех пор как эта власть упразднилась… Я просто был вне себя.
– Да это какая-то деморализация, господа! – говорил я, – как! вы, представители… mais au nom de Dieu [555]555
но ради бога.
[Закрыть], да какой же вы власти представители? упраздненной, что ли?
– И все-таки власть упразднилась, – ответил какой-то акцизный, пренахально смотря мне в глаза.








