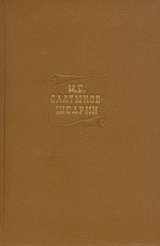
Текст книги "Том 10. Господа «ташкентцы». Дневник провинциала"
Автор книги: Михаил Салтыков-Щедрин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 61 страниц)
– Ату! ату его! – вдруг как безумные подхватывают «палач» и Никешка.
Псы летят; кошка сначала заминается, но через мгновение тоже летит, задеря хвост, к забору, цепляется когтями за столб, с быстротою молнии вспалзывает наверх, и как окаменелая становится там, ощетинившись и выгнувши спину. Псы стоят у подошвы забора и, не сводя с кошки глаз, виляют хвостами и жалобно взвизгивают.
– Стиксовали, подлецы! – гремит «палач», – Никешка! учить их!
Начинается учение: собак дерут за уши, бьют чем попало; воздух наполняется тем особенным собачьим визгом, которому в целом мире звуков нет ничего подобного. На шум прибегают братишки и старый дедушка. Последний стоит в воротах, подобрав полы халата, и сам, в каком-то ребяческом экстазе, визжит и лает.
– Ты чего прибежал? – обращается «палач» к старику, – стары годы вспомнил?
– Он так-то людей в стары годы собаками травил! – вставляет свое слово Никешка.
– Рви! – огрызается дедушка и видимо сконфуженный удаляется восвояси, при общем грохоте веселящихся.
– Маришку-то, ваше благородие, оставить надо! – докладывает Никешка, когда гвалт унялся.
«Палач» злобно фыркает.
– Она теперича у Федькн-повара и легла и встала! А я вам, ваше благородие, другую ягоду припас!.. такая-то ягода! вот так уж ягода!
– Потрафляй, Никешка, потрафляй!
День кончился; «палач» окончательно вступил в свою домашнюю колею, то есть побывал и на конном, и на скотном, и на огороде. В десять часов вечера он ужинает вместе со всем семейством и на все вопросы матери угрюмо отмалчивается.
– Да отвечай, идол, произвели ли тебя в классы-то? – чуть ли не в десятый раз спрашивает его Арина Тимофеевна.
– Завтра отцу все скажу! – отвечает «палач», выходя из-за стола, и, ни с кем не простясь, удаляется в боковушку, где ему постлали постель.
Около полуночи он слышит впросонках звон колокольцев, стук подъезжающего экипажа, хлопанье ворот и дверей и, наконец, шаги отца в передней.
– Балбес приехал? – раздается голос Петра Матвеича.
«Ну, пошла пильня в ход!» – мысленно произносит «палач», переворачиваясь на другой бок.
Отцу, однако ж, не до Максимки. На другой день, часов в шесть утра, он уже собрался в город и только мимоходом успел взглянуть на сына.
– Ну что́, олух царя небесного, экзамена не выдержал? – . поздоровался он с ним.
– Не выдержал-с.
– Повесить тебя мало, ракалия!
– Я, папенька, в юнкера желаю-с.
– Сказал: сгною подлеца в заведении! и сгною!
– Воля ваша-с.
Присутствовавший при этом Софрон Матвеич тоже счел долгом вступиться в разговор.
– Что ж ты, душенька, у папеньки-то ручки не целуешь? а-а-ах, милый друг! у родителя-то! да ты знаешь ли, миленький, как родителей-то утешать надобно?
– Я, дяденька, в военную службу желаю-с!
– И что это у вас, други милые, за болезнь такая: всё в военную да в военную! всё бы вам убивать! всё бы убивать! А знаешь ли ты, голубчик, что штатский-то слово иногда пустит, так словом-то этим убьет вернее, чем из ружья! Вот она, гражданская-то часть, какова!
– Что с ним, с оболтусом, разговаривать! – прерывает Петр Матвеич медоточивую речь брата, – вот ужо свалим с рук губернскую саранчу – я с тобой разделаюсь!
Дни идут за днями во всем их суровом однообразии, закаляя характер «палача». Он совсем не видит отца и, пользуясь этим обстоятельством, дает полный простор своим вкусам и наклонностям. С раннего утра он уже на конюшне, травит собаками кошку или козла, хлопает арапником, рассекает кнутом лубья, курит махорку, сплевывает в сторону и по временам устраивает, с целью грабежа, экспедиции на погреб, в кладовую и даже на крестьянские огороды.
– Скучно у вас, Никешка! – говорит он своему наперснику.
– Супротив Москвы как же можно!
– Я, брат, в Москве такие штуки удирал! такие удирал! с Голопятовым через забор в питейный бегали. Голопятова знаешь?
– Нет, таких не слыхали.
– Амченина-то Голопятова не знаешь? Ведь он тут, поблизости, в Амченске живет!
– Слыхали, что барин хороший, – лжет Никешка.
– Уж такой, брат, это человек! Мы с ним однажды Кубарихин дом вдвоем разнесли!
– Ишь ты! да уж где нам супротив Москвы!
– У вас даже питейного нет. Я со скуки хочу научиться табак нюхать.
– И от табаку тоже большого способья нет. Тошнит от него спервоначалу. А мы, барин, вот что: давайте в церкву ходить, да на крылосе петь.
– Чудесно. Вот это, брат, отлично ты вздумал!
«Палачу» так скучно, что он с жаром хватается за поданную Никешкой идею и немедленно приводит ее в исполнение. Он вербует в певчие младших братьев, дворовых и деревенских мальчишек, собирает их на задворках и производит спевки.
– Эк, Голопятова нет! вот бы рявкнул! – жалуется он.
Мало-помалу, вместо лая и визга собак, воздух оглашается стихирами и прокимнами * . Две недели кряду продолжается это новое столпотворение, и «палач» до того предается своей забаве, что делается почти неузнаваем. Только встанет утром – уже бежит на спевку; пообедает, напьется чаю на скорую руку – и опять на спевку. Он похудел, сделался богомолен и богобоязнен, а мальчишек совсем смучил. По временам он даже помышляет, не пойти ли ему в монахи.
– Жрут эти монахи… страсть! – решает он, и тотчас сообщает о своем решении Никешке.
– Что ж, в монахи так в монахи! я к вам служкой пойду! – отвечает Никешка.
– Заживем мы с тобой… лихо!
Однако и эта затея недолго гнездится в уме его, потому что Арина Тимофеевна, узнав стороной об его планах, считает долгом объяснить ему, что монахам не дают мяса.
– Что̀ лопать-то будешь? – спрашивает она его.
«Палач» смущается, ибо совершенно определенно сознаёт, что без мяса ему жить невозможно.
– Знаешь ли ты, балбес, как настоящие-то угодники живут? Одну просвирку на целую неделю запасет, голубчик, да и кушает! А в светло христово воскресенье яичко-то облупит, поцелует, да и опять на блюдо положит! А ведь тебе, олуху, мясища надобно!
– Врете вы всё! не может человек без мяса жить!
– Еще как живет-то! живет да еще работает! Ты спроси вот у мужичка, когда он мясо-то видит! И как только бог его поддерживает! все-то он без мяса! Ни у него говядинки! ни у него курочки! Ничего.
Арина Тимофеевна впадает в чувствительность. Она готова разглагольствовать на эту тему хоть целый день, готова даже погоревать и поплакать, но «палач» сразу осаживает ее.
– Ну, распустили нюни! – восклицает он и, не дожидаясь дальнейших разглагольствований, уходит из дома.
Как ни огорчительно открытие, сделанное Ариной Тимофеевной, но оно западает в душу «палача» и производит перелом в его образе мыслей.
– Ну их к шуту! – говорит он Никешке, – мать говорит, что монахам мяса не дают!
– Что ж, можно и оставить!
Идея о монашестве предается забвению, спевки прекращаются, и на место их лай и визг собак опять вступают в права свои.
Среди этого содома Арина Тимофеевна ходит как потерянная и без перемежки вздыхает.
«И отчего он такой кровопивец? – думается ей, – нет чтобы книжку почитать или в уголку тихонько посидеть, как другие дети! Все бы ему разорвать да перервать, да разбить да проломить!»
Бродит Арина Тимофеевна по комнатам и все думает, все думает. А на дворе гвалт, гиканье, свист, рев.
– Лаской, что ли, с ним как-нибудь! – наконец додумывается она и немедленно решается воспользоваться этою мыслью.
– Хоть бы ты, Макся, поговорил с матерью-то! – обращается она к сыну.
– Об чем мне с вами говорить!
– Ну все же, хоть бы утешил!
– Горе, что ли, у вас?
– Как не быть горю! у меня, Макся, всегда горе! нет моему горю скончанья! вот хоть бы об вас, об деточках… ну, щемит у меня сердце, щемит, да и вся недолга!
– Ну, и пущай щемит!
– Или вот теперича кровопивцы из губернии налетели! что̀ они пропили! что̀ проели! Что̀ было добра нажито – все повытаскали!
– И опять это дело не мое.
– Как же не твое, Макся… Ты хоть бы пожалел, мой друг!
– Меня, маменька, не разжалобите!
Арина Тимофеевна на минуту умолкает, видимо обиженная равнодушием сына.
– И что это за народ такой нынче растет… бесчувственный! – наконец произносит она, посматривая в окошко.
– Вы, маменька, про чувства не говорите со мною. Я даже когда меня дерут – и то стараюсь не чувствовать. У нас урядник Купцов, прямо скажу, шкуру с живого спущает, так если бы тут еще чувствовать…
«Палач» постепенно одушевляется; он ощущает твердую почву под ногами.
– Один раз, – говорит он, – я товарища искалечил, так меня сам инспектор бил. Бьет это, с маху, словно у него бревно под руками, бьет, да тоже вот, как вы, приговаривает: бесчувственный! Так я ему прямо так-таки в лицо и сказал: ежели, говорю, Василий Ипатыч, так бьют, да еще чувствовать…
«Палач» от волнения задыхается, словно пойманная крыса; лицо его вспыхивает, ноздри раздуваются, и сам он от времени до времени вздрагивает.
– Меня вот товарищи словно волка травят, – продолжает он, – соберутся всей ватагой, да и травят. Так если б я чувствовал, что̀ бы я должен был с ними сделать?
Он смотрит на мать в упор; глаза его сверкают таким диким блеском, что Арина Тимофеевна, не понявшая ни одного слова из всего, что говорил сын, пугается.
– Да ты обалдел, что ли, как на мать-то смотришь! – начинает она, но «палач» уже ничего не слышит.
– Теперича, к примеру, я хочу в юнкера поступить, – гремит он, – так ежели начальство мне скажет: «Хмылов! разорви!» – как, по-вашему? Я и в то время должен какие-нибудь чувства иметь? Извините-с!
«Палач» быстро поворачивается, и через минуту сугубый гвалт возвещает о благополучном прибытии его на конный двор.
Арина Тимофеевна опять задумывается, или, лучше сказать, в голову ее опять начинают заглядывать какие-то обрывки мыслей, которые она тщетно старается съютить. То вдруг заглянет слово «убьет!», то вдруг мелькнет: «Это он с матерью-то! с матерью-то так разговаривает!» Наконец она вскакивает с места и разражается.
– Желала бы я! – восклицает она иронически, – ну, вот хоть бы глазком посмотрела бы, что́ из этого ирода выйдет!
Но вот и губернская саранча уехала восвояси; Петр Матвеич свободен и приезжает в Вавиловку отдохнуть.
– Теперь я с тобой, мерзавец, разделаюсь! – говорит он сыну, располагаясь в кресле с таким спокойным видом, как будто собрался приятно провести время.
– Вся ваша воля-с.
– Сказывай, ракалья, будешь ли ты учиться?
– Я, папенька, в полк желаю-с.
– Будешь ли учиться?
– Я, папенька, ежели вы меня в полк не отдадите, убегу-с!
– К-к-кан-налллья!
Петр Матвеич вытягивается во весь рост, простирает руки, и до такой степени таращит глаза, что кажется, вот-вот они выскочат. «Палач» закусывает губу и ждет.
– Нагаек! – кричит Петр Матвеич задавленным голосом.
Экзекуция начинается: удар сыплется за ударом. Петр Матвеич бледен; в глазах его блуждает огонь, горло пересохло, губы горят.
– Убью! в гроб заколочу! – уже не кричит, а шипит он тем же задавленным голосом.
«Палач» словно замер: ни стона, ни звука.
– Убить, что ли, сына-то хочешь! – вдруг раздается испуганный голос Арины Тимофеевны.
Она бледна и дрожит. Как кошка, вцепляется она в полы мужнина сюртука и силится его оттащить.
– Да оттащите! оттащите, ради Христа! Убьет… ах, убьет!
Петра Матвеича с трудом оттаскивают. Он шатается словно пьяный и смотрит на всех потухшими глазами, как будто не сознает, где он и что тут случилось. «Палач» страдает, но, видно, перемогает себя. Он встряхивает волосами, на губах его блуждает вызывающая и вместе с тем исполненная инстинктивного страха улыбка. Но нервы его, очевидно, не могут выдерживать долее. Не проходит минуты, как лицо его начинает искажаться, искажаться, и, наконец, какое-то ужасное рычание вылетает из его груди, рычание, сопровождаемое целым ливнем слез.
– Плачь, батюшка, плачь! – увещевает его Арина Тимофеевна, – плачь! легче будет!
Но он ничего не слышит и стремглав убегает из комнаты.
Сцена сечения произвела на весь дом подавляющее действие. Все как будто опомнились и в то же время были до того поражены, что боялись словом или даже неосторожным движением напомнить о происшедшем. Прислуга ходит на цыпочках, словно чувствует за собою вину; Арина Тимофеевна потихоньку плачет, но, заслышав шаги мужа, поспешно утирает слезы и старается казаться веселою; дедушка мелькает там и сям, но бесшумно и испуганно, как будто тоже понимает, что теперь не то время, чтобы озоровать; младшие дети сидят смирно и рассматривают книжку с картинками. В самом Петре Матвеиче заметна перемена: он похудел, осунулся, мало ест и совсем не пьет. «Палач» примечает это общее уныние и всячески старается эксплуатировать его в свою пользу. Он целые дни где-то скрывается; приходит домой только обедать, молча ест, выбирая самые лучшие куски, после обеда целует у родителей ручки, и тотчас же опять уходит вплоть до ужина.
– Здоров? – как-то не удержался однажды спросить его Петр Матвеич.
– Слава богу-с; гной теперича в ранах показался-с, – ответил «палач», но с такою язвительною почтительностью, что Петр Матвеич весь вспыхнул и чуть было опять не потребовал нагаек.
На самом же деле «палач» уже почти позабыл об экзекуции и проводит время на обычной арене своих подвигов, то есть на конном дворе. Но он сделался как-то солиднее в своих поступках, не бурлит, не хлопает арапником, не дразнит козла, а или заваливается спать на сеновал, или беседует с кучерами. Станет где-нибудь в углу, курит махорку, сплевывает и ведет разумную речь о коренниках, об иноходцах, о том, какие должны быть у «настоящей» лошади копыта, какой зад и т. д.
– У «настоящей» лошади зад должен быть широкий… как печка! потому у «ей» вся сила в заду! – утвердительно говорит «палач».
– Нет, вот я у одного троечника коренника знал, так у того был зад… страсть! – рассказывает кучер Михей, – это под гору полтораста пудов спустить – нипочем!
– По «саше»? – вопрошает «палач», подделываясь под тон своей аудитории.
– По саше и по простой дороге – как хошь! И сколько раз у него эту лошадь торговали, тысячи давали…
– Не продал?
– Ни в жисть! «Дай ты мне сто пудов золота, говорит, умру, а лошади не отдам!»
– И что за житье, ваше благородие, этим извозчикам – умирать не надо! – вступается Никешка.
– На что лучше! – восклицает Михей, – еда одна что сто́ит! Щи подадут – не продуешь! Иному барину в праздник таких не есть!
«Палач» задумывается и полегоньку посасывает трубочку. Воображение его играет; он видит перед собой большую дорогу, коренника, переступающего с ноги на ногу и упирающегося широким задом в громадный воз; офицеров, скачущих мимо; постоялый двор, и на столе щи, подернутые толстым слоем растопившегося свиного сала…
– Папушник с медом есть будете? – слышится ему словно впросонках.
– Вы бы вот что, ваше благородие, – прерывает его мечты Никешка, – поклонились бы вы папеньке-то: наградите, мол, папенька, меня тройкой лошадей… А я бы вам, ваше благородие, в работниках послужил!
– Что ж, Никешка – парень ловкий! Он это дело управит! – подтверждает Михей.
– А уж какую бы мы тройку подобрали – на удивление! – продолжает Никешка, – ну, просто, то есть, и в гору и под гору – как хошь!
– А ты это видел? – осаживает его «палач», снимая куртку и показывая спину, усеянную подживающими рубцами, – так вот ты пойди да и поклонись папеньке-то, а он тебе еще вдвое засыплет!
Или:
– Кучер, коли ежели он настоящий ездок, непременно должен особенное такое «слово» знать! – повествует Михей.
– Да, без этого нельзя! – подтверждает и «палач».
– Теперича, ежели ты в грязи завяз или в гору встал – только скажи это самое «слово», – хоть из какой хошь трущобы тебя лошадь вывезет! а не скажешь «слова» – хоть до завтрева бейся, на вершок не подвинешься!
И т. д. и т. д.
Одним словом, «палач» благодушествует и, зная, что отцу до поры до времени совестно смотреть ему в глаза, пользуется своим положением самой широкой рукой.
Иногда, наскучивши анекдотами о коренниках, о том, как однажды Никешка на ровном месте пять часов бился, «хочь ты что хошь», о том, как один ямщик в одну пряжку сто верст сделал и только на половине дороги лошадей попоил, – «палач» отправляется к дяденьке Софрону Матвеичу, который тоже отдыхал в Вавиловке после ревизорского погрома, и слушает рассказы этого нового Одиссея.
– Я, дяденька, в полк уйду! – обыкновенно начинает «палач».
– И что ты это заладил одно: в полк да в полк! На войну хочешь? так на войне-то, брат, бабушка еще надвое сказала: либо ты убьешь, либо тебя убьют!
И затем начинался бесконечный ряд рассказов о преимуществах гражданской службы.
– Гражданская-то служба разве не то же отражение? – повествует дяденька, – только всего и разницы, что по военной части двое отражаются, а по гражданской части один отражается, а другой претерпевает отражение. И сколько я этих гражданских стражениев в своей жизни выиграл, так ежели бы всё счесть, кажется, и фельдмаршалом-то меня сделать мало!
«Палач» оглядывает мизерную, словно объеденную фигуру дяденьки и улыбается.
– А ты не гляди, миленький, что я ростом не вышел; я, душа моя, такие дела делывал, что другому даже в генеральских чинах во сне не приснится.
Дяденька выпрямляется во весь рост и, тыкая себя перстом в грудь, продолжает:
– Я только говорить о себе не люблю, а многим, даже очень многим в жизни своей такие права предоставил, что ежели они после того рук на себя не наложили, так именно только по христианству, как христианский закон вообще запрещает роптать! Насекина, например, Павла Ивановича знаешь?
– Это пьяненького-то?
– Это теперь он пьяненький, а прежде был он у нас предводителем, туз козырный был! Гордый человек был, тиранил, жег, сек. Дворянин ли, мужик ли – все, говорит, передо мной равны! Вот он каков, «пьяненький»-то, в старые годы был! А кто гордыню-то эту из него извлек? Я, Софрон Матвеев Хмылов, ее извлек! Походил около него, распланировал все как следует, потом дал стражение – и извлек!
– Да я, дяденька, помилуйте…
– Погоди, мой друг, дай сказать! Или возьмем теперича хоть палагинское дело. Убили рабы своего господина, имением его воспользовались – одними деньгами, душа моя, сто тысяч было! – бежали, пойманы, уличены! По-твоему, как надлежит в этом случае поступить? Отдуть душегубов кнутом, сослать куда Макар телят не гонял – и дело с концом? Ну, нет, не будет ли этак-то очень уж просто! С имением-то, скажи ты мне, как поступить? Да опять же и где это имение взять? Потому эти самые душегубы во всем прочем чистосердечно повинились, а насчет имения такую аллегорию, такую аллегорию поют, что и боже ты мой! Ну, думаю, други милые, не хотите волей сказывать, придется стражение вам дать. И как бы ты полагал? – не успел я это стражение до половины довести, как они уж всё до полушки отдали!
– Да ведь я, дяденька, не об вас. Вы, известно…
– Нет, да ты слушай, что́ потом будет! Отдавши, это, всё до полушки, сидят они в остроге год, сидят другой – и вдруг возгордились! Мы-ста! да вы-ста! из нас, говорят, жилы вытянули, а резону нам не дают! И даже очень громко этак-то побалтывают. Что ж, делать нечего, пришлось и в другой раз стражение дать… только уж после этого другого-то стражения…
Софрон Матвеич внезапно останавливается и вместо продолжения прерванного рассказа присовокупляет:
– Так вот они каковы, гражданские-то стражения! Коли ежели да с умением, да с сноровочкой – большую можно пользу для себя получить!
«Палач» смотрит на дядю с благоговением, почти с алчностью. Глаза его так и бегают.
– Я десять губернаторов претерпел! – продолжает Софрон Матвеич хныкающим голосом, – я пятнадцати ревизорам очки вставил! И всякой-то на меня с наскоку наезжал: «Я, дескать, этого разбойника Хмылова в бараний рог согну!» Ан дашь ему стражение – он и притих! Статский советник Ноздрев у нас был * , так тот, как приехал в город, так и рычит: подайте мне его! разорву! Каково мне это слушать-то? каково? Однако я выслушал, доложил, опять выслушал, опять доложил – и стал он у меня после того шелковый… Даже поноску носить выучился, и так, это, привык, что в глаза, бывало, мне смотрит, когда же, мол, ты скажешь: пиль!
– Да ведь то вы, дяденька! вы, дяденька, умный!
– Не то чтобы слишком умен, а человеческое сердце, душа моя, знаю. Другой смотрит на человека, и ничего в нем не видит, а я проникаю. Я даже когда не нужно – и тогда проникаю. Идешь это по улице, видишь человека и все думаешь: а кто знает, может быть, этому человеку со временем придется стражение дать!
Но как ни привлекательны рисуемые дядей картины гражданских сражений, «палач» не поддается соблазну. Он понимает, что ему тут делать нечего. В нем, если хотите, имеется достаточный запас той одервенелой жестокости, которая на самые большие мучения позволяет смотреть хладнокровно, но нет ни настойчивости, ни остроты ума, ни прозорливости. Ни к каким комбинациям он неспособен, и потому даже в шашки порядком не мог научиться играть.
– Нет, дяденька, – говорит он, – я уж в полк!
– Что ж, в полк так в полк! Коли нет призвания, так и соваться нечего. А ведь и я, душа моя, не сразу тоже в чувство пришел. С мужика с простого начал, а потом, постепенно, и губернаторов постиг. Бывало, папенька приведет мужика-то и скажет: «Софрон, учись!» Ну, и начнешь его узнавать. Ходишь около него, всякий суставчик попытаешь, все ищешь, где у него струна-то играет. Нашел струну – и ликуй, потому тут он уж и сам перед собой, словно клубок, развертываться начнет. Ты только дергай, дергай его за нитку-то, а он, что больше дергаешь, то ходчей да ходчей все развертывается. И такой вдруг понятный сделается, что даже вчуже удивительно, как это сразу ты его не постиг!
. . . . . . . . . .
И живет таким родом «палач» под сенью родительского крова, живет изо дня в день и не видит исхода своему страстному желанию оставить науку и поступить в полк. Эта мысль преследует его день и ночь. Ни рассказы дяди, ни беседы на конном дворе не могут заставить ее позабыть. Вот и каникулы подходят к концу, а он все при том же, при чем был и в начале своего приезда в деревню.
Порой он решается бежать, но куда? с чем? При всей неразвитости, он понимает непрактичность этой мысли, и потому не без удовольствия ожидает момента, когда его опять повезут в Москву, и опять очутится он в стенах «заведения». Там он, по крайней мере, увидится с «Агашкой», а это свидание возбуждает в нем какие-то смутные надежды. Что будет? – он сам еще не может определить, но что нечто, наверное, будет – в этом он не сомневается.
– Голопятов выручит! – говорит он себе и с этою сладкою мыслью засыпает в последний раз под кровлей скромного вавиловского дома.
И действительно, «Агашка» – первое лицо, с которым «палач» встречается в «заведении».
– Хмылов! меня опекун в полк отдает! – объявляет он сразу.
«Палач» бледнеет.
– Так это… верно? – спрашивает он потухшим голосом.
– Через месяц, как дважды два. А ты как?
«Палач», вместо ответа, снимает с себя куртку и показывает следы рубцов, оставшиеся на спине.
– Это… за полк! – говорит он.
«Агашка» вдруг проникается великодушием.
– Уйдем вместе! – говорит он, – вместе горе тяпали, вместе и уйдем!
– Да ведь ты… сам собою… и без того… – заикается «палач».
– Не хочу просто выходить… уйду! Или вот что: удерем, Хмылов, какую-нибудь такую штуку, чтоб нас обоих разом выгнали!
«Палач» с какою-то робкою радостью смотрит на своего друга.
– Да ты что, подлец? не веришь мне? – великодушествует «Агашка», – да я теперь ни за что без тебя из заведения не уйду!
Приятели целуются и заключают наступательный союз. Начинается целый ряд подвигов, слава которых, постепенно возрастая, наполняет наконец Москву. Родители с недоумением вопрошают друг друга, правда ли, что какие-то ученики «заведения» взяты будочником в кабаке; правда ли, что еще какие-то ученики того же «заведения» пойманы в ту минуту, как хотели взломать церковную кружку; правда ли, что еще какие-то ученики забрались ночью в квартиру женатого надзирателя Сен-Романа… В течение двух-трех недель «палач» и «Агашка» вдвоем совершили столько, что, казалось, будто в их подвигах участвовало не меньше ста человек.
Через месяц оба друга сидят уже в карцере; еще неделя – и за обоими приехали посланные от родных.
Друзья веселы и всецело поглощены ощущением испытываемого ими счастия. Они бодро проходят через рекреационную залу, мимо столпившихся товарищей, которые на этот раз даже не пускают вдогонку Хмылову «палача». Смутный говор удивления провожает их до самой швейцарской.
Вот они на пороге, вот уже и стены заведения остаются позади их. «Палач» останавливается и в каком-то неописанном волнении сжимает руку «Агашки».
– Не про-па-дем! – восторженно восклицает он, отчетливо разделяя каждый слог своей краткой речи.
– Не пропадем! – словно эхо, повторяет за ним «Агашка».








