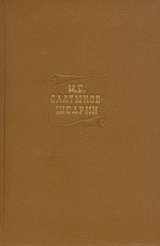
Текст книги "Том 10. Господа «ташкентцы». Дневник провинциала"
Автор книги: Михаил Салтыков-Щедрин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 61 страниц)
«Нагорнов ведет себя и учится хорошо не потому, что этого требуют уставы заведения, а потому, что ему приятноучиться и вести себя хорошо», – говорили об нем начальники и, высказывая эту истину, обнаруживали несомненную проницательность и знание человеческого сердца, не всегда начальству свойственное.
– Я, мамаша, не понимаю, как можно быть последним в классе! – на первых же порах сообщил он Анне Михайловне, – нас в классе тридцать три человека, а всегда как-то так случается, что я и по наукам, и по поведению первый!
– Это оттого, что ты слушаешься, душенька!
– Я, мамаша, не то чтобы боялся чего-нибудь, а так… приятно! Вот у нас один ученик Погорелов есть, так тот тоже все уроки знает, а все-таки никогда первымне будет! Во-первых, он сидит на задней лавке, а у нас, мамаша, кто хочет первымбыть, должен сидеть на передней лавке, чтоб его всегда видели… Потому что, согласитесь сами, мамаша, ежели бы я, например, сидел на задней лавке, мог ли бы учитель видеть, что я всегда готов отвечать?
– Само собой, мой друг.
– Или вот тот же Погорелов: ведет-ведет себя хорошо – да вдруг и нагрубит!
– Ты, душенька, с мерзавцами-то не связывайся!
– Я, мамаша, ни с кем не связываюсь, у кого баллы дурные. Потому я не знаю… мне кажется, что с ними мне не об чем говорить!
И действительно, ему не об чем было говорить с теми непослушными, вечно глядящими в лес детьми, экземпляры которых, несмотря на обшлифование, все-таки нередки в заведениях. Не то чтобы он преднамеренно обегал их, но природе его был положительно противен протест, которого они были вместилищем. «Послушание» нашло в нем себе полнейшее осуществление. Он был резв без угловатости, смирен без уныния, и притом резв и смирен именно тогда, когда это как раз сходилось с уставами заведения. Он вовсе не был произведением дрессировки, насильственным образом заставляющей пригибаться под гнетом известных требований; он представлял собой непосредственное олицетворение самого устава. Он инстинктом угадывал, когда следует быть резвым и когда следует быть смирным. В часы резвости он был даже резвее и шумливее других, но для устава это было не только не оскорбительно, но даже очень приятно. Что́ означает резвость ребенка? – она означает, что ребенок доволен собою, своими воспитателями, «заведением», всею обстановкой. Она означает, что в ребенке играет благодарное сердце, что он с спокойной совестью обращается к своему невинному вчерашнему дню и с светлым доверием взирает на свой невинный завтрашний день. Такая подкладка резвости восхитительна даже в том случае, если она выражается несколько шумно. Миша знал это и потому в назначенные для резвости часы бегал рысью, скакал галопом, кувыркался, оглашал рекреационную залу криком, и при этом никогда не приходило ему в голову скрыться из района гувернерского наблюдения. С своей стороны, и воспитатели любовались его резвостью, ибо видели, что дитя не повесничает, а резвится, и резвится – потому что оно довольно и исполнено доверия.
– Nagornoff, mon ami! vous êtes tout en nage! allons, reposons-nous, mon enfant! [316]316
Нагорнов, мой друг, вы весь в поту! пойдем отдохнем, дитя мое!
[Закрыть]– говорил ему мсьё Петанлер * , и говорил таким голосом, в котором явственно звучала нота бесконечного благожелательства к милому ребенку.
Нагорнов хватал эту ноту на лету и, прекратив кувырканье, садился невдалеке от мсьё Петанлера и делался смирным. Но не принужденье виделось в его глазах, а удовольствие, внушаемое сознанием, что его усадили именно в ту самую минуту, когда ему самому приходило на мысль, что следует сесть. Пройдет десять минут, он простынет, и мсьё Петанлер, конечно, скажет ему:
– Allons, mon ami! amuser-vous donc! Que diable! à votre âge il ne faut pas rester toujours sérieux! [317]317
Порезвитесь же, друг мой! В вашем возрасте не следует быть всегда серьезным!
[Закрыть]
И Миша опять начнет играть в веревочку, прыгать, скакать – и все от души.
Так шло «поведение» этого мальчика; так же шли и «науки». Он понимал, когда следует учиться и когда следует слушать. В часы репетиции он весь уходил в учебник, зажимал себе уши, мерно качался всем корпусом и, изредка выпрямляясь, с каким-то гордо-довольным видом произносил фразу из учебника, вроде: «раздался звук вечевого колокола – и дрогнули сердца новгородцев», или: «les Novogorodiens disaient oui, et disaient oui et perdirent leur liberté» * [318]318
Новгородцы такали, такали и лишились свободы.
[Закрыть].
– Филимонов! – обращался он к своему товарищу по лавке, – почему Карамзин сказал: «раздалсязвук вечевого колокола» и «дрогнулисердца новгородцев» * , а не «звук вечевого колокола раздался» и «сердца новгородцев дрогнули»?
– А почем я знаю! я у него в голове не был!
– Чудак! потому что так сильнее! «Раздался!», «Дрогнули» – тут натиск есть. Надо, чтобы именно эти, а не другие слова сразу поразили читателя!
И затем он опять весь уходил в учебник, зажимал себе уши и мерно покачивался всем корпусом.
Но во время классов тетрадки и книги всегда лежали перед ним закрытыми. Подобно фокуснику, производящему опыты магии на ничем не покрытом столе, он, казалось, говорил учителю: смотри! я беспомощен! ни под лавкой, ни на лавке у меня ничего нет, а попробуй-ка спросить меня! И учитель понимал это и как бы магнитом влекся к Нагорнову.
Вызывает, например, русский учитель:
– Господин Осликов! «Осел и Соловей» – какая это часть речи?
– Глагол-с.
Миша Нагорнов мгновенно весь просветляется и ест учителя глазами.
– Извольте спрягать!
– Я осел и соловей, ты осел и соловей, он…
Осликов умолкает, замечая, что учитель подставил ему ножку. Нагорнов просветляется больше и больше.
– Господин Нагорнов! объясните господину Осликову, какая часть речи «Осел и Соловей»?
– «Осел и Соловей» – это заглавие одной из самых нравоучительных басен дедушки Крылова. Это не часть речи, а соединение трех слов, из которых два: «осел», «соловей» – суть имена существительные, а третье «и» – союз.
– Садитесь, господин Нагорнов, а вы, господин Осликов…
И так далее.
Одним словом, между воспитателями и учителями, с одной стороны, и Нагорновым – с другой, образовалась непрерывная симпатия, и что́ всего важнее, образовалась совершенно естественно. Но за всем тем, Миша не подольщался и не шпионствовал, – качества, которые особенно не нравятся товарищам. Он и в этом смысле мог бы считаться образцом, потому что угадывал сущность устава не только по отношению к начальству, но и по отношению к товариществу. Он сразу поставил себя таким образом, что никто ни в чем не мог его обвинить. Всякий видел, что Миша чист, как хрусталь, что он не предумышленно хорошо ведет себя и учится, а потому что иначе вести себя и учиться не может. Часто он даже помогал ленивым и тупым, – объясняя перед классом урок, переводя заданный отрывок из «De viris illustribus» * [319]319
«О знаменитых мужах».
[Закрыть], решая математические задачи и проч., но ни подсказывать, ни иным образом фальшивить не соглашался ни за что. Он даже лавку выбрал такую, на которой сидели юноши разумные, не нуждавшиеся в подсказыванье, и был бесконечно счастлив, что может без помехи всецело предаваться почтительному и радостному услеживанию за выражением глаз и рта учителя.
– Подлец ты, Нагорнов! – брякнет от времени до времени Осликов, в устах которого слово «подлец» не имело, впрочем, никакого сознательно ругательного значения, – «Солитер» (так звали в «заведении» учителя русской грамматики по причине неимоверно длинного его роста) капкан в некотором роде человеку ставит, а тебе и горя мало. Еще радуется, выскакивает!
– Послушай, душа моя! – ответит Нагорнов, – не могу же я, наконец! Чем же я виноват, что Амплий Васильевич ко мне обращается?
И Осликов удовлетворяется этим объяснением, ибо, в сущности, сам сознает, что Нагорнову нельзя иначе и что, с другой стороны, и «Солитеру» тоже ничего иного не остается, как обратиться за разрешением вопроса не к кому другому, а к Нагорнову, у которого от природы все разрешения на лице написаны.
Когда в заведении происходили так называемые «истории», никто из товарищей никогда не мог наверное определить, участвовал ли в них Нагорнов или уклонился от участия. Скорее всего, что в такие торжественные минуты об нем совсем переставали думать. Как-то само собой разумелось, что Нагорнову тут быть не для чего, что это совсем не его дело. Тем не менее, приготовляясь к «истории», от него не скрывались и свободно развивали перед ним проекты классных возмущений, не опасаясь, что он сошпионит. И действительно, он не только не шпионил, но, заодно с другими, выносил на себе последствия «историй».
– Eh bien, Nagornoff, mon ami! nous savons parfaitement que vous n’avez pas pris part dans cette vilaine histoire! Soyez dons sincère, mon enfant! Racontez-nous, comment cela s’est passé! [320]320
Hy-c, Нагорнов, мой друг! мы превосходно знаем, что вы не принимали участия в этой нехорошей истории! Будьте же искренним, дитя мое! Расскажите нам, как это произошло!
[Закрыть]– уговаривал его мсьё Петанлер, залучив куда-нибудь в уединенную комнату.
– Pardonnez-moi, monsieur, j’ai été coupable comme les autres! [321]321
Извините, мсьё, я виновен, как и другие!
[Закрыть]– отвечал Миша, то краснея, то бледнея под гнетом насилия, которое он должен был сделать над собой, чтобы наклеветать самому на себя.
– Vous mentez, mon ami, vous qui ne mentez jamais! Prenez garde, cher enfant! n’entrez pas dans cette voie pernicieuse qui a déjà gâté la carrière de maint jeune homme! [322]322
Вы лжете, мой друг, вы, который никогда не лжет! Берегитесь, дорогое дитя! Не вступайте на этот гибельный путь, который испортил карьеру многих молодых людей!
[Закрыть]
– Je vous assure, monsieur, que je ne mens pas! [323]323
Уверяю вас, мсьё, что я не лгу!
[Закрыть]
Нагорнова отпускали, но он явственно слышал, как мсьё Петанлер, хотя и ничего от него не добившись, все-таки вслед ему говорил: va, généreux jeune homme! [324]324
иди, благородный молодой человек!
[Закрыть]
Таким образом, даже самые «преступления» не только не пятнали его, но даже служили на пользу, сообщая ему, в понятиях начальства, оттенок чего-то рыцарского.
– Так как я не могу верить, чтобы воспитанник Нагорнов участвовал в вашей недостойной шалости, то, лишая весь класс отпуска в следующее воскресенье, я для господина Нагорнова делаю исключение! – сказал однажды инспектор, после одной из подобных историй.
Но Нагорнов твердою стопой вышел из рядов и решительно произнес:
– Позвольте и мне разделить участь моих товарищей!
Инспектор ласково взглянул на него, потрепал по щеке и,
прошептав: «Toujours le même! toujours bon et généreux!» [325]325
Все такой же! все такой же добрый и благородный!
[Закрыть]– проследовал в свои апартаменты.
Просьба первогоученика была удовлетворена, и он разделил участь своих товарищей.
Анну Михайловну такие истории всегда приводили в волнение. Во-первых, они лишали ее случая видеть Мишу в воскресенье дома, и во-вторых, она, как женщина, постоянно трепетала, как бы Миша как-нибудь в солдаты не угодил.
– Какие-нибудь негодяи, мерзавцы кашу заварят, – жаловалась она, – а наш терпи! Их домой не пускают – и нашего не пускают! их в солдаты – и нашего в солдаты!
Но защитником Миши в этих случаях являлся сам Семен Прокофьич.
– Что касается до солдатов, то ты это чересчур хватила, – говорил он, – а относительно товарищества вот что́ скажу: товарищей тоже выдавать не следует. Почем знать, кто чем в будущем сделается? Может, прохвостом, а может, и с неба звезды хватать станет! Ты его теперь выдашь, а он в свое время тебе припомнит: а помнишь ли, скажет, любезный друг, как я перед учителем дубина дубиной стоял, а ты в ту пору надо мной фривольничал? Так-то вот.
– Все же таки…
– И все-таки ничего. Без ума головорезничать наш Михайло Семеныч не станет – не таков он у нас, – а держаться около товарищей полезно и нужно, – это я всегда скажу. Нынче такое время, что не знаешь, с кем говоришь и к кому завтра под начало попадешь. Уж я на что старик – и то берегусь. Сегодня онпо тротуару гремит, а завтра онначальником над тобой будет. Ты емусегодня, покуда он по тротуару гремит, сгрубил, а завтра онтебя в бараний рог согнет… Вот тут и угадывай!
Соображения эти несколько успокоивали Анну Михайловну, и едва успевали отобедать, как она уже летела в «заведение», завернув в салфетку пирог с сигом, до которого в эти дни, разумеется, никто не дотрогивался. И умиление ее возрастало до крайних пределов, когда сам Петанлер, узнав о ее приезде, подходил к ней и говорил:
– Ваш сын, сударыня, – это утешение родителей, слава заведения и гордость товарищей!
Судебная реформа * произвела в «заведении» необыкновенное, почти отуманивающее действие, особливо с той минуты, когда на деле последовало открытие новых судов, и ученики увидели их лицом к лицу. Витии гремели, присяжные заседатели глядели беспомощно и метались словно в предсмертной агонии; судьи старались казаться бесстрастными. В публике ходили слухи о каких-то баснословных кушах * , о каких-то компаниях, составляющихся с целью наипоспешнейшего ободрания клиентов. Говорили, что из Москвы нарочно приезжал какой-то грек * и предлагал разостлать по всей России такую паутину, чтобы ни один клиент не мог миновать ее, а раз попавшись, не мог бы из нее выпутаться.
– Позвольте, однако ж, – спорили в публике, – ежели всех клиентов сразу умертвить, – что ж останется в будущем?! Ведь это значит подрывать будущее!
– Какое там еще будущее! – отвечали спорщикам, – во-первых, клиент бессмертен: сегодня умерщвлен один, завтра народится другой; во-вторых, ежели переведется клиент, разве нельзя фабрикацией гороховой колбасы заняться или по железнодорожной части куски рвать? Тут, батюшка, каждая минута дорога!
Повествовали, что такой-то взял с клиента тридцать процентов, такой-то уготовал себе место председателя конкурса * с фельдмаршальским жалованьем, так что все доходы с имения несостоятельного должника должны будут пойти на удовлетворение расходов по конкурсу…
Но суды открывались постепенно, потому что «людей не было»; адвокатские ряды пополнялись тоже медленно, тоже потому, что «людей не было». До тех пор были только звери, а теперь понадобились люди.Но для людей,если таковые находились, ворота были отворены настежь; будь только человеком– и можешь быть обнадежен,
Что под каждым здесь листом
Ты найдешь и стол и дом… *
Карьера! Это слово спирало в зобу дыхание. * Прежде карьера была вещь относительно трудная, достижимая только для некоторых, «особливою знатностью отличающихся людей». Худородный человек должен был употребить неимоверные усилия, чтобы добраться до пирога. Сколько нужно было съесть грязи! сколько перецеловать плечиков! сколько поставить банок к пояснице, наболевшей и словно помертвевшей под гнетом ожиданий в приемных, передних и канцеляриях! Алчущий пирога, предварительно допущения к нему, должен был проглотить шпагу, съесть раскаленный железный орех, запить стаканом дегтя и т. д. Теперь – пирог стоял ничем не защищенный, при открытых дверях, и всех приглашал насладиться. «Вси приидите! вси насладитесь! Всякий да яст!» И тот, кто пришел в шестом часу, и тот, кто пришел в девятом часу! Лишь бы был человек!Жри!
Человек! Но где же клеймо, с помощью которого можно было бы отличить человека от тысячеглавого змия? На первых порах многие затруднялись этим вопросом и вследствие того робели рекомендоваться в качестве людей.Но вскоре одумались и начали действовать вольным духом. В самом деле, кто же тот юродивый простец, который, облизываясь на пирог, скажет о себе: хотелось бы мне отведать сего пирога, но, к сожалению, я не человек!Не правильнее ли предположить, что даже тот, кто воистину не человек, скорее скроет это печальное обстоятельство, нежели публично поведает об нем, добровольно воздерживаясь от пирога? В древние времена юродивым было довольно трудно скрыть свое юродство, ибо тогда люди ходили с лампадами: погаснет лампада, навоняет – значит, нет тебе царства небесного. Нынче и тут облегчение: юродивый без лампады ходит и, следовательно, имеет возможность напакостить с гору, прежде нежели наполнит вселенную зловонием…
Таким образом, людинашлись…
И что за карьера предстояла им! С одной стороны – лестная обязанность защищать общество * от поползновений преступной воли, обязанность, сопровождаемая прекраснейшим содержанием и надеждами на блестящее будущее, в случае оправдания начальственного доверия. С другой – лестная обязанность ограждать невинного * , защищать попранное право собственности, – обязанность, сопровождаемая тысячными кушами, пением, танцами, увеселительными прогулками с Деверией, Шнейдершей, а, пожалуй, хоть и с целым персоналом любого кафешантана…
– Ты что получил за такое-то дело?
– Да что! всего пять тысяч! не стоило руки марать!
– А я через год думаю лавочку закрыть! Наработаю тысяч двести – триста – и на боковую!
Такого рода разговоры слышались везде, да других (по крайней мере, в течение первого, горячего времени) и не было… Рестораны переполнены; шампанское льется рекой; облитые по́том татары бегают, * не слыша под собою ног; ассигнации мелькают в воздухе, как мухи в жаркий летний день… Кто сии ликующие, стремящиеся затмить своим ликованием ликование железнодорожных деятелей? Это они, это вчерашние рыбари * , это сегодняшние ловкачи-ташкентцы, отведывающие отечественного пирога!
Специалисты по части убийств, специалисты по части личных оскорблений и купеческих самодурств, специалисты по части скопчества, специалисты по части бракоразводных дел – все посыпалось словно из рога изобилия. Пальты, сапоги, саквояжи, ситцы, люстрины… пожалуйте, господин! к нам пожалуйте!
Жрать!!!
Рубль, выглядывающий из кармана ближнего-простеца, мешает спать. «Зачем тебе, простофиля, рубль? зачем ты зажал его в руке? – разожми! Я возьму этот рубль, зажгу его на свечке и закурю им сигару!»
Дальше рубля взор ничего не видит. Ни общего смысла жизни, ни смысла общечеловеческих поступков, ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Все сосредоточилось, замкнулось, заклепалось в одном слове: жрать!
Естественно, что этот неистовый клич, немолчно раздававшийся по стогнам города, не мог не взволновать воображения птенцов «заведения». В этом кличе открывалась своего рода система, новый круг, в котором им суждено было вертеться, и они ринулись туда с головой. Птенец, у которого вчера другой мысли не было, кроме: «раздался звук вечевого колокола», сегодня, пользуясь праздничным днем, уже намечает на Невском чистокровный рыжий экземпляр, и не без уверенности говорит себе: «моя!» Слыша, что́ происходит в мире больших, каждый птенец сознаёт себя человеком,ибо каждый понимает, что в нем имеется достаточный запас юркости и способности, чтобы вместе с другими кричать: лови! не задерживай талии * ! следующий! следующий!
Но если «птенцы» были взбудоражены, то родители, в свою очередь, от полноты чувств могли только произносить: ах! Они смотрели на своих подростков, представляли себе, что́ ждет их в будущем, и говорили: ах! Они шли по Невскому, встречались с камелией * , и их осеняла мысль, что, может быть, через год эта самая камелия (увы! нынче родители уже и об этих детских удобствах пекутся!)… ах! Проходя мимо Елисеева, Дюссо, Бореля, они восклицали: ах! Даже на художественную выставку смотрели какими-то плотоядными, завидущими глазами… Только бы поскорее, только бы курс кончить, а что все эти Елисеевы, Борели, кокотки, художники будут в нашихруках – в этом нет сомнения! За это ручается врожденная юркость «птенцов», их способность кричать всегда и при всяком случае: лови! не задерживай!
Подобно другим, Миша Нагорнов ходит как отуманенный. Он ропщет на бога и на людей за то, что ему еще два года предстоит маяться в «заведении». Он чувствует себя уже готовым, то есть настолько же юрким, как X. или Z., давно уже приобревшие себе титул «ловкачей». Он даже пробовал однажды свои силы: переоделся в штатское платье и под именем «аблаката» Иванова явился в камеру мирового судьи защищать дело «о излишне затребованном за котлету четвертаке».
– И защитил! – говорил он, весь пылая, собравшимся вокруг него товарищам, – ах, господа! вы представить себе не можете, какое это чувство!
В «заведении», вместо баров, игры в веревочку и пятнашки, завелась игра в суды * . Явились судьи, прокуроры, адвокаты. Присяжные заседатели избирались из учеников младшего класса на том основании, что они, как дети, должны были сохранить совесть во всей неприкосновенности. Обвинялся обыкновенно ленивейший из учеников, Осликов, на том основании, что ему, как неспособному и притом сыну очень бедных родителей, не предстоит в будущем никакой блестящей карьеры, а следовательно, и готовиться не к чему, кроме скамьи обвиняемых. Обвиняли его в самых разнообразных преступлениях, так что если б сложить их все вместе и показать ему эту массу злодейств в яркой картине, то даже он, несмотря на свою непонятливость, понял бы и пришел бы в ужас от неключимости * содеянного им.
Едва пробил звонок, возвещающий рекреацию, как уже ученики бегут в зал и торопливо садятся по местам. Слышится сдержанный говор; Осликов уже засел на скамью подсудимых и окидывает товарищей безучастным взглядом; защитник Тонкачев вбегает запыхавшись, как будто сейчас только перехватил в буфетной, и наскоро перелистовывает бумаги. Он изредка обращается к Осликову и шепчет ему, настолько, однако ж, громко, что передние ряды публики слышат: смотри же, болван, показывай, как я учил. Я тут за тебя распинаться буду, а ты, пожалуй, сдуру брякнешь!.. По другую сторону залы сидит обвинитель Нагорнов, которого открытая физиономия блещет сладкою уверенностью, что вот-вот сейчас этого самого Осликова он без масла проглотит. Суд намеренно мешкает. Присяжные заседатели вздыхают и рассуждают о том, нельзя ли как-нибудь отпроситься. Наконец влетает судебный пристав (тоже из ленивых) и возглашает: суд идет! Все встают и молча ожидают, покуда судьи усядутся.
Некоторое время судьи шепчутся. Они понимают, что судьям необходимо совещаться, хотя бы они сейчас только вышли из совещательной комнаты. Судья потому и судья, что он никогда не может всего предвидеть, и потому всегда должен совещаться. Наконец шептанье оканчивается; председатель, ученик старшего класса Кнабенвурст, вынимает бумажки с именами присяжных. Он делает это так опрятно, как будто показывает фокусы. «Смотрите, господа! – так, кажется, и говорит он, – вот полтинник, но вы можете быть уверены, что, покуда он находится в этих руках, он никогда не превратится ни в полуимпериал, ни даже в целковый!» Присяжные заседатели выбраны и начинают отлынивать.
– Помилуйте, ваше превосходительство, я сижу в мелочной лавочке – кто же теперича за меня сидеть будет! – отговаривается один.
– Я даже не понимаю, каким образом позволили себе привлечь меня… я в государственной службе состою! – удивляется другой.
– Я и по домашности-то моей даже самого простого обстоятельства рассудить не могу! – оправдывается третий.
Суд шепчется и оставляет все отговорки без последствий. Заседатели вздыхают и, понурив головы, садятся на лавке вблизи прокурора. Один из них немедленно притворяется спящим.
На сей раз Осликов является в роли отставного солдата Дорофеева и обвиняется в краже со взломом. Но он ни в чем не сознается.
– Ничего я этого, ваше превосходительство, не знаю. Я человек слабый, пьяный! – говорит он.
– Расскажите же нам, как все это было! – настаивает тем не менее председатель.
Защитник Тонкачев вскакивает как ужаленный.
– Ввиду такой-то статьи такого-то тома и такой-то статьи таких-то правил, запрещающих домогаться от обвиняемого признания, – говорит он, – я требую, чтобы мое заявление было записано в протокол.
Суд снова шепчется.
– Ввиду сейчас приведенных защитником законов, – говорит наконец председатель, – подсудимый! вы можете не сознаваться! Это ваше право! Защитник! настаиваете ли вы на том, чтобы ваше заявление было записано в протокол?
Защитник расшаркивается и говорит, что данным подсудимому правом не сознаваться он удовлетворен даже превыше своих желаний. Он видит теперь, что перед ним действительно суд скорый, милостивый и правый… *
– Приступим же к выслушанию свидетелей.
Показания свидетелей отличаются сбивчивостью и неопределенностью. Потерпевшая сторона, содержатель ночлежной, Савелий Потапов, не может утвердительно сказать, точно ли найденный у Дорофеева грош принадлежал ему, Потапову.
– Мой будто зубом покусан был, а этот новый, – говорит он.
Прокурор вскакивает и пронизывает Потапова взором.
– Так вы точно помните, что у вас накануне грош был?
– Да, это точно… был! Был грош – это верно.
– Этого для меня достаточно-с!
Прокурор что-то отмечает карандашом на бумаге; защитник, в свою очередь, нечто записывает.
Другой свидетель показывает:
– Это точно, что он возле меня на нарах лежал…
– Так вы точно помните, что он лежал? Это не показалось вам? вы подтверждаете это и теперь? – допекает прокурор.
– Лежал – это верно! Рядом легли – рядом и встали!
– Этого для меня совершенно достаточно!
– Если для обвинителя этого достаточно, то для меня… – встает с своего места защитник, но председатель прерывает его, говоря, что он в свое время может сказать все, что находит нужным в защиту подсудимого.
– Я прошу занести в протокол мое заявление, что защита не свободна! – настаивает Тонкачев.
Председатель шепчется и объявляет, что защита может, если желает, сделать нужное, по ее мнению, замечание.
Тонкачев встает, расшаркивается и заявляет, что он отлагает замечание до произнесения защитительной речи. Тем не менее он считает своим долгом с гордостью заявить, что видит перед собой суд скорый, милостивый и правый, который наверное отнесется к его несчастному клиенту с тою же гуманностью, с какою относился и к его собственным заявлениям…
Наконец перекрестный допрос кончился. Слово за прокурором. Миша Нагорнов несколько бледен, но глаза его так и пронизывают. Голос его сначала дрожит, но потом постепенно делается тверже и тверже, и под конец начинает словно отчеканивать.
«Господа судьи! господа присяжные заседатели! – говорит он. – Пятнадцатого июня, на Сенной площади, совершилось преступление, не яркое по своему внешнему выражению, но яркое по своей сущности; преступление, доказывающее с очевидностью, до какой степени недостаточны и слабы в нашем обществе понятия о праве собственности. Я не стану, господа присяжные, доказывать вам, как необходимо, чтобы в обществе существовали твердые понятия о собственности; вы сами принадлежите к почетному сословию собственников и лучше меня можете понять, какие важные последствия сопряжены для общества и для вас с сохранением этой твердыни, на которой зиждется благополучие государств и народов. Криминалисты на счет этот единогласны: общество, не признающее собственности, – говорят они, – подобно стаду диких зверей, из которых каждый стремится растерзать другого. Этого, я полагаю, совершенно достаточно, чтобы помочь вам встать на ту высоту, на которой следует стоять при обсуждении предстоящего нам дела. Итак, в июне 18** года, на Сенной площади, здесь в Санкт-Петербурге, так сказать, в центре промышленного движения, почти под глазами полицейского надзора, совершено дерзкое преступление. В ночь этого числа, в одну из ночлежных квартир, которыми изобилует эта мрачная местность, пришел ночевать отставной солдат Дорофеев, а на другой день утром, когда хозяин квартиры, Савелий Потапов, проснулся и, по своему обыкновению, пошел в сундук, то сундук этот оказался роспертым, замок у сундука сломанным, пробой сорванным. При этом считаю долгом обратить ваше внимание, господа присяжные, на следующее обстоятельство, к которому я впоследствии обращусь. Обстоятельство это заключается в том, что до того времени Дорофеев почти каждый день посещал ночлежную Потапова, но дней за пять поссорился с хозяином и до пятнадцатого числа ночевать к нему не ходил.
Такова, милостивые государи, фабула преступления. Спустимся же с факелом правосудия в дебри преступления и постараемся осветить их. Но прежде чем идти далее, я должен объяснить вам, господа присяжные, значение так называемых косвенных улик.
Что такое косвенная улика? Это такой признак преступления, который хотя сам по себе не имеет никакого значения, но, будучи сопоставлен с другими, тоже не имеющими собственного значения, признаками, будучи рассматриваем, так сказать, в связи с целым рядом такого же рода признаков, составляет совершеннейшее доказательство. Предположим, например, что в городе совершено убийство. Убит Z., которого видели, как он вчера в таком-то часу вечера выходил из кабака вместе с X., и о котором с тех пор никто ничего не слыхал. Вот это-то обстоятельство, что X. вышел из кабака вместе с Z., и есть первое звено в цепи косвенных улик, которыми впоследствии поражен будет X. Взятое отдельно, оно, конечно, ничего не значит. X. мог выйти вместе с Z. из дверей кабака, но, пройдя по улице несколько шагов, они могли разойтись в разные стороны – совершенно исключить такого рода возможность нельзя. Но тут начинается ряд последующих улик. Во-первых, у X. найдена на руке царапина. И эта улика, конечно, сама по себе недостаточна, ибо X. мог оцарапать руку случайно, ему могла оцарапать ее кошка и так далее. Но вот является вторая улика: на ногах у X. найдены сапоги убитого, которые были на последнем в то время, когда его видели в кабаке; это уже значительная прибавка к сумме улик, хотя сама по себе и она все-таки ничего не значит. Мало ли каким образом мог приобрести X. сапоги Z.? Он мог купить их, мог поменяться с ним, мог, наконец, выпросить! Все это далеко не невозможно. Но здесь на помощь является третья улика: X. не может объяснить употребление своего времени между моментом выхода вместе с Z. из кабака и моментом, когда Z. найден мертвым на улице. Вы скажете, что и этот факт не имеет решительного значения; вы скажете, что X., под влиянием винных паров, мог забыть, где он был, что он мог забыть это по рассеянности, что он, может быть, провел это время в предосудительном месте и ему не хочется в том сознаться? Я первый со всем этим согласен, господа присяжные, но потому-то и убеждаю вас: обращайте внимание не на каждую косвенную улику в отдельности, а на их совокупность. Совокупность – это уже не отдельная какая-нибудь улика, но целая, так сказать, совокупность, или, другими словами, ряд улик, взаимно друг друга проверяющих и подтверждающих!
Совокупность – это единственное орудие, которое имеет правосудие для борьбы с злом! Зло уклончиво и лукаво, господа присяжные; оно совершает свои деяния в темноте ночи; оно окутывает их мраком, составляет для них искусственную обстановку, обманывает, заметает следы! Но здесь-то именно и настигает его недремлющее око правосудия! Ежели ты тамне был, то где же ты был? ежели ты не помнишь, где был, то почему у тебя на руке царапина? Каким образом очутились на твоих ногах чужие сапоги? И так далее, и так далее – покуда, наконец, из всех этих мелких и, по-видимому, ничтожных признаков не образуется совершеннейшеедоказательство!
Вот этою-то «совокупностью улик» и намерен воспользоваться я относительно лица, сидящего пред вами на скамье обвиненных.
Первая косвенная улика – это самый сундук, который был вам предъявлен. Он носит на себе все признаки взлома, и, конечно, сам подсудимый не будет столь смел, чтоб утверждать, что он в таком виде вышел из рук творца.








