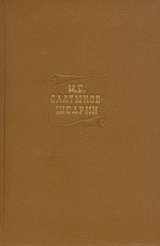
Текст книги "Том 10. Господа «ташкентцы». Дневник провинциала"
Автор книги: Михаил Салтыков-Щедрин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 39 (всего у книги 61 страниц)
Существует мнение, что эти люди уже по тому одному порочны, что находятся в лагере духовной нищеты. Нечего и говорить, что я не разделяю этого мнения. Напротив того, я убежден, что многие из этих людей обладают очень крупными достоинствами и даже оказывали несомненные услуги делу человечества. Описание добродетелей их не только было бы любопытно, но могло бы представить и весьма эффектную картину. Но скажите на милость, каким образом я приступлю к воспроизведению типов этих людей, когда в моем распоряжении находятся толькодобродетели их и когда я буквально не имею в своем свободном распоряжении ни одного материала, на основании которого мог бы хотя одним словом заикнуться об их слабостях, а тем менее о пороках? Ведь в художественном смысле это будет уж не картина, а светлое пятно, точно так же как будет не картина, а темное пятно в том случае, когда я приступлю к воспроизведению типов «новых людей», придерживаясь лишь безапелляционных суждений, которые сложились об них в обществе!
Я знаю многих очень достойных людей из разряда «торжествующих». Эти люди в свое время были носителями очень почтенных идеалов и стремились к осуществлению их со всем пылом самоотверженности, рискуя даже потерять столоначальнические места, которые они в то время занимали. Само собой разумеется, теперь, когда карьера их уже сделана, мне ничего не стоило бы посвятить перо мое воспроизведению их добродетелей. Но вот – в то самое время, как перо мое готово размахнуться и подписать одобрительный аттестат такому-то «орденов кавалеру», – является, словно на смех, художественное чутье и подсказывает мне: а ведь «кавалер-то» твой не без изъянцев! А следом за тем встревоженное воображение начинает рисовать и целый ряд этих изъянов. Изъян первый: как ни самоотверженно вели себя «кавалеры», но они всегда как-то ухитрялись, что приурочивали свою самоотверженность к «новым местам», или, учтивее сказать, всегда случалось, что из их самоотверженности вытекали новые места. Изъян второй: хотя период самоотверженности для них несомненно миновался, но они настолько злопамятны, что и доселе не могут об нем позабыть. А потому не понимают: 1) что почва, на которой они когда-то стояли, давно изменилась; 2) что речи, которыми они призывали к движению, сделались общим местом; 3) что цели, осуществление которых они считали заветной мечтой жизни, остались позади и заменены другими, хотя и составляющими естественное их продолжение, но все-таки имеющими некоторую от них отличку. Изъян третий: постоянно находясь под игом воспоминаний о периоде самоотверженности, они чувствуют себя до того задавленными и оскорбленными при виде чего-либо нового, не по их инициативе измышленного, что нет, кажется, во всем их нравственном существе живого места, которое не ныло бы от уязвленного самолюбия. Изъян четвертый: чувствуя себя уязвленными, они уже не могут спокойно смотреть на проходящие перед их глазами новые явления и нередко руководствуются в отношении к последним не совсем хорошим чувством мести.
Конечно, я гоню прочь все эти непрошеные подсказыванья встревоженной мысли, я призываю на помощь всю мою решимость, чтоб как-нибудь обойти их, но что же мне делать с художественным чутьем, которое не хочет знать ни сплошь добродетельных, ни сплошь порочных людей? Как заставить его замолчать, когда оно совершенно ясно доказывает, что всякая картина, чтоб быть правдоподобною, должна допустить сочетание света и теней? Что буду я делать с этими «кавалерами», которых фигуры производят на человеческий ум то же удручающее впечатление, которое производит на зрение ослепительный солнечный луч?
Таким образом, оказывается, что все стоящее до известной степени выше ординарного уровня жизни, все представляющее собой выражение идеала в каком бы то ни было смысле: в смысле ли будущего или в смысле прошедшего – все это становится заповедною областью, недоступною ни для воздействия публицистики, ни для художественного воспроизведения * .
Средний человек, человек стадный, вырванный из толпы, * – вот достояние современной беллетристики. Взятый сам по себе, со стороны своего внутреннего содержания, этот тип не весьма выразителен, а в смысле художественного произведения даже груб и не интересен; но он представляет интерес в том отношении, что служит наивернейшим олицетворением известного положения вещей. Он представитель той безразличной, малочувствительной к высшим общественным интересам массы, которая во всякое время готова даром отдать свои права первородства * , но которая ни за что не поступится ни одной ложкой чечевичной похлебки, составляющей ее насущный хлеб. Кроме этой похлебки, она ничего не знает, и, уж конечно, тот потратил бы даром время, кто предпринял бы труд вразумить ее, что между правом первородства и чечевичною похлебкой существует известная связь, которая скорее последнюю ставит в зависимость от первого, нежели первое от последней.
Как выразители общей физиономии жизни, эти люди неоцененны, и человек, желающий уяснить себе эту физиономию, должен обращать взоры вовсе не на тех всуе труждающихся * , которые идут напролом, и не на тех ловких людей, которые из жизни делают сложную каверзу, с тем, чтобы, в видах личных интересов, запутывать и распутывать ее узлы, а именно на тех «стадных» людей, которые своими массами гнетут всякое самостоятельное проявление человеческой мысли. В этом случае самая «стадность» не производит ущерба художественному воспроизведению; нет нужды, что эти люди чересчур похожи друг на друга, что они руководятся одними и теми же побуждениями, а потому имеют одну или почти одну и ту же складку, и что все это, вместе взятое, устраняет всякую идею о разнообразии типов: ведь здесь идет речь собственно не о типах, а о положении минуты, которое выступает тем ярче, чем единодушнее высказывается относительно его лагерь, видящий в чечевичной похлебке осуществление своих идеалов.
Я не думаю, чтоб читатель мог индифферентно относиться к общему тону жизни, хотя бы уровень ее стоял и не весьма высоко. Я согласен, что действительность, которая содержанием своим напоминает сказку о белом и буром бычке, способна возбуждать скорее скуку, нежели желание познакомиться с нею; но знать ее все-таки необходимо, потому что без этого знания невозможна самая жизнь. Возьмите самого самоотверженного человека * , такого, идеалы которого прямо идут вразрез с содержанием настоящего, – и об нем нельзя сказать, чтоб он был властенрасположить свою жизнь вполне согласно с своими идеалами. И его мы знаем не в состоянии спокойного обладания идеалами, а в состоянии борьбы, в которой начало возбуждающее, полемическое очень часто принимает преобладающую роль перед началом положительным, догматическим. Против кого предпринимается эта полемическая борьба в ущерб прозелитизму, имеющему в виду достижение положительных результатов? Против того ли «ветхого человека» * , который, ради своих личных интересов, стремится остановить развитие жизни? – Да, с первого взгляда, конечно, кажется, что все стрелы борьбы направлены исключительно в эту сторону. Но борьба была бы слишком легка и равнялась бы единоборству, если б это было так в действительности. На деле, между двумя борющимися сторонами, есть третий член, играющий роль проводника. Через этот проводник проходят все стрелы, и смотря по его свойствам, а равно и смотря по умению пользоваться этими свойствами, они для одной борющейся стороны делаются более, а для другой менее удручающими. Прокопы, Нескладины и проч. именно и составляют этот проводник, и с ним-то я и желал познакомить моего читателя. Не для того познакомить, чтоб он любовался их физиономиями, а для того, чтобы, познав их, он получил возможность сделать для себя более ясным положение минуты.
С такой точки зрения смотрел я на свою задачу, и этот же самый взгляд позволяю себе рекомендовать и моему читателю. Я чужд был всяких претензий возводить в тип кого-либо из моих героев; я знаю, что в каждом из них найдется довольно много противоречий, которые, быть может, дадут место некоторым недоразумениям. Но я прошу читателя видеть в действующих в моем «Дневнике» лицах нечто второстепенное, несущественное, около чего лепится главное и существенное: рассказ о положении минуты и общих тонах современной русской жизни.
Какого же рода итоги можно вывести из сделанного мною беглого обзора положения минуты? Не знаю, согласится ли со мною читатель, но желал бы, чтоб он, вместе со мной, пришел к нижеследующему:
Первый итог – это живучесть идеалов недавно упраздненного прошлого.
Уничтожение крепостного права, сделавшись совершившимся фактом, открыло перед нами новые перспективы, и была одна минута, когда едва ли нашелся бы хоть один член русской интеллигенции, который не сознавал бы для себя ясными (или, по крайней мере, не притворился бы ясно сознающим) все логические последствия этого факта. Либерализм был в ходу и давал тон жизни. Большинство выражало этот либерализм тем, что стыдилось и каялось, меньшинство – тем, что прощало и забывало прошлое (оставляя, впрочем, за собой право, – по временам поддразнивать покаявшихся). То было время образцовых мировых посредников * , которые прежде всего указывали на возвышенный характер лежащих на них обязанностей и только вскользь упоминали о присвоенном этой должности содержании. То было время, когда и покаявшиеся и простившие слились в одних общих объятиях, причем первые, в знак возвращения к лучшим чувствам, сделали на двугривенный уступок и, очистив себя этим путем от скверны прошлого, получили даровые билеты на вход в святилище нового дела. То было время, когда одиноко раздававшиеся голоса Н. Безобразова и Г. Б. Бланка * вызывали улыбку сожаления и когда сомнения в живучести русского либерализма встречались с ожесточением и ненавистью.
Но сомнения прорывались уже и тогда. И тогда были люди, которые подозревали, что столь порывистый переход от беззаветного людоедства к не менее беззаветному либерализму представляется не совсем естественным. «Посмотрите! – говорили эти сомневающиеся, – Петр Иваныч Дракин-то! еще вчера стриг девкам косы и присутствовал на конюшне при исправлении людей на теле, а сегодня, словно в баню сходил, – всю старую шкуру с себя смыл! Только и слов на языке: «Слава богу, и мы наконец освободились от этого постыдного, ненавистного права стричь девкам косы и наказывать на конюшне людей!» И точно: стоило только вглядеться в Дракина, чтоб убедиться, что тут есть что-то неладное. Весь он вчерашний, и сам вчерашний, и халат у него вчерашний, и вчерашняя у него невежественность, соединенная с вчерашнею же непредусмотрительностью, – только язык он себе новый привесил, и болтает этот язык какую-то новую фразу, одну только фразу, из которой нельзя видеть ни того, что̀ ей предшествовало, ни того, что будет дальше. Самая изолированность этой фразы, ее частое, буквальное, автоматическое повторение уже должны были навести на мысль, что либеральничать так отчетливо и притом так одноформенно может только такой человек, который, несомненно, находится под гнетом временного ошеломления.
Но многие примечали, сверх того, что Петра Иваныча по временам как будто передергивает. Что он, хотя и повторит раз десяток кряду: «Наконец мы освободились!» – но вдруг ни с того ни с сего возьмет да и завертится на одном месте, словно ему душно сделается. Что он под шумок что-то подстраивает и округляет: там переселеньице на вертячие пески устроит, в другом месте коноплянички или капустнички оттянет, будто как испокон веку так владел. И затем, покружившись на месте, устроив переселенье и оттягав коноплянички, опять начинает: «Наконец освободились и мы!»
Указывая на эти признаки, маловеры говорили: смотрите! прошедшее этих людей слишком свежо, чтоб они могли разом от него отказаться! Настоящее пришло к ним внезапно; они отмахивались от него, сколько могли, и ежели не в силах были вполне отмахаться, то потому только, что история не дала им устойчивости, а школа приготовила не к серьезному воззрению на жизнь, а к дешевому пользованию ею. Эти люди не только не в состоянии видеть естественные последствия какого бы то ни было факта, но могут лишь скомкать самый конкретный факт и намеренно или ненамеренно довести его до бесплодия…
Признаюсь, однако ж, я не принадлежал к числу этих маловеров. Я помню, я все кричал: шибче! накаливай! Ну, миленькие, еще! еще! еще чуточку! Подобно большинству тогдашних новоявленных либералов, я простирал Петру Иванычу Дракину объятия и говорил: Петр Иваныч! еще вчера ты был весь в навозе, а нынче, смотри, какой ты стал чистенький! Да и мудрено было поступать иначе. В то время и жилось светло, и дышалось легко. Стоило сходить в мировой съезд, чтоб почувствовать, как в груди начинает саднить и по жилам катится какая-то горячая, совсем новая кровь. И я не только сердился на маловеров, но даже с полною откровенностью предлагал им вопрос: что вам еще надобно! Даже и теперь, вспоминая об этом времени, я чувствую, как меня саднит и теплота разливается во всем моем существе, и мне кажется, что если б можно было – о, если б было можно! – остановить часовую стрелку на той самой минуте, когда Петр Иваныч впервые сказал: «Наконец и мы освободились!» – как было бы это хорошо!
Да; это было бы хорошо даже в том случае, если б Петр Иваныч сказал эту фразу не своим, а чужим языком. Что нам за дело до его внутреннего чувства, если он не может применить его на практике! Пусть чувствует себе, как хочет и что хочет, а мы, несмотря на его чувства, будем идти далее полегоньку вперед. Было, положим, без пяти минут восемь, когда он в первый раз произнес: «Наконец-то освободились и мы» – и пусть бы остались эти без пяти минут восемь неподвижно и навсегда. Пусть время шло бы себе, а Петр Иваныч пусть поглядывал бы на часы и все бы думал: успею еще напакостить! ведь всего без пяти минут восемь! Но в том-то и дело, что мы впопыхах забыли остановить маятник, а он, покачиваясь да покачиваясь, и навел Петра Иваныча на мысль: а ведь времени-то, однако ж, довольно ушло!
Благодаря нашей оплошности, эта мысль была для него целым откровением. И он ухватился за нее цепко и горячо, да, пожалуй, и не мог не ухватиться, потому что, говоря по совести, ведь в крепостном праве Петр Иваныч потерял свою Эвридику * . Он потерял ее в ту самую пору, когда чувствовал себя в полном соку, когда ни один физикат * в целом мире не нашел бы в нем ни малейшей погрешности, которая бы свидетельствовала о его несостоятельности. Мог ли он позабыть это! И вот, как только он убедился, что время не остановило течения своего, он тотчас же, подобно Орфею, бросился отыскивать свою Эвридику и в преисподнюю, и на Олимп. И долгое время пел он свои чарующие песни, пел их и посреди истопников аида, и в передних небожителей, покуда наконец допелся-таки своего…
Мы, новоявленные либералы того времени, вдвойне виноваты в успехе Петра Иваныча. Вместо того чтоб кричать: шибче! наяривай! и неистовым криком своим приводить в ужас вселенную, нам надлежало: во-первых, как сказано выше, остановить часы и, во-вторых, припасти для Петра Иваныча новую Эвридику. Он малый покладистый, и художественные его требования в этом смысле очень умеренны. Была бы Эвридика, а там, вышла ли она рылом или не вышла, – это для него несущественно. Надобно было, стало быть, приискав для него новую и не очень дорогую Эвридику, поместить их обоих в безопасном месте, а затем, смотря по обстоятельствам, прикидывать кой-какие безделушки, чтоб не разогорчить старика вконец. И зажил бы себе наш Петр Иваныч на славу, в полном удовольствии от новой Эвридики и позабыв о старой, и жил бы таким образом до той минуты, когда, одряхлев и обессилев, сам пришел бы к заключению, что ему не об Эвридиках думать надлежит, а о спасении души.
Но мы предоставили Дракина самому себе и потому не должны удивляться, что, отыскивая утраченную Эвридику, он пошел не новым путем (сами-то мы, либералы, знаем ли, какой этот новый путь?), а тем, который искони топтали его ноги. Нельзя отказать человеку в праве отстаивать себя; напротив того, должно всегда ожидать, что если он, в минуту внезапного нападения, и не сумел выдержать напор, то впоследствии все-таки не упустит ни одного случая, чтоб занять утраченные позиции. Нельзя внезапно оголить человека от всех утешений жизни, не припасши, взамен их, других утешений, или, по крайней мере, не разрешив обстоятельно вопрос о Дракиных вообще и об утешении их в особенности. А мы не только ничего этого не сделали, но бессмысленно простирали Дракину объятии и в то же время еще бессмысленнее подшучивали над его тогдашним бессилием.
Сам Петр Иваныч неоднократно жаловался мне на непростительную опрометчивость тогдашних либералов.
– Помилуйте, – говорил он, – смешно даже смотреть! Я к ним с полною моей откровенностью: пристройте, говорю, старика, господа! А они в ответ: бог подаст, Петр Иваныч! И ведь еще смеются, молодые люди… ах, молодые люди! Обижают молодые люди старика, да еще язык высовывают! Только и я, знаете, не промах: зачем, говорю, мне Христа ради кусок себе выпрашивать! Я и сам, коли захочу, свой кусок найду!
– Найдете ли, Петр Иваныч?!
– Найду, сударь, это, как свят бог, найду! Потому неестественное это дело. Если я чем ни на есть помешал, если, с позволенья сказать, занятия мои такого рода, что другим смотреть на меня зазорно, – ну, развлеки меня, пристрой, дай другое занятие! А нет у тебя другого занятия – ну, отстрани совсем. В прежнее время мы всегда так делали: чуть видишь, который человек шатается, – сейчас его в солдаты или на поселение! По крайности, нет его на глазах! А то – на-тко! «Бог подаст!» Нет, молодые люди, просчитаетесь! Я не только у вас, но и у господа бога моего объедком быть не хочу * !
И Петр Иваныч был прав * . Теперь Дракин везде: и на улице, и в театрах, и в ресторанах, и в столице, и в провинции, и в деревне – и не только не ежится, но везде распоряжается как у себя дома. Чуть кто зашумаркает – он сейчас: в солдаты! в Сибирь! Словом сказать, поступает совсем-совсем так, как будто ничего нового не произошло, а напротив того, еще расширилась арена для его похождений.
Я искренно желал бы, чтоб кто-нибудь доказал мне, что Дракины и Хлобыстовские переродились и что не только содержание употребляемых ими приемов, но даже наружный вид этих приемов подверглись какому-нибудь изменению против того содержания и вида, который знаком нам с детских лет. Но полагаю, что сам Менандр, этот твердейший в бедствиях человек, который и доднесь с неслыханною дерзостью вопрошает: чего еще нужно? – и тог едва ли найдется возразить что-нибудь основательное против моего предположения. А покуда этого возражения не существует, я считаю себя вправе утверждать, что хотя крепостное право фактически упразднено, но оно еще живо в душах наших и Петр Иваныч даже на волосок не утратил той энергии, которою он отличался в былые времена. И в прежнее время он завывал, как ветер в пустыне, и теперь завывает. Изменение чувствуется только одно: пустыня утратила прежние границы и сделалась как бы беспредельною. От того звуки дракинских голосов распределяются не с прежнею равномерностью. В одном конце слышно, в другом – нет. Но упаси бог очутиться в том районе, куда Петр Иванович полюбопытствовал заглянуть…
Другой итог: неясность целей, к которым могли бы быть применены сохранившиеся идеалы.
Правда, что Петр Иванович Дракин добился своего, но для чего добился – он и сам этого объяснить не может. Единственный ясный результат его скитаний по преисподним и райским обителям заключается в том, что он поставил на своем и доказал «молодым людям» (увы! как обрюзгли и постарели с тех пор эти «молодые люди»!), что выражение «бог подаст!» в применении к нему, по малой мере, опрометчиво. Что он пристроится, ежели на то пошло, пристроится сам своими средствами, и у них, «молодых людей», не попросит помощи…
Но к чему пристроится? – вот тут-то именно и начинается для Петра Иваныча целый ряд запутанностей и колебаний.
– А ведь я, брат, прогадал! – признавался он мне на днях, – думал, что штука-то в том только и состоит, что руками направо и налево тыкать, а выходит, что я тычу-то в пусто!
– Как в пусто! все же, чай, разорите кого-нибудь, Петр Иваныч! – скромно возразил я.
– Чудак! да ты пойми! Разорить-то я, разумеется, разорю! Я, братец, нынче такое засилие взял, что кого хочешь… вон он! вон он по улице в пальтишке бежит… хочешь, разорю?! Да ведь не сумасшедший я, брат, чтоб зря разорять! Вот ты что сообрази! Ведь оно хорошо руками-то вперед тыкать, когда знаешь, что из этого толк выходит. Прежде вот я знал… Знал я, мой друг, зачем я тыкаю… «предмет» я перед собой видел! Ну, а нынче предмет-то этот… где он? Ты вот день-то деньской бегаешь, из себя выходишь, тычешь и направо и налево, а предмет-то он… фью!
– Да; без предмета… оно точно… тяжеленько как будто…
– И как еще тяжело-то! Целый день кровь в тебе так ходуном и ходит! Ату его! лови! догоняй! – только и слов! А вечером, как начнешь себя усчитывать… грош!! * Сколько крови себе испортил, сколько здоровья убавил, а кого удивил! Вон он! вон он! ишь улепетывает… ккканалья! Ну, и поймаю я его; ну, и посажу на одну ладонку, а другой – прихлопну; ну, и мокренько будет… Кого я этим удивлю, скажи ты мне, сделай милость!!
Петр Иваныч умолк на минуту и затужил.
– Грош! – повторил он в раздумье, – один только грош! Сколько раз я об этом и сам с собой загадывал, и с Михайлом Никифорычем * советовался: отчего, мол, у нас прежде благорастворение воздухов было, а нынче, как ни бьемся, – грош! «Да и у меня, брат, не густо!» – говорит. Так-то вот!
– Но в таком случае, не лучше ли, Петр Иваныч, это дело оставить? – почтительно доложил я.
– Как! мне оставить! – Петр Иваныч вскочил с места и взвился во весь рост, словно получил электрический удар в поясницу, – мне оставить! Да я тысячу раз на дню издохну, а уж егодойму! Я его доконаю! Я его усмирю! Я нынче вот каков: не мне, так никому. Пусть лучше собаки съедят! Да ты знаешь ли, как он меня позорил! Сам целоваться лезет, а исподтишка облавы устроивает! Уж на что я… коренник! – а и тут думал, что конец мой пришел! Трубит, это, в трубу, словно в день Судный! Всех, братец, зовет! Смотрите, говорит, как я с Петра Иваныча Дракина маску снимать буду!.. Снял ты – черта с два!
– Да ведь сами же вы говорите, что пользы от этого для васникакой нет!
– И говорю, и буду говорить – а руками тыкать все-таки буду. Потому, я так уж нынче пристроился. Деваться мне больше некуда. С чего они на меня наскочили? Мешал я, что ли, им? Сидел я у себя в усадьбе и ни в какие ихние политики не вмешивался. По мне, хоть дери, хоть милуй – мое дело сторона! Вот так я, сударь, тогда себя вел! Даже из ихнего брата придет, бывало, который: несчастлив? – На, братец! Садись за стол, ешь, пей, разговаривай по-французски с женой, с детьми играй! В баню хочешь – в баню иди, экипаж занадобился – экипаж бери! Я дворянин, сударь! Я знать не хочу, кому какая политика нравится, а кому не по нраву! Учись! критикуй! доходи! На то ты и дворянин, чтоб до всего доходить! А они! – на-тко! Про то забыли, как я их, курицыных детей, за свой стол сажал, а вспомнили, как я Кузьку да Фомку на конюшне наказывал!
– Да ведь вы и теперь дворянин, Петр Иваныч! И вы дворянин, и они дворяне – ну, что бы вам стоило эти дрязги оставить!
– Нет, сударь, теперь я уж не дворянин, а мститель-с! Мститель я-с – и ничего больше. Только эта гордость во мне и осталась-с. А по прочему по всему, я даже так тебе скажу: жрать иногда нечего! вот они меня на какую линию поставили!
Слушая эти рассуждения, я не могу не признать одного: что Петр Иванович, по крайней мере, настолько умен, что нимало не обольщает себя насчет своей задачи. Он прямо говорит, что предмет этой задачи… фью! Прав он также и в своих упреках тем «молодым людям», которые когда-то обнимали его и в то же время напутствовали словами «бог подаст!». Что он в свое время относился к «молодым людям» благосклонно, когда они попадали в беду, что он не тиранил их, а сажал за свой стол и предоставлял разговаривать по-французски с своей женой – это я испытал на себе, когда я написал «Маланью» и попался по этому случаю впросак. Тогда я впервые и познакомился с Петром Ивановичем (с тех-то пор он и говорит мне «ты», на которое я отвечаю почтительным «вы»). Я помню, я явился к нему сконфуженный и думал, что он вот-вот сейчас вцепится в меня (увы! теперьон так бы и поступил; он не только бы вцепился в меня, но запер бы меня в вонючую конуру, лишил бы огня и воды и проч.); но он не только не вскинулся на меня, но даже погладил меня по голове.
– Ну-ну! – сказал он мне, – сшалил! проштрафился! ничего! там – свои счеты, а здесь – свои. Бог милостив! Дворянину – без того невозможно. Я сам, брат, молод был! сам при целом полку командиру нагрубил! Знаю!
И вслед за тем действительно велел накрывать на стол, представил меня жене и предоставил мне разговоривать с нею по-французски…
Зачем же я впоследствии обругал его (каюсь, и я принадлежал к числу тех «молодых людей», которые, обнимая, травили Петра Ивановича, думая, что он никогда уже не очнется)? И обругал притом бесплодно, бессмысленно, точь-в-точь так, как он поступает теперь сам по отношению к бывшим своим ругателям. И как мы его в то время допрашивали! Господи! как мы допрашивали! Я думаю, еще и теперь икры его сохранили следы зубов, которыми мы вцеплялись в них! И никогда ведь не говорили мы прямо: твое, дескать, время, Петр Иваныч, прошло – умирай, старик! но старались прежде всего в чувство его привести, а потом и уязвить. И где уязвить? на собственной его почве, на той почве крепостного права, которую он, и в геологическом, и в статистическом, и в этнографическом отношениях, знал как свои пять пальцев!
– Тогда-то ты девке Маришке косу стриг, а этого тебе предоставлено не было! – ласково обличал один.
– Тогда-то ты у Кузьки жену себе в любовницы взял, а этого тебе предоставлено не было! – еще ласковее донимал другой.
– Тогда-то ты все шесть дней сряду народ на барщину гонял, а этого тебе предоставлено не было! – совсем уже по-родительски вразумлял третий.
– Помилуйте, господа! – оправдывался Дракин, – на все ваши вразумления могу ответить четырьмя словами: тогда существовало крепостное право!
Но мы ничему не внимали, и я очень живо помню, как однажды мой друг Кирсанов * самым учтивым образом закоченел, впившись зубами в одну из икр Петра Иваныча!
В одном только Петр Иваныч не прав: он сознает, что предмета для тыканья руками уже не существует, и все-таки продолжает тыкать (и притом тыкает совсем не в то место, куда следует тыкать, как это сейчас будет объяснено). Но и тут неправота его только кажущаяся. Если нет предмета, которого благополучие оправдывало бы совершение подвигов, то есть воспоминание о подвигах, есть привычка к ним; есть, наконец, сознание, что ему, Дракину, ни при чем больше и состоять невозможно, кроме как при подвигах. Лишившись предмета, тыканье руками хотя и утрачивает свою ясность, но с точки зрения энергии и силы никакого ущерба не терпит. Беспредметное, абсолютное, трансцендентальное, оно питает само себя, так, как питал и питает сам себя тот распивочный и раскурочный либерализм, который можно на золотники получать из лавочек современных пенкоснимателей * . Худо, конечно, делает Петр Иваныч, что себя беспокоит, но куда же он денется с своим темпераментом? Как уничтожит свои воспоминания? как вычеркнет из прошлого кровную обиду свою? *
Но все эти оправдания Петра Иваныча для меня дело второстепенное. Пусть даже он будет тысячу раз неправ * – для меня важно уже то, что сам сознаёт свою деятельность беспредметною. Этим признанием сказано все: и то, что у него уже нет ясной цели, и то, что единственное побуждение, которое руководит им, есть побуждение гнева, и то, наконец, что он не может продолжать своей деятельности иначе, как под условием поддерживания своей нервной системы в постоянно напряженном состоянии. Как хотите, а он несчастлив. В самых разнообразных формах и видах является он перед нами всюду: и на улице, и в кафешантанах, и в ресторанах, и даже в бесчисленных канцеляриях, и, по-видимому, улыбка никогда не сходит с лица его. Но не верьте этой улыбке, ибо я знаю наверное, что на сердце у него скребут мыши. Он уже понимает, что предмет его раздражений – фью! и что сколько бы он ни разорял, ни расточал, собственное его благополучие не увеличится от того ни на волос!
Но, сверх того, не следует забывать, что и для того, чтобы разорять, надо все-таки еще случай иметь, надо быть поставленными в такие условия, при которых подлинно разорять можно. Но разве большинство Дракиных находится в таких условиях? – Нет, громадная масса их может относиться к разорению лишь платонически. Она может только облизываться, поощрять, кричать: браво! – но ничего более…
Я представляю себе Дракина деятельного, который, ложась на ночь, сводит концы с концами, и вдруг приходит к убеждению, что в результате получил – грош! Какое горькое чувство должно овладеть им! Какой стыд! какое раскаянье!
Но представьте же себе то множество Дракиных, которым даже концы с концами сводить не приходится, а приходится только ежечасно сознавать, что предмет их вожделений – фью! Что должны ощущать этиДракины? К какому должны они прийти заключению относительно своего настоящего и будущего?
По моему мнению, они должны прийти к тому заключению, которое я назову третьим итогом моего «Дневника»: к сознанию жизненной пустоты и невозможности куда-нибудь приткнуться, где-нибудь сыграть деятельную роль.
Один можеттыкать вперед руками, но, по довольном упражнении, приходит к убеждению, что пользы от того не приобретается никакой. Другому и хотелось бы пристроиться к этому ремеслу, но для него уже нет места на жизненном пире * . Как ни велика разница в положении обоих «ветхих людей», но и для того и для другого конец одинаков. Этот конец формулируется словами: сознавать, что Эвридика найдена только по наружности, в действительности же она потеряна безвозвратно, – и затем тосковать, вздыхать и безнадежно всматриваться в даль…
Я положительно утверждаю, что Петр Иваныч понимает бесплодность своего нынешнего ремесла и что он потому только упорствует в нем, что ему, вне этого ремесла, нечего делать, некуда приткнуться. Несмотря на то что мы, русские, никогда особенно деятельно не заявляли себя с политической стороны, никто не способен с таким упорством оставаться на исключительно политической почве деятельности, как мы. Понятие, сопряженное с словом «делать», как бы не существует для нас; мы знаем только одно слово: распоряжаться. «Распоряжаться», то есть смещать, увольнять, замещать, повышать, понижать и т. д. А это-то именно и есть «политика», в том смысле, как мы ее понимаем. Еще недавно Петр Иваныч жаловался мне:








