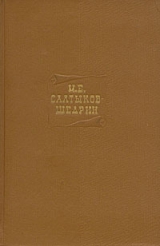
Текст книги "Том 14. За рубежом. Письма к тетеньке"
Автор книги: Михаил Салтыков-Щедрин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 54 страниц)
Зато с наступлением весеннего тепла курорт начинает закипать, и чем больше подвигается время в глубь лета, тем гуще и гуще раздается пчелиное гудение вокруг курзала и бесчисленных табльдотов, простирающих свои объятия наезжему люду. Курзал прибодряется и расцвечивается флагами и фонарями самых причудливых форм и сочетаний; лужайки около него украшаются вычурными цветниками, с изображением официальных гербов; армия лакеев стоѝт, притаив дыхание, готовая по первому знаку ринуться вперед; в кургаузе, около источников, появляются дородные вассерфрау * ; всякий частный дом превращается в Privat-Hotel, напоминающий невзрачную провинциальную русскую гостиницу (к счастию, лишенную клопов), с дерюгой вместо постельного белья и с какими-то нелепыми подушками, которые расползаются при первом прикосновении головы; владельцы этих домов, зимой ютившиеся в конурах ради экономии в топливе, теперь переходят в еще более тесные конуры ради прибытка; соседние деревни, не покладывая рук, доят коров, коз, ослиц и щупают кур; на всяком перекрестке стоят динстманы, пактрѐгеры * и прочий подневольный люд, пришедший с специальною целью за грош продать душу; и тут же рядом ржут лошади, ревут ослы и без оглядки бежит жид, сам еще не сознавая зачем, но чуя, что из каждого кармана пахнет талером или банковым билетом. Чувствуется, что в воздухе есть что-то ненормальное, что жизнь как будто сошла с ума, и, разумеется, по русскому обычаю, опасаешься, что вот-вот попадешь в «историю». Но чем больше живешь и вглядываешься, тем больше убеждаешься, что, несмотря на всякие ненормальности, никаких «историй» нет, что все кругом испокон веков намуштровано и теперь само собой так укладывается, чтоб никто никому не мешал. Пактрѐеры не спотыкаются, не задевают друг друга, но степенно двигаются, гордые сознанием, что именно они,а не динстманы призваны заменять ломовых лошадей; динстманы не перебивают друг у друга работу, не кричат взапуски: я сбегаю! я, ваше сиятельство! меня вчера за Анюткой посылали, господин купец! но солидно стоят в ожидании, кого из них потребитель облюбует, кому скажет: лоб! * У нас (в Москве, например) при таких обстоятельствах, по малой мере, потребителю фалды бы оборвали, и последствием этого было бы путешествие, в кутузку, а здесь и кутузки нет, и фалды целы. Но ведь с другой стороны, если б мы вздумали подражать немецким образцам, то есть начали бы солидничать и в молчании ждать своей участи, то не вышло бы из этого другой, еще горшей беды? Молчишь – значит, есть что-нибудь на уме… А что же может быть на уме у динстмана, кроме превратных толкований? Ну и опять – марш в кутузку!
Благо странам, которые, в виде сдерживающего начала, имеют в своем распоряжении кутузку, но еще более благо тем, которые, отбыв время кутузки, и ныне носят ее в сердцах благодарных детей своих. Достоин похвалы тот, который, видя кутузку очами телесными, согласно с сим регулирует свое поведение; но стократ блаженнее тот, который, видя кутузку лишь очами духовными, продолжает веровать в незыблемость ее руководящих свойств. Русская лошадь знает кнут и потому боится его (иногда даже до того уже знает, что и бояться перестает: бей, несытая душа, коли любо!); немецкая лошадь почти совсем не знает кнута, но она знает «историю» кнута, и потому при первом щелканье бича бежит вперед, не выжидая более действительных понуждений. Так точно и во всем. Тем не менее надобно, к чести людей, сознаться, что кнут все-таки есть только мера печальной необходимости, к которой редко кто прибегает, как к развлечению. Ка̀к легко жилось бы русским извозчикам, если бы русские лошади вдруг остепенились и начали возить не только за страх но и за совесть! И как просто было б управлять людьми, если б, подобно немецким пактрѐгерам, все поняли, что священнейшая обязанность человеков в том заключается, чтоб, не спотыкаясь и не задевая друг друга, носить тяжести, принадлежащие «знатным иностранцам»! Но, может быть, если бы эта утопия осуществилась, то сами извозчики сбесились бы от жира и ничегонеделания? И, сбесившись, начали бы… Помилуйте! а кутузка на что?
А впрочем, довольно мечтать о том, кто более заслужил похвалы и кто менее. Пускай немецкие извозчики щелкают бичами по воздуху, а наши пускай бьют лошадей кнутами и вдоль спины, и поперек, и по брюху. Пускай немецкие динстманы носят кутузку в сердце своем, а наши, имея в оной жительство, пусть говорят: ах, чтоб ей ни дна ни покрышки! Конечно, от того или другого образа поведения зависит то или другое направление внутренней политики, но ведь за внутренней политикой не угонишься! Иной ведет себя отлично, да сосед напакостил – ан и его заодно ведут в кутузку. И потом: ах, как жаль! какое печальное недоразумение! Это кутузка-то… недоразумение!
Правда, я со всех сторон слышу, что недоразумений больше уж не будет, и вполне верю, что, в дополнение к прежним эмансипациям, возможна и эмансипация от недоразумений. Но, признаюсь, меня смущает вопрос: не будет ли слишком пресна наша жизнь без недоразумений, но с кутузкой? Ведь мы привыкли! Театры у нас плохие, митингов нет, в трактирах порция бифштекса сто̀ит рубль серебром, так, по моему мнению, лучше по недоразумениювечер в кутузке провести, нежели в Александринке глазами хлопать. Но только, ради Христа, не больше одного вечера!
Среднего сословия людей в курортах почти нет, ибо нельзя же считать таковыми ту незаметную горсть туземных и иноземных негоциантов, которые торгуют (и бог весть, одним ли тем, что у них па по̀лках лежит?) в бараках и колоннадах вдоль променад, или тех антрепренеров лакейских послуг, которые тем только и отличаются (разумеется, я не говорю о мошне) от обыкновенных лакеев и кнехтов, что имеют право громче произносить: pst! pst! Может быть, зимой, когда сосчитаны барыши, эти последние и сознают себя добрыми буржуа̀, но летом они, наравне с самым последним кельнером, продают душу наезжему человеку и не имеют иного критериума для оценки вещей и людей, кроме того, сколько то или другое событие, тот или другой «гость» бросят им лишних пфеннигов в карман.
А наезжий человек так со всех сторон и напирает. Каждый день бесчисленные железнодорожные поезды выбрасывают на улицы курорта массы «гостей», которые тут же, с вытаращенными глазами, задыхаясь и спеша, начинают отыскивать себе конуру для ночлега. Это, так сказать, предвкушение ожидающих утех. Тут и человек, всю зиму экспекторировавший, в чаянье, что летом будет лакомиться ослиными сыворотками и «обменивать вещества». Тут и бесшабашный советник, который согласен какую угодно мерзость глотать, лишь бы бог веку продлил и сотворил ему мирным и непостыдным получение присвоенных по штатам окладов и аренд. Тут и юный бонапартист, которому только безмерное безрассудство до сих пор мешало обдумать, в чью пользу и за какую сумму ему придется продать отечество. Тут и пустоголовая, но хорошо выкормленная бонапартистка, которая, опираясь на руку экспекторирующего человека, мечтает о том, ка̀к она завтра появится на променаде в таком платье, что всё-всё (mais tout!) [20]20
действительно, всё!
[Закрыть]будет видно. Тут и милая старушка, которая уже теперь не может прийти в себя от умиления при виде той массы панталон, которая все больше и больше увеличивается, по мере приближения к центру городка. Тут и замученный хождениями по мытарствам литератор, и ошалевший от апелляций и кассаций адвокат, и оглохший от директорского звонка чиновник, которые надеются хоть на два, на три месяца стряхнуть с себя массу замученности и одурения, в течение 9-10 месяцев составлявшую их обычный modus vivendi [21]21
образ жизни.
[Закрыть](неблагодарные! они забывают, что именно эта масса и напоминала им, от времени до времени, что в Езопе скрывается человек!). Тут и шпион. И все они переходят от гостиницы к гостинице, от одного въезжего дома к другому, отыскивая конуру… самую простую конуру! И редко кому из них удается успокоиться в искомой конуре раньше трех-четырех часов изнурительнейших поисков.
Ночью гостиницы и въезжие дома наполняются звуками экспекторации «гостей» и громкими простестами бонапартисток: eh bien, auras-tu bientôt fini? [22]22
ну, скоро ли ты кончишь?
[Закрыть]– на что̀ следует неизбежный ответ: ах, матушка! к-ха, к-ха… хрррр… Но вот легкие мало-помалу очищаются, и к полуночи все стихает. Утром, в шесть часов, опять экспекторация и опять протест… А между тем в кургаузе и около него гудит пчелиный рой. Семь часов утра. Одни уже отпили свою порцию, другие только что заручились кружками и спешат к источникам. Всякий народ тут: чиновные и нечиновные, больные и здоровые, канальи и честные люди, бонапартисты и простые, застенчивые люди, которые никак не могут прийти в себя от изумления, какое горькое волшебство привело их в соприкосновение со всем этим людом, которого они не искали и незнание которого составляло одну из счастливейших привилегий их существования. Тут и англичанка-пэреса, которая в Англии оплодотворилась, а здесь заставляет возить себя в ручной колясочке, дабы не потревожить плода. Тут и упраздненный принц крови, который, изнемогая в конвульсиях высокопоставленного одиночества, разыскивает через кельнеров, не пожелает ли кто-нибудь иметь честь быть ему представленным. Тут и рязанский землевладелец, у которого на лице написано: наплюю я на эти воды, закачусь на целую ночь в Линденбах, дам Доре двадцать пять марок в зубы: скидывай, бестья, лишнюю одёжу… служи! Тут и шпион. В воздухе стоит разноязычный говор, в общей массе которого не последнее место занимает и русская речь,
– Какими судьбами? вы!!
– Да вот в горле все что-то сверлит.
– С кем это вы сейчас говорили?
– Мошенник! знаете ли, какую он штуку удрал…
Через минуту другая встреча.
– И вы здесь? давно?
– Дней с пять. С легкими справиться не могу.
– С кем вы сейчас говорили?
– Ужаснейшая, батюшка, каналья. Знаете ли, какую он вещь с родной сестрой сделал…
Еще через минуту.
– Доктор! я уж третий стакан выпил.
– Ходѝте, обменивайте вещества!
– Доктор! вчера я получил письмо из России. У нас ведь вы знаете что̀?.. Са-ран-ча!!
– Я бы особенным повелением запретил писать из России письма больным. Ходѝте, обменивайте вещества̀!
– Доктор! а это…можно.
Следует обмен мыслей шепотом.
– Гм… если уж вы… Но вы знаете мое мнение: это положительно не kurgemaess…
– Доктор! чуточку!
– Да, но я все-таки должен предупредить… Удивительный вы народ, господа русские! все вы прежде всего об этомспрашиваете… Ну, что с вами делать, можно, можно… А теперь ходѝте и обменивайте вещества!
И бегут осчастливленные докторским разрешением «знатные иностранцы» обменивать вещества. Сначала обменивают около курзала, надеясь обмануть время и принюхиваясь к запаху жженого цикория, который так и валит из всех кухонь. Но потом, видя, что время все-таки продолжает идти черепашьим шагом (требуется, по малой мере, час на обмен веществ), уходят в подгородние ресторанчики, за полчаса или за сорок минут ходьбы от кургауза.
Подождите еще несколько минут, и вы увидите новый наплыв публики: запоздавших. Вот и вчерашняя бонапартистка, с кружкой в руках, проталкивается сквозь толпу в каком-то вязаном трико, которое так плотно ее облипает, что, действительно, бонапартисты могут пожирать глазами… все.Рядом с нею бредет милая старушка, усиливаясь подпрыгивать, вся разрисованная, восхищенная, готовая в огонь и в воду… toute pimpante! [23]23
во всем блеске!
[Закрыть]И вдали, в дверях кургауза, следит за старушкой обер-кельнер, завито̀й белокурый детина, с перстнем, украшенным крупной бирюзою, на указательном пальце, и на вопрос, что может стоить такой камень, самодовольно отвечает: das hat mir eine hochwohlgeborene russische Dame geschenkt [24]24
это подарила мне одна высокородная русская дама.
[Закрыть].
Я знаю многих русских дам, которые, наверное, обидятся наглостью обер-кельнера и воскликнут: ка̀к он смеет клеветать? С своей стороны, отнюдь не оправдывая нескромности табльдотного Рюи-Блаза * и даже не имея ничего против того, чтоб назвать ее клеветою, я позволяю себе, однако ж, один вопрос: почему ни один кельнер не назовет ни eine englische, ни eine deutsche, ни eine französische Dame [25]25
ни английскую, ни немецкую, ни французскую даму.
[Закрыть], a непременно из всех национальностей выберет русскую? Уж на что, кажется, повадлива румынская национальность, но и об ней обер-кельнеры умалчивают. Стало быть, есть в русской даме какое-то внутреннее благоволение (вероятно, вполне невинное), которое влечет к ней сердца хаускнехтов и заставляет кельнеров мечтать: уж если суждено мне от кого-нибудь получить перстенек с бирюзой, так не иначе, как от русской «дамы».
Очень может быть, что дело происходило так. Приехала на воды экспекторирующая старушка-вдова, и ни в ком, на чужбине, не нашла участия, кроме обер-кельнера своей гостиницы. Этот человек сразу оказался «золотым» малым. Он допускал, в пользу ее, отступления от правил табльдота; он предоставлял ей лучшее место за столом, придвигал и отодвигал ее стул, собственноручно накладывал ей на тарелку лакомый кусок, наливал в стакан вино и после обеда, надевая ей на плечи мантилью, говорил: so! [26]26
так!
[Закрыть]A вечером лично носил ей в номер поднос с чаем, справлялся, спокойно ли ей почивать и не нужно ли промыслить другую подушку. Словом сказать, самоотвергался. Разумеется, старушка была тронута. Вспомнила, что у нее в саквояже лежит перстенек с бирюзой, который когда-то носил на указательном пальце ее покойный муж, вынула, немножко всплакнула (надо же память покойного «друга» почтить!) и… отдала. Отдавши, уехала на другие воды, где опять встретила точь-в-точь такого же обер-кельнера, вспомнила, что у нее в саквояже лежит перстенек с изумрудом (тоже покойный муж на указательном пальце носил), опять всплакнула и опять… отдала. И, таким образом, объехавши многие курорты, добралась до Швейцарии, но тут запас перстеньков истощился и, в соответствии с этим, истощилось и обер-кельнерское самоотвержение. И вот теперь она живет в деревне Проплёванной и дарит старосте Максимушке, за самоотвержение, желтенькую бумажку…
Et voilà comme on écrit l’histoire * [27]27
И вот как пишется история.
[Закрыть].
Около половины десятого кургауз пустеет; гудение удаляется и расходится по отелям. Это время первого насыщения, за которым наступает время побочных лечений. Позавтракавши, одни идут в Gurgel-cabinet [28]28
кабинет по горловым болезням.
[Закрыть], другие в Inhalations Anstalt [29]29
отделение для ингаляции.
[Закрыть], третьи – берут ванны. Но те, которые удивляют мир силою экспекторации, – те обыкновенно проделывают все отрасли лечения и продолжают экспекторировать с прежнею силою. Зато им решительно не только нет времени об чем-либо думать, но нѐкогда и отдохнуть, так как все эти лечения нужно проделать в разных местах города, которые хотя и не весьма удалены друг от друга, но все-таки достаточно, чтоб больной человек почувствовал. И во всяком месте нужно обождать, во всяком нужно выслушать признание соотечественника: «с вас за сеанс берут полторы марки, а с меня только марку; а вот эта старуха-немка платит всего восемьдесят пфеннигов». И вся эта история повторяется изо дня в день, несмотря ни на какую погоду. Подумайте! с шести часов дня до часу пополудни ничего, кроме беготни и каких-то бесконечных тринкгельдов, которые, подобно древней дыбе, приводят истязуемого субъекта в «изумление». Как должно это действовать на человека, страдающего, кроме болезни сердца, эмфиземы, воспаления дыхательных путей, астмы – еще мозолями!
Это же время (от десяти до часу) – самое горячее и для бонапартистки, ибо она примеривает костюм, в котором должна явиться к обеду. Процесс этого примеривания она отбывает с самою невозмутимою серьезностью. Наденет одно платье, встанет перед зеркалом, оглядит себя сперва спереди, потом сзади, что-то подправит, в одном месте взбодрит, в другом пригнетет, слизнет языком соринку, приставшую к губе, пошевелит бровями, возьмет маленькое зеркальце и несколько раз кивнет перед ним головой то вправо, то влево, положит зеркальце, опять его возьмет и опять слизнет с губ соринку… И все время мечется у ней перед глазами молодой бонапартист, который молит: ах, эта ножка! ужели вы будете так бессердечны, что не дадите ее поцеловать! Но мольба эта не волнует ее, не вливает ей в кровь отраву… Как истинная кокотка по духу, она даже этимне волнуется, а думает только: как нынче молодые люди умеют мило говорить!.. и начинает примеривать другое платье. Новое стояние перед зеркалом, удаление и приближение к нему; есть что-то неладное назади, именно там, где все должно быть ладно. Что такое? quel est ce mystère? [30]30
в чем секрет?
[Закрыть]Ну вот, теперь хорошо… tout ce qu’il faut! [31]31
все как следует!
[Закрыть]И опять бонапартист перед глазами, который успел уже поцеловать ножку и теперь вопрошает грядущее… Третье платье и новое повертыванье перед зеркалом. Это платье, по-видимому, уж совсем хорошо, но вот тут… нужно, чтоб было двеноги, а где они, «две ноги»? «За что же, однако, меня в институте учитель прозвал tête de linotte! [32]32
ветреницей.
[Закрыть]совсем уж я не такая…» И опять бонапартист перед глазами, но уж не тот, не прежний. Тот был с усиками, а этот с бородой… ах, какой он большой! Опять платье, четвертое и последнее. Пора. Последнее платье надевается на̀скоро, потому что часы показывают без десяти минут час, и, сверх того, в изгибах tête de linotte мелькает стих Богдановича: «во всех ты, душенька, нарядах хороша…» * Это единственное «знание», которое она вынесла из шестилетней мучительной институтской практики.
В это же время бодрствует в своей конуре и шпион. Он приводит в порядок собранные матерьялы, проводит их сквозь горнило своего понимания и, чувствуя, что от этого «понимания» воняет, сдабривает его клеветою. И – о, чудо! – клевета оказывается правдоподобнее и даже грамотнее, потому что образцом для нее послужила полемика «благонамеренных» русских газет…
Бьет час, и весь этот людской сброд, измученный отчасти беготней, отчасти легкомыслием, отчасти праздностью, сосредоточивается за табльдотами. На некоторое время город кажется пустым.
Послеобеденное время – самое тяжкое. До обеда все как-нибудь отличились, отштукатурились и обрядились; после обеда – даже этих ресурсов нет. Возвращаться «домой» нѐзачем, да и нѐкуда: никакого «дома» нет, а есть конура. Даже у самого богатого человека, и у того, сравнительно с «домом», конура. Надо где-нибудь прошляться, чтоб погубить остальные шесть-семь часов. Где прошляться? Я сказал выше, что окрестности курорта почти всегда живописны, но число экскурсий вовсе не так велико, чтоб не быть исчерпанным в самое короткое время. Пять-шесть прогулок – вот и весь репертуар. Правда, что в «своем месте» вы каждый день гуляете по одному и тому же саду, любуетесь одними и теми же полями, и вам это не надоедает. Но, во-первых, «свое место» избавляет вас от культурно-кокотских отрав, которые одолевают вас здесь на каждом шагу; а во-вторых, в том-то и чарующая сила «своего места», что там вас интересует судьба каждого дерева, каждого куста, каждой былинки. И каждая былинка, в свою очередь, как бы хранит память об вас. На что̀ вы ни взглянете, к чему ни прикоснетесь, – на всем легла целая повесть злоключений и отрад (ведь и у обделенных могут быть отрады!), и вы не оторветесь от этой повести, не дочитав ее до конца, потому что каждое ее слово, каждый штрих или терзает ваше сердце, или растворяет его блаженством… Тогда как за границу вы уже, по преданию, являетесь с требованием чего-то грандиозного и совсем-совсем нового (мне, за мои деньги, подавай!) и, вместо того, встречаете путь, усеянный кокотками, которые различаются друг от друга только тем, что одни из них въезжают на горы в колясках, а другие, завидуя и впривскочку, взбираются пешком.
Часов до четырех дело, однако ж, кой-как идет. На променаде играет порядочная музыка; в ресторане курзала и на столиках около него толпится публика и «потребляет». Кокотка по ремеслу отсутствует (управление вод очень строго изгоняет все, что не kurgemaess, хотя во времена владычества рулетки и отступало от этого правила), но кокотка по духу – царит. Но вот музыканты, один за другим, разбрелись, послеобеденный кофе выпит, мороженое съедено; дальнейшее пребывание под навесом платанов становится нестерпимым. Необходимо гулять. В сущности, еще очень рано; день едва достиг того часа, когда до̀ма приканчиваются дела, и многим по привычке кажется, что сейчас скажут, что суп на столе. Напрасное обольщение! – надобно гулять! – вы до усталости ходили утром, но то было утром, а теперь вечер. Обменивайте вещества! Перед вами Altes-Schloss, потом Eberstein-Schloss, потом Rothenfels [33]33
Прогулки в окрестностях Баден-Бадена. ( Прим. M. E. Салтыкова-Щедрина.)
[Закрыть]. Выбирайте любое! А завтра будет Rothenfels, Eberstein-Schloss, Altes-Schloss… A то не хотите ли в Фавориту, десять раз в Фавориту, двадцать раз в Фавориту! *
Бонапартисты и бонапартистки плавают в этой суматохе, как рыба в воде. Они всходят и взъезжают на горы, жеманятся, провокируют, мелькают и вообще восполняют свое провиденцияльное назначение, то есть выставляют напоказ: первые – покрои своих жакеток и сьютов, вторые – данные им природой атуры. Нельзя себе представить ничего более жалкого, как человеческое существо, с головы до ног погруженное в показывание атуров. А современная культурная женщина почти сплошь занята одним этим. И не только молодая tête de linotte, но и старушка. Ничто ее не интересует, ни книга (за исключением порнографической литературы), ни картина (за исключением порнографических фотографий), ни пейзаж (за исключением порнографических cabinets particuliers) [34]34
отдельных кабинетов.
[Закрыть]. Ничто, кроме заботы о том, чтоб наряд как можно меньше скрывал ее округлости. Она даже насыщается не ради того, чтоб поддерживать жизнь или удовлетворять своей gourmandise [35]35
обжорству.
[Закрыть], а потому, что, как ей сказывали, при помощи хорошего и обильного питания нагуливаются хорошие и обильные атуры. Иметь высокую грудь и выдающуюся поясницу – вот конечная цель ее самолюбия. И, как дополнение к этому, обладать немногосложным, но в высшей степени точным порнографическим жаргоном. Не все ли равно этим двуногим, где выполнять свое провиденцияльное назначение, на вершине ли Schöne Aussicht или в Линденбахе? Какое ей дело до того, что с вершины Schöne Aussicht видны Siebengebirge и стальная полоса Рейна, что там благоухает сосна, а Линденбах провонял кухонным чадом. Линденбах, пожалуй, привлекательнее, потому что там есть просторный ресторан, в котором можно прислониться. Этот бонапартистско-кокотский элемент вместе с особью людей, которые не могут представить оправдательных документов для объяснения средств своего существования, составляют истинную отраву всякого курорта. Рулетка исчезла, но рулеточные обычаи, рулеточный запах еще остались. Всякий курорт есть место неожиданных встреч. Некогда вы знали человека, ходившего чуть не без штанов, потом потеряли его из вида, и вдруг встречаете его здесь и некоторое время думаете, что перед вами мелькнуло сонное видение. У этого человека все курортное лакейство находится в рабстве; он живет не в конуре, а занимает апартамент; спит не на дерюге, а на тончайшем белье; обедает не за табльдотом, а особо жрет что-то мудреное; и в довершение всего жена его гуляет на музыке под руку с сановником. Ясно, что он что-то украл, но здесь, в курорте, в первый раз вам приходит на мысль вопрос: что̀ такое вор? У себя, на берегах Ворсклы или Вороны, или совсем не пришел бы на мысль этот вопрос, или вы совершенно точно ответили бы на него, но среди этой кажущейся жизни, исполненной кажущихся поступков, кажущихся разговоров и даже кажущегося леченья – все самые ясные вопросы принимают какой-то кажущийся характер. Да уж не слишком ли прямолинейно смотрел я на вещи там, на берегах Хопра? думается вам, и самое большое, что̀ вы делаете, – и то для того, чтоб не совсем погрязнуть в тине уступок, – это откладываете слишком щекотливые определения до возвращения в «свое место». Там можно будет и опять в Юханцеве видеть Юханцева, а здесь, на водах…
– С кем вы сейчас говорили?
– Помилуйте, скотина!
Сегодня «скотина», завтра «скотина», а послезавтра и сам черт не разберет: полно, «скотина» ли?
Между тем бьет семь часов, и волна людская опять растет около курзала. Оркестр гремит; бонапартистки, переменивши туалет, скользят между столами; около одной, очень красивой и роскошно одетой, собралось целое стадо habitués [36]36
завсегдатаев.
[Закрыть]и далеко, под сводом платанов, несется беззаветный хохот этой привилегированной группы, которая, по всей линии променад, прижилась как у себя до̀ма. Все прочие бонапартистки отчасти завидуют ей, отчасти млеют перед ней в благоговении. Это белокурая испанка от колена Монтихова, которую сама «вдова» благословила * летом разъезжать по курзалам, а зимой блистать в Париже и наблюдать за мосье Гамбетта̀. Она дает тон курорту; на ней одной можно воочию убедиться, до какого совершенства может быть доведена выкормка женщины, поставившей себе целью останавливать на своих атурах вожделеющие взоры мужчин, и в какой мере платье должно служить, так сказать, осуществлением этой выкормки. Да, платье именно должно быть таково. Оно не обязывается ни подчеркивать, ни комментировать, ни увлекаться в область парадоксов, а именно только осуществлять.
Статуя должна быть проста и ясна, как сама правда, и, как правда же, должна предстоять перед всеми в безразличии своей наготы, никому не обещая воздаяния и всем говоря: вот я какая! Что же касается до того, какие представления «в случае чего» надлежит иметь относительно этой статуи-правды, то роль путеводителей в этом разе предоставляется перехватам, бантам, цветам и другим архитектурным украшениям. Где бант – там остановка, где перехват – там гляди. Единственное темное пятно в современном женском туалете – это юбка, которую, несмотря на все усилия, никак не могут упразднить «законодатели мод». Она одна оставляет в статуе некоторые неясности, одна служит оградительницей интересов современной семьи. Впрочем, эти неясности отчасти уже устраняются при помощи ноги. Нога (а не ножка, как выражались любезники сороковых годов) должна быть видна во всей своей скульптурной образности; нога и часть икры… Вот вам на первый раз, а остальное, конечно, тоже придет, но нужно же иметь сколько-нибудь терпения!
Толпа гудит, сама не сознавая, к чему она стремится, чего желает. Ничего, кроме праздных мыслей, праздных слов и праздных поступков. Это самое полное, самое беззаветное осуществление идеала равенства… перед праздностью. Если кто «до̀ма» сознавал за собою что-нибудь оригинальное, тот забывает об этом, стушевывается перед общим уровнем ликующей толпы. И это происходит не по принуждению, а незаметно, само собой. Вдруг как-то исчезает всякая гадливость.
Это обезличение людей в смысле нравственном и умственном и, напротив, слишком яркое выделение их с точки зрения покроя жилетов и количества съедаемых «шатобрианов», это отсутствие всяких поводов для заявления о своей самостоятельности – вот в чем, по моему мнению, заключается самая неприглядная сторона заграничных шатаний. Ежели обязательно суетливая праздность производит скуку, то продолжительное отсутствие проявлений самостоятельности может иметь последствием полнейшую умственную и нравственную анемию. И я убежден, что многие, воротясь домой, не без удивления вспоминают о месяцах, проведенных в чуждой среде, под игом понятий и привычек, о существовании которых они только тут в первый раз узнали.
По крайней мере, я испытал нечто подобное на себе. Представьте себе, вновь встретился с Удавом и Дыбой – и обрадовался. И они мне обрадовались и в один голос воскликнули: Вот как! ну, и слава богу!
Они ходили всегда вместе, во-первых, потому, что были равны в чинах и могли понимать друг друга, и, во-вторых, потому, что оба чувствовали себя изолированными среди курортной толкотни. Хотя и кроме их в курорте была целая масса бесшабашных советников, но Дыба и Удав добыли свои чины еще по старому положению и притом имели довольно странные гербы. Поэтому прочие бесшабашные советники, добывшие свои чины повадливостью и тщательно расчесанными на затылках проборами, перекидывались с ними двумя-тремя учтивостями и устремлялись дальше, как бы задыхаясь в атмосфере старческих грехов, которую распространяли кругом себя вышедшие из употребления сановники. Не было явного пренебрежения, но не было и предупредительности. Однако ж старики в первое время все-таки тянулись за так называемой избранной публикой, то есть обедали не в час и не за табльдотом, а в шесть и à la carte [37]37
по карточке, порционно.
[Закрыть], одевались в коротенькие клетчатые визитки, которые совершенно открывали их убогие оконечности, подсаживались к молодым бонапартистам и жаловались, что доктор не позволяет пить шампанское, выслушивали гривуазные анекдоты и сами пытались рассказать что-то неуклюжее, засматривались на бонапартисток и при этом слюнявили переда своих рубашек и проч. Но все эти усилия ни к чему не привели. Избранная публика даже одним ухом не слушала их, но совершенно явно показывала, что совсем ничего не слышит, так что, в конце концов, всегда оказывалось, что, думая обращаться к публике, старики исключительно разговаривали друг с другом. Не раз случалось и так, что «знатные иностранцы», пораженные настойчивостью, с которою старики усиливались прорваться в ряды «милых негодяев», взглядывали на них с недоумением, как бы вопрошая: откуда эти выходцы? – на что прочие бесшабашные советники, разумеется, поспешали объяснить, что это загнившие продукты дореформенной русской культуры, не имеющие никакого понятия об «увенчании здания» * . К несчастию, старики проведали об этом и огорчились. А в довершение приключилось и еще одно обстоятельство. В курорт прибыл какой-то вновь определенный принц, и некоторый русский сановник, приводивший в это время в порядок свои легкие, счел долгом почтить высокопоставленного гостя обедом. Все «знатные иностранцы» получили приглашения, но Удав и Дыба были забыты. Это тем более их поразило, что они невольно вспомнили дележку в Уфимской губернии, при которой тоже были забыты. Поступят ли в дележку «полезные лесочки» Вятской губернии – это еще бабушка надвое сказала, а Уфимская-то губерния – ау! Словом сказать, старики заскучали и круто переменили свой образ жизни. От обедов à la carte в курзале перешли к табльдоту в кургаузе, перестали говорить о шампанском и обратились к местному кислому вину, приговаривая: вот так винцо! бросили погоню за молодыми бесшабашными советниками и начали заигрывать с коллежскими и надворными советниками. По вечерам посещали друг друга в конурах, причем Дыба читал вслух «Ключ к таинствам природы» Эккартсгаузена и рассказывал анекдоты из жизни графа Михаила Николаевича, сопровождая эти рассказы приличным экспекторированием.
Итак, мы встретились и взаимно друг другу обрадовались.








