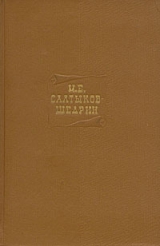
Текст книги "Том 14. За рубежом. Письма к тетеньке"
Автор книги: Михаил Салтыков-Щедрин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 36 (всего у книги 54 страниц)
С таким запасом знания школа ежегодно выбрасывала из своих недр тысячи юношей. Снабженные патентами, эти правящие юнцы переходили из малой казны в большую казну. Полученное скудное знание только в редких случаях давало позыв к дальнейшему самообразованию, в громадном же большинстве пробуждало лишь стремление как можно скорее и полнее воспользоваться добытою привилегией. Слава богу, «не мужик» – и будет с нас. Одной этой заслуги было вполне достаточно, чтобы признать человека способным и достойным. Все дороги открывались перед ним, дороги, уснащенные разнообразнейшими видами прав, привилегий, лакомств и наград. Понятно, какое несметное воинство шалопаев должно было оказаться в результате этой изумительной воспитательной муштровки, счастливо сочетавшей невежественность с системой поощрений и премий за оную.
Я не говорю, чтоб эти шалопаи были сплошь злые или порочные люди; я думаю даже, что, при легкомыслии тогдашнего воспитания, самое шалопайство не могло получить вполне злостного характера. И знаю многих, которые, с течением времени, опомнились. Но когда опомнились? – тогда, милая тетенька, когда старые корабли уже были сожжены, когда уйти назад в прошлое было нельзя, а идти вперед значило погрузиться в тот омут, в котором кишат расхитители, клеветники, сыщики и те неслыханные «публицисты», чудовищная помесь Мессалины и Марата, сумевшие соединить в своем ремесле распутство первой и человеконенавистничество последнего * . Картина этой бесовской вакханалии до такой степени испугала их, что они оказались более чистоплотными, нежели можно было ожидать.
Но могут ли эти опомнившиеся предпринять какую-нибудь борьбу? да и не только они, но даже и те «лучшие», которые, переступив через школьный порог, сразу признали шалопайство шалопайством? К сожалению, на эти вопросы приходится отвечать отрицательно. И у тех, и у других багаж до того легок, что невольно приходит на мысль, действительный ли это багаж или только примерный, принесенный с целью хоть что-нибудь держать в руках. Вместо знания – сетования на недостаточность их, вместо сил – жалобы на бессилие. Я согласен, что все это очень опрятно, трогательно и даже трагично, но с чем же тут орудовать?
Но этого мало. Я утверждаю, что только действительное знание, действительный труд могут вполне истребить ту вредную закваску легкомыслия, которую привела за собой безазбучно-взлелеянная молодость. Только они могут заставить забыть те омерзительные вкусы, те пошлые привычки, которые накоплены годами привилегированного досужества. При отсутствии труда и знания никакие благородства не устоят, никакие раскаяния не помогут. Чувство самое искреннее не помешает пробуждению повадливости, которая на все намерения и стремления набросит покров неспособности и бессилия.
Недостаток знания восполнялся в нашем воспитании эстетикой, но и эстетика эта была совершенно особенная. Бессодержательная, болтливая, с наклонностью к округлению периодов и далеко не чуждая представления о безделице. В основе лежала ежели не прямо чувственность, то скоропроходящая, мало задерживающая, почти болезненная впечатлительность.
Эта впечатлительность наделала нам про̀пасть вреда; она бросала нас из стороны в сторону и, по временам, приводила туда, где нам совсем не следовало быть. Вспомните наши старые «связи» – какой разнообразнейший калейдоскоп они представляли! Это была какая-то неслыханная окрошка, в которую входили обрывки и отброски всевозможных миросозерцании. И мы не только не формализировались уродливостью сочетаний, но были совершенно серьезно убеждены, что иначе и прожить нельзя. Была целая самостоятельная наука «о поддерживании связей», наука, прямо вытекавшая из общего поветрия повадливости, которое мешало нам обособиться и сосредоточиться в самих себе. Эта наука была в свое время настолько же обязательна, как и та, которая учила, что высший признак благовоспитанности заключается в устранении всякого повода для сравнения с «мужиком».
«Надо поддерживать связи!» – восклицали мы вместе с Грызуновым, а Грызунов и теперь – стоит только в окно посмотреть – мечется, как угорелый, из дома в дом и одну только мысль в голове держит: надо поддерживать связи! надо!
И когда рассудок вступил наконец в свои права, когда он, с помощью целого ряда горьких искусов, доказал, что дружить направо и налево нельзя, а в особенности, когда сделалось вполне ясным, что торжествующая действительность окончательно опаскудилась, – тогда мы застыдились и предпочли остаться в рядах действительности неторжествующей. Но много ли можно насчитать таких, которые при этом воистину свергли с себя ветхого человека? много ли таких, в которых воспоминания о «связях» прошлого не пробуждают подавленного вздоха? Говоря по совести, подобные субъекты составляют редкое, почти незаметное исключение, и я боюсь, милая тетенька, что и ваша жизнь, наравне с жизнью опомнившегося большинства, распалась на две половины, из которых в одной предъявляют свои права справедливость и стыд, а в другой все еще чувствуется позыв к шалостям (не решаюсь употребить более резкое выражение) прошлого.
Да, этот внутренний разлад несомненно существует. Шалости прошлого въедчивы; однажды войдя в плоть и кровь человека, они извлекаются оттуда тем с бо̀льшим трудом, что в общепринятой номенклатуре носят наименование шалостей, а не преступлений. Когда перед глазами совершается грандиозное хищничество, предательство или вероломство, то весьма естественно, что такого рода картина возбуждает в нас негодование; но когда перед нами происходит простая «шалость» – помилуйте, стоит ли из-за пустяков бурю в стакане воды поднимать! Шалость, в понятиях большинства, есть нечто грациозное, симпатичное; шалость! – да ведь это почти терпимость! Вот угрюмость, несообщительность, изолированность – это другое дело. Это качества, которые, по общепризнанному шаблону, предполагают беспощадный фанатизм, говорят воображению о гонениях, пытках, кострах. Угрюмый человек – это бич, от которого нечего ждать, кроме ран и скорпионов, это язва, от которой следует бежать. Не нужно предательства, но не нужно и угрюмости. Шаловливый человек – вот истинный «средний человек», с которым в одну минуту насчет чего угодно сговориться можно!
Все истинно-государственные люди были слегка шалунами. Гамбетта – шалун, Бисмарк – шалун. Все рейхс и ландстаги, все парламенты наполнены людьми, которые спят и видят, как бы пошалить. Отчего же не пошалить и нам с вами?
Что вы охотно шалите, голубушка, – это ни для кого не тайна, хотя вы скрываете ваши шалости и упорно не сознаетесь в них. Однако ж обличить вас положительно не трудно.
Пишете вы, например, мне, что совсем порвали связь с Пафнутьевым, а об Мартыне Задеке будто бы и не слыхивали, а между тем мне достоверно известно, что потихоньку вы им обоим назначаете тайные свидания в рощице и что при этом нередко присутствует и Иван Непомнящий. С вашей стороны это, конечно, только шалость, а Пафнутьев пользуется этим и распускает слухи, что, в сущности, тетенька симпатизирует ему и только потому облекает свои симпатии тайною, что боится, чтоб не пронюхали о ваших свиданиях потрясатели основ и подрыватели авторитетов.
Или еще. Вы пишете: за кого ты меня принимаешь, чтоб я стала «Помои» читать! – а между тем мне достоверно известно, что хоть одним глазком, а все-таки вы посматриваете в них. Ах, милая! видно, паскудство еще долго не перестанет быть соблазнительным! Все думается: вот сейчас сядет Ноздрев на пол и начнет проходящих женщин за подолы ловить! или: выйдет вперед Расплюев, с распухлой и распутной физиономией, и начнет рассказывать, какая вчера «игра была». Ну, не умора ли! и как хоть глазком на эту умору не посмотреть? А Ноздрев с Расплюевым пользуются этим и говорят: тетенька-то хоть и отрекается от нас, а все-таки свои пятаки нам отдает!
Вот, милая, какие последствия имеет шаловливость. Я только два примера привел, а если захотеть, какое множество других, еще более ярких, можно подыскать!
Хвалить вас за эту повадливость, конечно, нельзя, но следует ли считать уменьшающим вину обстоятельством ту тайну, в которую вы облекаете ваши шалости?
Я полагаю, что следует. Стыдливость, хоть и колеблющаяся, все-таки представляет послугу, которую, по всей справедливости, необходимо зачесть. Она подает надежду, что еще один шаг в этом направлении, еще одно усилие и…
Сделайте, милая тетенька, это усилие! Не ходите в рощу на свидание с Пафнутьевым, не перешептывайтесь с Мартыном Задекою и не заглядывайтесь на публицистов, которые, только по упущению, отвлеклись от прямого своего назначения: выкрикивать в Охотном ряду патоку с имбирем!
Это мой последний совет вам.
И сам я до смерти устал, да и вам бесконечно надоел. И «повторениями», и «блудливым заигрыванием», и «отрицанием принципа нравственности».
Всеми этими замечаниями почтила меня «критика». А мыто думали, что «критика» у нас пропала, а осталось только шалопайское подлавливанье словечек и фраз, с уснащением восклицательными и вопросительными знаками.
Что ж! эти приговоры нимало не удивляют меня. Тем, которые позабыли о существовании благородных мыслей, кажется диковинным и дерзким напоминанием об них. Слышите! о благородных мыслях печалиться! Слышите! говорит, что жизнь тяжела! восклицают певцы патоки с имбирем, и так как у них нет в запасе ни доказательств, ни опровержений, то естественно, что критика их завершается восклицанием: можно ли идти дальше этих геркулесовых столпов кощунства и дерзости!
Само собой разумеется, что это совсем особого рода «критики», которые не могут заставить ни остановиться, ни отступить. По-прежнему, покуда хватит сил, я буду повторять и напоминать; по-прежнему буду считать это делом совести и нравственным обязательством. Но не могу скрыть от вас, что служба эта очень тяжелая.
Всего тяжелее действует в этом случае ваша повадливость. Тянет вас, голубушка, и к клевете, и к скандалу, и к этим пахучим издевкам, которые у нас носят название «критики» и «полемики». И хоть я убежден вполне, что вы отлично сознаете, что тут, кроме гноя, ничего нет, но, к сожалению, существует какой-то гвоздь, который мешает вам преодолеть вашу исконную шаловливость. А апологисты охотнорядских Маратов, благодаря вашей неосмотрительности, процветают себе да процветают под флагом благонамеренности.
Подумайте об этом, благо на дворе лето, а вместе с тем наступает и пора отдохновения (для других лето – синоним страды, а для нас с вами – отдыха). Углубитесь в себя, ссоритесь с мыслями, да и порешите раз навсегда с вопросом о шалостях.
Скажите себе: попробую-ка я хоть на время позабыть о пропаганде сыска, клеветы и человеконенавистничества… Да, не откладывая дела в долгий ящик, и позабудьте. Увидите, что польза будет несомненная, да и сами вы почувствуете себя лучше, спокойнее духом, здоровее.
Сперва вы забудете на время, а потом, помаленьку да полегоньку, и совсем потеряете вкус к паскудству.
Я твердо убежден, что в делах современности от вас зависит многое, почти все. И даже не от деятельного участия вашего в жизненном круговороте, а просто от характера ваших отношений к жизненным явлениям. По-видимому, вы даже не подозреваете, что вы – сила, а между тем нет истины бесспорнее этой. Сознайте же свою силу, но не для того, чтоб безразлично посылать поцелуи правде и неправде, а для того, чтоб дать нравственную поддержку добросовестному и честному убеждению. Право, без этой поддержки невозможно сделать что-нибудь прочное.
Быть может, тон настоящего, последнегомоего к вам письма, до известной степени, изумит вас. Сравнивая его с первым, написанным почти год тому назад, вы не без основания найдете, что тетенькино обличье, с течением времени, несколько видоизменилось. Начал я с безусловных любезностей, а кончил чуть не нравоучением…
Да, это так: не могу я похвалиться выдержкою. По мере того, как намеченная задача развивается передо мной, она настолько проникает меня, что требования мои к ней постепенно растут и растут. Но так как одновременно с этим растет и самая задача, то я полагаю, что худого в этом нет. Именно это самое случилось и по вашему поводу. В течение года, в моем мнениивы настолько выросли, что первоначальные приемы родственной любезности представляются мне уже недостаточными. Нужно ли прибавлять, что от этого вы не только не подурнели на мой взгляд, но даже похорошели.
Затем передайте мой сердечный привет вашим домочадцам и прощайте. Sapienti sat * [242]242
Умный поймет.
[Закрыть].
Но знаете ли вы, милая тетенька, что означает «sapienti sat»?
Май 1882 г.
Из других редакций и неоконченное
<Письмо третье, редакция, запрещенная цензурой> *
III
Знаете ли, что̀ я выдумал, милая тетенька? – Обратимтесь-ка мы к содействию общества. *
Я слышу отсюда, как вы восклицаете: «Ах, опять эти бредни!» – Нет, это не бредни, мой друг. Коли хотите, это небольшое лганье, но не бредни… отнюдь! Ведь мы устроим наше предприятие не как-нибудь, а умненько. Не будем обязываться ни временем, ни местом, вообще никакими формами, а просто кликнем клич. Господа обыватели! милости просим! чем богаты, тем и рады!
Высказывайтесь. Но чур! высказываться не сговариваясь, а вразброд; не через зачинщиков, а каждый за свой счет; не задаваясь превратными толкованиями, а попросту, без затей; не настаивая, но предоставляя… Ибо лишь под условием полной независимости «содействий» можно различить, у кого за душой грош, а у кого и совсем нет ничего.
Но для чего же это содействие нам понадобилось? – удивитесь вы. – А для того, голубушка, чтобы прикрыться и прожить. Правда, до сих пор мы и без «содействий» были живы, но нынче так вышло, что, с помощью одних столоначальников, жить как будто стало зазорно. Чиновничество-то, ведь оказывается, * не благоустроило нас, а погубило. Бессильное в делах устройства и неблагопоспешное в делах строгости и скорости, оно легкомысленно просмотрело исчезновение наших краеугольных камней и не приняло соответствующих мер к упрочению наших основ. Вместо того чтобы смотреть в оба, оно, своим гнилым либеральничаньем, положило основание смуте, грозящей обществу разрушением. И, кроме того, оно же заслонило собою живую и здоровую Русь. Так обратимтесь же к ним, к этим непочатым и неиспорченным русским силам, которые не знают ни превратных толкований, ни ватерклозетов, ни конституций – ничего, занесенного к нам с гниющего Запада! Пусть они скажут свое трезвенное слово, пускай помогут нам в деле восстановления потрясенных основ!
Так вопиют все современные русские мудрецы: и те, которые заражают своим дыханием воздух Москвы, и те, которые собственным иждивением издают брошюры в Берлине и Лейпциге. * А нам с вами это подавно на руку, потому что мы и прежде были известны, как люди, при которых «содействий» плохо не клади. Стало быть, и прекрасно. Распоясывайтесь же, неиспорченные силы! Сказывайте, какие за вами есть трезвенные слова! Только, повторяю: не скопом, а каждый пусть растабарывает за себя.
И вот, на наш клич изо всех щелей выползают «содействователи». * Первым выступает Иванов, который наивно думает, что «потрясение основ» спрятано у кого-нибудь в кармане, и потому предлагает всех обыскать. Лично за себя он не боится. С одной стороны, душа его чиста, как только что вычищенная выгребная яма; с другой стороны, она до краев наполнена всяческими готовностями, как яма, сто лет не чищенная. Естественно, что он горит нетерпением показать свой товар лицом. Следом за Ивановым является Федотов – этот когда-то был высечен своими крепостными людьми и никак не может об этом забыть. Поэтому утверждает, что только власть сильная и вооруженная карами может удержать Россию на краю пропасти. За ним выходит на сцену Пафнутьев (тоже был своевременно сечен) с обширной запиской в руках, в которой касается вещей знаемых (с иронией) и незнаемых (с упованием на милость божию). И в заключение бормочет, что, ради спасения общества, гнилое и либеральничающее чиновничество следует упразднить, а вместо него учредить «средостение» * , споспешествуемое «оздоровлением корней». За Пафнутьевым идут разных шерстей ублюдки. Во-первых, маркиз Шассе-Круазѐ, который сетует на то, что, живя безвыездно в курском имении, только он с семьей да с гувернанткой-немкой и посещает храм божий. Во-вторых, барон Ферфлюхтер, который ни на что особенно не сетует, но язвительно спрашивает: почему же ничего подобного не примечается в Остзейском крае? И, наконец, князь Мирза-Мамай Тохтамышев, который пишет кратко: «Ишто̀ з намы изделалось – ннэпаннымаю!»
Вот какое богатство «содействий» сразу на свет божий выползло. И что̀ хочешь, то с ними и делай! Хочешь – величественное здание общественного благоустройства воздвигай; хочешь – в помойную яму вали! Но я, с своей стороны, полагаю: в помойную яму ближе.
И что̀ в особенности дорого: за каждым Ивановым – масса Ивановых; за каждым Пафнутьевым – легионы Пафнутьевых. И все в один голос каркают: обыскать! в бараний рог согнуть! к одному знаменателю привести! Какое величественное зрелище! и как должны быть счастливы мы с вами, тетенька, что догадались отыскать выход благонамеренному огню, сожигающему сердца этих не весьма изобретательных людей!
Но ведь вы и опять, пожалуй, возразите. Неужели, однако ж, скажете вы, в плотной массе Ивановых не найдется таких, которым небезызвестны и другого рода слова? – Не спорю; вероятно, где-нибудь такие Ивановы и ютятся; так ведь это, мой друг, Ивановы неблагонамеренные, которых содействие нам не нужно. Каким же образом они найдутся, коль скоро никто их не ищет?
Заметьте раз навсегда: когда кличут клич, то из нор выползают только те Ивановы, которые нужны, а те, которые не нужны – остаются в норах и трепещут. Это само собою так делается, ибо таков естественный закон благоустройства и благочиния. И, надо прибавить, закон очень целесообразный, потому что он устраняет разномыслие и подтверждает вожделенное «единение», с присовокуплением (в небольшой дозе) «средостения» и (больше чем нужно) «оздоровления корней». Благодаря этому закону трепещущие Ивановы безмолвствуют, а дерзающие Ивановы славословят: всех в три кнута жарь! И затем, так как только одни эти славословия и слышны, то совокупность их и составляет то «содействие», которое должно нас удовлетворить.
Да, милая тетенька, «жарь!» – таков смысл современных содействий. Всех жарь, а в том числе и их, прохвостов. Тем-то и хороши наши Ивановы, Пафнутьевы и проч., что они не только чужой, но и своей шкуры не жалеют. А не жалеют они своей шкуры отчасти потому, что таково ее провиденциальное назначение, отчасти же потому, что если им одну шкуру спустят, то мигом нарастет другая. Эта последняя уверенность до такой степени окриляет их, что они подставляют свои спины почти играючи.
Ввиду столь беззаветной готовности, что̀ надлежит предпринять? – Не знаю, как вы, милая тетенька, а я положительно утверждаю: жарить – только и всего. Во-первых, ведь и мы с вами, когда эту кампанию предпринимали, – разве мы не молили втайне у судьбы: ах, кабы вышло «жарить!». А во-вторых, этого, очевидно, требует современный «общественный гений».
Во всяком случае, достоверно известно, что «содействие общества» ответило нам словом: жарь! Небольшое, но золотое это слово. Кроме того, что к нему все испокон века привыкли, самое содержание его до такой степени просто, что достаточно быть заурядным прохвостом, чтобы осуществить его во всех частях. А главное, оно дает нам отличнейшую точку опоры для воздействий в будущем. Отныне никто уже не обвинит нас в произволе, потому что на все обвинения мы ответим прямо: за нами стоит «общество»! И ежели затем, сильные общественным содействием, мы напишем на нашем знамени: жарь! – то эхо долин может уже сколько угодно перекатывать это слово из одного конца России в другой, и мы не будем иметь надобности краснеть.
Право, с такими «содействователями» жить еще можно, но только, разумеется, чтобы никто не видал. Увидят – засмеют… а нам что̀ за дело! Мы будем свое долбить: жарь! да, пожалуй, ради прилику слегка понатужимся, будто бы собираемся нечто родить, а прохожие, видя эти потуги, будут ахать: вот как тетеньке трудно! соком, должно быть, «содействия»-то наши из нее выходят! Смотришь, ан годик-другой между разговоров и пройдет!
А все оттого, что мы с самого начала это дело умно повели. Соблюди мы условия времени и места, собери Ивановых чередом, да предоставь им выбрать из своей среды зачинщиков – совсем другое бы вышло. Иванов – он на народе конфузлив. Поставь его на юру, да заставь всенародно признаваться – у него язык, пожалуй, к гортани прилипнет или же такое что-нибудь внезапное возвестит, что у нас с вами и уши завянут. А врассыпную, да ежели притом он удостоверен, что никто об его подвигах не проведает, он все, что̀ от родителей слышал, то̀ и выложит.
Не скрою от вас, однако ж, что как ни безобидным кажется это простомысленное единогласие, но находятся уже люди, которых и оно начинает тревожить. И не простецы какие-нибудь, как, например, мы с вами, а люди опытные, искушенные жизнью. Слово «жарь» напоминает им нечто приказательное, вроде mandat impératif [243]243
наказа избирателей депутату.
[Закрыть], да и самое единомыслие представляется назойливостью, могущею перейти в своеволие и стеснить свободу воздействия. Чего бы, кажется, проще сказать: «что угодно?» – говорят они, – и скромно, и благородно, и без хлопот… Так вот нет же, словно сбесились… «жарь»! крамольники!
В числе таких прихотливых людей оказался и Ноздрев * – помните, Ноздрев, с которым мы когда-то познакомились у Гоголя. Не пугайтесь, однако ж; это – далеко уже не тот буян Ноздрев, которого мы знавали в цветущую пору молодости (помилуйте! на балу сел на пол и ловил дам за подолы!), но солидный, хотя и прогоревший консерватор. Штука в том, что ему посчастливилось сделать какой-то удивительно удачный донос, который сначала обратил на него внимание охранительной русской прессы, а потом дальше да выше – и вдруг в нем совершился спасительный переворот! Теперь он пьет только померанцевку, трактиры посещает исключительно ради внутренней политики и обе бакенбарды содержит одинаковой длины и одинаковой пушистости. Словом сказать, стоит на высоте положения и нимало не тяготится этим.
Встретились мы с ним на днях на Невском, и, признаюсь вам, первым моим движением было бежать. Однако вижу, что малый-то серьезный, того гляди, городового кликнет; делать нечего, подошел и начал льстить (ужасно во мне эта черта в последнее время обострилась, и все оттого, что комиссия, занимающаяся шкурным вопросом, до сих пор не привела своих трудов к окончанию). Прежде всего, разумеется, вспомнили, как мы с ним и с Чичиковым (вот истинный-то охранитель был! и как бы его сердце теперь радовалось!) поросенка на постоялом дворе ели; потом перешли к Мижуеву…
Ах, тетенька, какое это волшебное время было! Представьте себе: тогда поросенка под хреном на постоялом дворе можно было достать! И можно было видеть мужика, который «ел добры щи и пиво пил!» Где это было? в какой губернии, в каком уезде? и кто в то время был в том месте становым приставом? Признаюсь, у меня даже голос дрогнул при мысли, что все эти факты прошли у нас перед глазами и что они возникли без малейшего участия земства, единственно по манию волшебника-станового…
Но едва я осведомился об мижуевском здоровье, как Ноздрев почти с нетерпением прервал меня:
– Ну, что̀ там про Мижуева вспоминать! Известно, в земстве больничные рукомойники лудит! Вы лучше про меня спросите! Ведь я, батюшка, охранителем сделался-с! В «деятели» попал! в деятели… да-с!
И он рассказал мне все по порядку. Ка̀к, для начала карьеры, он сделал донос; ка̀к это блестящее дело обратило на него внимание; ка̀к, вследствие этого, он попал в члены (неплатящие) «Общества частной инициативы спасения», ка̀к первый возбудил мысль о «содействиях» и после того был выбран в учрежденную при «Обществе» комиссию для разбора обывательских содействий.
– Теперь я состою главным делопроизводителем этого учреждения, – прибавил он солидно, – получаю прекраснейшее содержание, пользуюсь любовью подчиненных и, ежели пожелаю, могу жениться на купчихе с хорошим состоянием.
Некоторое время я слушал его и ничего не понимал. Я даже заглянул ему в лицо, чтобы удостовериться, обе ли бакенбарды у него целы. Но он смотрел так ясно и, по-видимому, был так уверен, что земля, что̀ бы он ни говорил, не разверзнется под ним, что мне ничего другого не оставалось, как сказать себе, что, по крайней мере, на этот раз он не врет.
Вообще говоря, я не любопытен. Но нынче такое любопытнейшее время настало и такие любопытнейшие люди на сцену выступили, что, право, какого хотите равнодушного человека ожжет. Делать нечего, завернули в трактир и взяли особенный кабинет. Затем рюмку померанцевки, подовый пирог: признавайся!
И начал он мне, милая тетенька, сказки рассказывать…
– Комиссия наша, – говорит, – учреждение не частное, но и не казенное. С одной стороны, как будто частное – но с субсидией; с другой стороны, как будто казенное – но с тем, чтоб никому об этом не говорить. Для начатия действий у нас открыто только два отделения: одно под названием «Что Нужно?», а другое под названием «Что Ненужно?» В ближайшем будущем предполагается, впрочем, открыть еще третье отделение, под названием «И Да и Нет, или: Ненужное не нужнее ли Нужного?» Но так как финансы нашего «Общества» не особенно густы, то, до поры до времени, дела этого отделения отчасти оставляются без рассмотрения, отчасти же распределяются между сторожами, под руководством отставного архивариуса, у которого написано на лбу: «Что̀ сей сон значит?»
– Ноздрев! вы врете! – не удержался я.
– С места не сойти, коли лгу! Да вы, милый человек, не кипятитесь, а лучше велите-ка сразу графинчик на стол поставить. И мне поваднее будет, да и половому не придется за каждой рюмкой в буфет бегать.
– Что графинчик! хоть целую батарею, только, сделайте милость, рассказывайте!
Он выпил, одну за другой, три рюмки, обсосал усы и продолжал:
– Ну-с, так вот. Поустроились мы для начала, да и объявили конкурс. Господа обыватели! Что нужно? Чего не нужно? «Ответствуй, друг! реши мое сомненье!» Посодействуйте! Думали, значит, что десяток-другой выскочит – и шабаш! ан, вышла неожиданность. Не успели объявить, как их слошю прорвало, отовсюду так и лезут! Из Карасубазара, и из Пинеги, и из Челябы, и из Копыса; словом сказать, целый бунт!
– Об чем же они пишут?
– Да все одно слово долбят: жарь! Только непременно всякий при этом какую-нибудь сказку скажет. Один пишет: «А еще присовокупляю, что до приведения в порядок умов необходимо все учебные заведения закрыть». Другой присовокупляет: «Изложив все сие по сущей совести, повергаю себя и свою семью, из собственных малолетних детей и сирот племянников состоящую, на усмотрение». А третий, пользуясь сим случаем, шлет донос на соседа-помещика, на попа, на сельского учителя…
– Какой, однако ж, прекрасный наплыв чувств!
– Нда… наплыв! И мы тоже сгоряча думали, что наплыв…
– Послушайте! да неужто даже этого мало?
– «Мало»! не мало-с, а нахально, возмутительно – вот что̀-с! Скажите на милость… жарь! как будто и слов других в русском лексиконе не нашлось! Приказывать изволят! а? ведь это уж не содействием пахнет, а «разнузданностью страстей»! Без них, изволите видеть, не знают! ах ты, сделай милость! А ежели жарить, по обстоятельствам, признается неудобным? а ежели для такой операции не имеется в виду достаточно опытных исполнителей? а ежели, по обстоятельствам…
– Но ведь они и некоторые практические меры предлагают. Доносят на учителей, на попов, советуют закрыть учебные заведения, произвести всенародный обыск, учредить средостение, оздоровление корней…
Но Ноздрев не слушал меня. В пылу негодования, он опрокинул в рот новую рюмку водки, и так несчастливо, что поперхнулся и весь посинел. С полчаса двое половых колотили его в загривок, пока наконец выходили.
– Порросята! – продолжал он в исступлении, – ласки не понимают! снисхождения оказать нельзя! Язык, изволите видеть, отвалится «как угодно» сказать… Кррамольники !..
– На чем же, однако, вы порешили? – спросил я, весь сжимаясь от страха при виде этого неожиданного исступления.
Ноздрев уже разинул рот, чтоб продолжать свой рассказ, как случилось нечто, совсем неожиданное. В дверях показалась и сейчас же, впрочем, скрылась чья-то голова, и Ноздрев, увидев ее, вдруг побледнел. Затем он как-то судорожно заторопился, схватил двугривенный, который я плохо держал в руках, и не успел я крикнуть: «Держи! лови!», как он уже был за порогом трактира.
Внезапный перерыв разговора, столь благоприятно начавшегося, весьма меня огорчил. Во-первых, я намеревался еще поспорить с Ноздревым и доказать ему, что он чересчур прихотлив. Во-вторых, меня очень интересовало знать, ка̀к поступит он с простодушными содействователями, которых усердие, им же самим вызванное, перешло, по его мнению, в «разнузданность страстей». В-третьих, наконец, мне чуялось, что он далеко не все мне открыл и что за фантастическими формами, в которые он облек свой рассказ, скрывается какое-то ядро, которое было бы нелишне раскусить. Раскусить и, разумеется, сейчас же выплюнуть. *
Коли хотите, негодование Ноздрева на резкий характер современных обывательских содействий не лишено было известной доли основательности, потому что ежели поставить рядом выражения «жарь» и «как угодно», то, конечно, придется отдать преимущество последнему. Слово «жарь» (особливо в тысячекратно повторенном виде) имеет в себе нечто принудительное, почти революционное. Оно декретирует целую систему, и притом декретирует устами таких людей, которые до сих пор ели из одного корыта с поросятами. Понимают ли эти люди значение произносимого ими возгласа, могут ли они уяснить себе, сколько новых расходов потребует его осуществление – это более чем сомнительно. Я, по крайней мере, думаю, что они потому только и выкрикивают: жарь – что слышали, как их родители то же самое слово провозглашали, pro domo sua, на конюшнях и псарнях. Но они положительно не понимают, что жарить не всегда удобно и возможно, что всеобщее сечение потребует целую армию исполнителей с новыми штатами и приличествующим содержанием и что, во всяком случае, требование, выраженное в форме столь резко обязательной, должно стеснять свободу воздействия и вследствие этого казаться опасным. Ибо сто̀ит лишь стать на покатость, а там уж оно и само собой под гору пойдет. Сначала кричат: «Жарь!», а потом, пожалуй, будут кричать: «Довольно жарить!» Понятно, что подобного рода перспективы не могут не тревожить таких опытных знатоков человеческого сердца, как Ноздрев.








