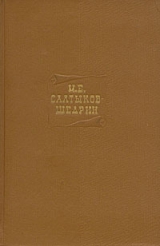
Текст книги "Том 14. За рубежом. Письма к тетеньке"
Автор книги: Михаил Салтыков-Щедрин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 54 страниц)
Вы в восхищении от Финагеича, а я и того больше, потому что для меня он пример и доказательство. Я всегда говорил: для того чтоб сделаться Финагеичем, нужно только уметь «подстерегать», а кому же и кто в этом препятствие полагал? А если и встречается препятствие, то оно не от чьей-нибудь воли исходит, а есть следствие естественной и ни от кого не зависящей игры экономических законов. Эта игра не допускает, чтобы вседержали кабаки, всеторговали яйцами, всеподстерегали мужичка. И не допускает правильно, потому что если бы все-то подстерегали, тогда и подстерегать было бы некого. Но повторяю: никто в этом не причинен, а само собою оно так делается. Пути никому не заказаны, а успевает, разумеется, тот, кто острым разумом одарен. Помните вашего Ваньку-форейтора? – так пред ним хоть все двери настежь отворите, он все-таки мимо пройдет. На днях приходит, по старой памяти, ко мне – ну, так ослаб, так ослаб, что на ногах не стоит! Жил прежде в извозчиках, а теперь ни один хозяин даже в этой скромной должности его держать не хочет. Ну, и я, с своей стороны, не только ничего ему не дал, а, напротив, сказал: пеняй, братец, сам на себя! Но пеняет ли он после моего поучения или не пеняет – это уж я сказать не умею.
Однако ж, кажется, я увлекся в политико-экономическую сферу, которая в письмах к родственникам неуместна… Что делать! такова уж слабость моя! Сколько раз я сам себе говорил: надо построже за собой смотреть! Ну, и смотришь, да проку как-то мало из этого самонаблюдения выходит. Стар я и болтлив становлюсь. Да и старинные предания в свежей памяти * , так что хоть и знаешь, что нынче свободно, а все как будто не верится. Вот и стараешься болтовней след замести.
В сущности, когда, по прибытии из-за границы, я, обращаясь к домочадцам, сказал: кушайте и гуляйте – я именно настоящую ноту угадал. Но когда я к тому прибавил: а дальше видно будет – то заблуждался. Ничего не будет видно.
На днях, пообедавши, достал я старинные книжки: Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Полежаева, еще кой-кого – и стал читать. Хорошо – слова нет, но как-то странно… Для чего все это писалось? Блестящие мысли, раздражающие подстрекательства, мечты, бредни, а трезвенных слов – ни одного. Скажите, разве современному человеку мечты нужны? нет, ему гораздо приятнее знать, снабжены ли городовые свистками и бодрствуют ли дворники. Ежели снабжены и бодрствуют – он спокоен; ежели не снабжены и спят – он дрожит. Не до Пушкиных нам. Вот когда все устроится прочно, когда во всех сердцах поселится уверенность, что с внутренней смутой покончено, – тогда и опять за Пушкина с Лермонтовым можно будет взяться. Ибо, в сущности, они писали недурно – этого нельзя отрицать.
Не дальше как вчера я эту самую мысль подробно разбивал перед общим нашим другом, Глумовым * , и представьте себе, что̀ он мне ответил! «К тому, говорит, времени, как все-то устроится, ты такой скотиной сделаешься, что не только Пушкина с Лермонтовым, а и Фета с Майковым понимать перестанешь!» * Но что всего обиднее: сказать-то не поцеремонился, а обедать остался. За обедом, однако ж, я стал требовать от него объяснения, в каком смысле слова его понимать нужно, и как бы, вы думали, он объяснился? «Да ты, говорит, подойди к зеркалу да и посмотри на себя!» Ну, и домочадцы тут же пристали: посмотрись да посмотрись! Делать нечего, встал, посмотрелся – ан из глаз-то у меня поросенок под хреном глядит!!
Но обществу до всех этих глумовских превыспренностей дела нет; общество хочет жить. Я не знаю, как вам это объяснить, милая тетенька, но именно одна эта идея и господствует над всем. То есть идея об ограждении человеческой породы от могущих угрожать ей случайностей исчезновения. В одно прекрасное утро вы выходите на улицу и видите, что все живущее съежилось. Вот это-то самое и означает, что «общество» вознамерилось оградить себя от напрасной смерти. Оно не высказывается прямо ни относительно людей, зараженных «бреднями», ни относительно дворников, но как-то уж чересчур проворно перебегает с одной стороны улицы на другую, как только завидит возможность сомнительной встречи. Вы видите целую массу обуреваемых жаждою жизни людей и только удивляетесь храбрости, с которою они рискуют попасть под колеса конножелезнодорожных вагонов и скачущих взад и вперед экипажей.
Да̀, есть и у трусости своего рода храбрость. Недаром компетентные люди рассказывают, что встречаются субъекты, которые, имея в перспективе завтрашнее сражение, предпочитают накануне покончить с собой при помощи удавки…
Я вовсе не хочу сказать этим, что господствующий в современном обществе тон – предательство и вероломство. Я говорю только, что над общественным организмом, в каких бы условиях существования он ни находился, всегда тяготеет непременное желание жить. При благоприятных условиях это желание выражается свободно, естественно; при условиях неблагоприятных – спутанно и уклончиво. Если б можно было ходить по улице «не встречаясь», любой из компарсов современной общественной массы шел бы прямо и не озираясь: но так как жизнь сложна и чревата всякими встречами, так как «встречи» эти разнообразны и непредвиденны, да и люди, которые могут «увидеть», тоже разнообразны и непредвиденны, – вот наш компарс и бежит во все лопатки на другую сторону улицы, рискуя попасть под лошадей.
На мой вкус, эта храбрость не симпатична; однако не могу не сказать в ее оправдание, что при известных условиях она принимает почти обязательный характер. В отношении к отдельным и выдающимся личностям излишнее чувство самосохранения, конечно, не должно считаться особенно похвальным качеством, но общество, взятое в целом, руководится в этом случае совсем иными правилами. Оно обязывается сохранитьсебядаже ценою временного обезличения. Так что, ежели вы видите массы компарсов, перебегающих с одной стороны улицы на другую, под влиянием общественного переполоха, то это совсем не значит, что общество изменило своим симпатиям и антипатиям, а значит только, что оно не сознает себя достаточно сильным, чтобы относиться самостоятельно к дворницкому игу.
Эпохи, в которые с особенной силой проявляется это общественное двоегласие, суть эпохи очень печальные и, может быть, даже безнравственные. Но нельзя, не впадая в крайнюю несправедливость, относить к обществу то чувство негодования, которое при этом возбуждается. Не оно тут на первом плане, а тот воздух, те миазмы, которыми оно дышит. Ведь оно дышит этими миазмами не добровольно; не потому, что признает их здоровыми, а потому, что деваться от них некуда. А между тем, повторяю, на нем, на этом еле дышащем обществе, лежит фаталистическая обязанность жить. Жить, то есть оградить будущее идущих за ним поколений.
Наше общество немногочисленно и не сильно. Притом, оно искони идет вразброд. Но я убежден, что никакая случайная вакханалия не в силах потушить те искорки, которые уже засветились в нем. Вот почему я и повторяю, что хлевное ликование может только наружно окатить общество, но не снесет его, вместе с грязью, в водосточную яму. Я, впрочем, не отрицаю, что периодическое повторение хлевных торжеств может повергнуть общество в уныние, но ведь уныние не есть отрицание жизни, а только скорбь по ней.
То же самое явление обезличения несчетное число раз отражалось и на нашей литературе, и именно по преимуществу на той ее части, которая провозглашала принципы человечности и была наиболее предана интересам родины. Бывали для этой литературы времена очень тяжкие, и длились они беспросветно и бессрочно, но она и за всем тем никогда не умолкала. Как бы инстинктивно чувствовала она, что на ней лежит обязанность оберечь будущее человеческой мысли, будущее лучших человеческих стремлении, и что если она хоть на минуту смолкнет, то молчание это будет равносильно смерти. Благодаря этому, она живет и доднесь. Серая, чахлая, еле дышащая, но живет. *
Нет зрелища, более надрывающего человеческое сердце, как зрелище общего уныния, общей скорби по жизни. Но все-таки не надо думать, что общество когда-нибудь погибнет под гнетом этого уныния и что оно вынуждено будет воспринять хлевные принципы в свои нравы. Надо гнать прочь эту мысль даже в том случае, ежели она выступает вперед назойливо и доказательно. Надо всечасно говорить себе: нет, этому нельзя статься! не может быть, чтоб бунтующий хлев покорил себе вселенную! Не следует забывать, что хлевные принципы обязаны своим торжеством лишь совершенно исключительным обстоятельствам, которым общество ни в каком случае непричастно. Но ведь должна же когда-нибудь настоящая, правильная жизнь вступить в свои права. И она вступит. И компарсы, * так усердно, под гнетом паники, перебегающие через дорогу, * дабы уйти от компрометирующих встреч, вновь почувствуют присутствие оживляющих искорок и сумеют отличить тех, которые в минуты уныния поддерживали в обществе веру в жизнь, от тех, которые вносили в него только язву междоусобия.
Я твердо верю, что такой момент наступит и что так называемые «бредни» ежели и не восторжествуют вполне, то, во всяком случае, будут иметь свое значение на весах будущего. Поэтому и вас, милая тетенька, прошу: не ослабевайте! Кушайте, гуляйте, почивайте! но все-таки помните, что прошлое обязывает. И ежели ваш урядник будет вас убеждать: сударыня! послушайте, какой приятный лай с Москвы несется * – не присоедините ли и вы к нему своего собственного? – то отвечайте кратко, но твердо: во-первых, я не умею лаять, а во-вторых, если б и умела, то предпочла бы лаять самостоятельно.
«Бредни» слишком разнообразны по своим целям, чтобы та или другая могла претендовать на непосредственное и всецелое осуществление. Но важно то, что у всех у них основной принцип один: человечность. Подробностями и даже некоторыми существенными чертами можно и поступиться, но если даже только одно общее представление о человечности найдет себе достаточно прозелитов, то и это уже значительный шаг вперед. Человечность прольет в жизнь бальзам умиротворения, сообщит ей смягчающие тоны, удалит трепеты и сделает ее способною развиваться * .
Повторяю: я убежден, что честные люди не только пребудут честными, но и победят, и что на стороне человеконенавистничества останутся лишь люди, вконец раздавленные личными интересами. Я, впрочем, отнюдь не отрицаю ни силы, ни законности личных интересов, но встречаются между ними столь низменные и даже столь подлые, что трудно найти почву, на которой можно было бы примириться с ними. Вот эти-то подлые инстинкты и обладают человеконенавистниками.
Будьте же бодры, голубушка, и не смущайтесь духом при виде компарсов, проворно улепетывающих ввиду непредвиденных встреч. Но кстати: так как вы жалуетесь на вашего соседа Пафнутьев * а, который некогда вас либеральными записками донимал, а теперь поговаривает: «надо же, наконец, серьезно взглянуть в глаза опасности…», то, относительно этого человека, говорю вам прямо: опасайтесь его! ибо это совсем не компарс, а корифей. Давно уж он «сведущим человеком» смотрит, давно протягивает руку к трубе, и в настоящую минуту, быть может, уже подносит ее к губам, чтобы вострубить.
Вообще эти земские грамотеи * глубоко мне не по душе. Орфографии не знают, о словосочинении – никогда не слыхивали, знаки препинания – ставят ad libitum [206]206
где им заблагорассудится.
[Закрыть], a непременно хотят либеральные мысли излагать. Да и мысли-то какие – по грошу пара! Когда-нибудь я подробнее с вами об этих корифеях поговорю, а теперь только повторяю: опасайтесь Пафнутьева, ибо у него в голове засело предательство. Это корифей, который только для прилику задумчивость на себя напускает, а в действительности он уж давно что̀ следует разрешил, куда следует перебежал и теперь охорашивается. Таких людей нынче очень много развелось, и все они во что-то «серьезно вглядываются», в чаянии, что их куда-то призовут, хоть в переднюю посидеть. Но, право, мне кажется, что подождет-подождет ваш Пафнутьев, а его так-таки никуда и не призовут: пускай в Торопце изнывает! Тогда он и опять к вам с либеральной запиской приедет, – только уж вы, сделайте милость, прикажите его в ту пору в три шеи по лестнице гнать, потому что он, в противном случае, весь ваш дом запакостит. Уряднику, разумеется, об его вольнодумстве не доносите – это нехорошо, – а просто собственными средствами распорядитесь.
Помните ли вы тот вечер, когда Пафнутьев в нашем маленьком кружке (тут были: вы, я, маркиз Шассе-Краузе, Иванов, Федотов и в качестве депутата от крестьян ваш сельский староста Прохор Распрота̀ков) прочитал свою первую либеральную записку: «Имеяй уши слышати да слышит»? * Помните, как, по окончании чтения, вы отозвали меня в сторону и сказали: «ах, все мое существо проникнуто какою-то невыразимо сладкою музыкой!» А я на это (сознаюсь: я был груб и неделикатен) ответил: не понимаю, как это вы так легко по всякому поводу музыкой наполняетесь! просто дрянцо с пыльцой. Ах, как вы тогда на меня рассердились! Назвали неверующим, бессердечным, un homme qui ne comprend pas la poésie du coeur… [207]207
человеком, который не понимает поэзии сердца.
[Закрыть]
И я был глубоко несчастлив, слушая ваши укоры, до того несчастлив, что готов был просить у вас прощения и поцеловать Пафнутьева в уста… А теперь, что̀ источают эти уста? Чей суд был правее: ваш или мой?
Нет, ради бога, не смешивайте вероломного корифейства Пафнутьевых с тою гнетущею подавленностью, которую вы, от времени до времени, замечаете в обществе! Примиритесь с последнею и опасайтесь первого.
Письмо четвертое *
А вот вам и еще оазис.
На днях стою у окна и вижу, что напротив, через улицу, в растворенном окне, вставши на подоконник и подоткнув платье, старушка перетирает стекла под зимние рамы. Беру бинокль, взглядываюсь и кого ж узнаю – Федосьюшку!
Помните ли вы Федосьюшку, которая при деденьке у вас в доме ключницей была? Еще странный такой случай с ней был: до сорока пяти лет, покуда крепостною была, ни на какие соблазны не сдавалась, слыла девицею, а как только крепостное право упразднили, так сейчас же забеременела? Помните, как покойный деденька стыдил ее, как ваш тогдашний батюшка, отец Яков, по просьбе деденьки, ее усовещивал: «ты думала любезноверное ликование этим поступком изобразить, ан, вместо того, явила лишь легковерие и строптивость!» Зачем они ее стыдили и усовещивали – теперь я этого совершенно не понимаю; но тогда мне и самому казалось: ах, какую черную неблагодарность Федосьюшка выказала! Однако как ни стыдили Федосьюшку, а она взяла да и родила Домнушку. Теперь этой Домнушке невступно двадцать лет, только она уж не Домнушка, а Ератидушка и обладает очень серьезными женскими атурами, которыми распоряжается с большим тактом. Впрочем, не будем предупреждать события…
Понятно, что один вид Федосыошки взбудоражил во мне все дорогие воспоминания прошлого. До такой степени взбудоражил, что я не воздержался и на всю улицу крикнул:
– Федосьюшка! ты?!
Сначала она испугалась и чуть на мостовую не грохнулась; но когда увидела мои распростертые руки, то и сама умилилась душой. А через несколько минут мы уже беседовали, как старые приятели.
Тетенька! представьте себе, у Федосьюшки есть шляпка и ротонда! Шляпка, правда, не совсем модная, но года два тому назад и вы охотно надели бы такую. С красным пером. Ротонда тоже не раз в чистке бывала, однако и теперь хоть статской советнице надеть не стыдно. Дома она ходит в чепце с оборками и в люстриновой блузе (исключая, однако ж, те случаи, когда моет окошки), но, идя ко мне, приоделась, надела шелковый капот масака̀ и, кажется, даже подмостила под него крахмальную юбку. Словом, старушка – хоть сейчас к любому столоначальнику в посаженые матери.
– Да какая же ты франтиха, Федосьюшка! – изумился я.
– А это меня дочка награждает, – отвечала она, – поносит-поносит, а потом мне отдаст. Кое я продам, а кое – перешью и донашиваю.
Стали мы с ней о прошлых временах вспоминать: оказывается, что она благодарная. О крепостном праве вспоминает с удовольствием, говорит, что только тогда и был настоящий страх божий. И об вас вспомнила и много расспрашивала: помните, говорит, вы с барышней соловьев в рощу слушать ходили? Призналась, что в повара Тимофея двадцать лет сряду была влюблена, но все не смела, а когда волю объявили, тогда осмелилась. Что, впрочем, совсем это не было с ее стороны строптивостью или желанием показать, что вот она теперь вольная, а надо же было когда-нибудь… А Тимофей, поживши на воле, сначала «ослаб», потом ослеп, а теперь поступил в богадельню. И она к нему раза два в месяц ходит, когда целковый, когда два снесет, да чайку, да сахарку: все же не чужие были!
– У кого же ты теперь живешь, Федосьюшка? – спросил я.
– А тут у дочки, насупротив вас, в квартире и живу. Да меня, признаться, Федосьей-то нынче уж не зовут, а Катериной, да еще Карловной. Да и Катериной-то зваться не велят, а Екатериной. И дочку из Домны в Ератиду переделали.
– Кто же это вас так окрестил?
– Все кавалеры наши… Ератидушка-то сразу к новому имени привыкла, а я долгонько-таки путалась. Пуще всего – а̀нделов прежниих жалко; я своему-то анделу двадцать девятого мая прежде праздновала, а нынче двадцать четвертого ноября праздновать велят.
– Господи! так, стало-быть, Домнушка-то…
– Что̀ уж! шила в мешке, видно, не утаишь! В какетках, сударь, она. Так и в участке прописана.
– Коко̀тка то есть?
– Какотка ли, какетка ли… кто их там разберет! А впрочем, ничего, живем хорошо: за квартиру две тысячи в год платим, пару лошадей держим… Только притесняют уж очень это самое звание. С других за эту самую квартиру положение полторы тысячи, а с нас – две; с других за пару-то лошадей сто рублей в месяц берут, а с нас – полтораста. Вот Ератидушка-то и старается.
– Да каким же образом она на эту дорогу попала?
– А ка̀к попала?.. жила я в ту пору у купца у древнего в кухарках, а Домнушке шестнадцатый годок пошел. Только стал это старик на нее поглядывать, зазовет к себе в комнату да все рукой гладит. Смотрела я, смотрела и говорю: ну говорю, Домашка, ежели да ты… А она мне: неужто ж я, маменька, себя не понимаю? И точно, сударь! прошло ли с месяц времени, как уж она это сделала, только он ей разом десять тысяч отвалил. Ну, мы сейчас от него и отошли.
– Ах! как же это вы так! – огорчился я за старика.
– Ну, что его жалеть! Пожил-таки в свое удовольствие, старости лет сподобился – чего ему, псу, еще надо? Лежи да полеживай, а то на-тко что̀ вздумал! Ну, хорошо; получили мы этта деньги, и та̀к мне захотелось опять в Ворошилово, та̀к захотелось! та̀к захотелось! Только об одном и думаю: попрошу у барыни полдесятинки за старую услугу отрезать, выстрою питейный да лавочку и стану помаленьку торговать. Так что ж бы вы думали, Ератидушка-то моя? – зажала деньги в руку и не отдает!
Федосьюшка закручинилась и уронила слезу. Я хотел было эту слезу залучить в пузырек, чтобы потом подвергнуть ее химическому разложению и определить, сколько в ней частиц семейного союза содержится и сколько других примесей, но, к сожалению, она торопливо отерла глаза и продолжала свое повествование.
Оказывается, что ведь Домнушка-то – умница! Несмотря свои шестнадцать лет, она сейчас же поняла, что до поры до времени ей незачем в деревню ехать. Получивши от старика-купца десять тысяч, она рассудила, что это только начало и что в будущем ее молодость и красота должны дать ей гораздо больше. Поэтому, рискуя огорчить мамашу, она не только не отдала ей денег, но в короткое время рассорила их, по-видимому, самым непроизводительным образом. Наняла француженку, танцмейстера, учительницу музыки и целых полгода себя «обнатуривала», так что теперь и канкан может станцовать и на фортепианах побренчать, и «La chose» пропеть. Зато во всем прочем выказала бережливость самую рассудительную. «Бывало (сказывала мне Федосьюшка), извозчик двугривенный просит, так она ему никогда больше пятиалтынного не даст». И когда почувствовала, что совсем готова, то начала похаживать по гостиному двору.
Это был решительный шаг, которым она еще раз доказала, какая она умница. Она отлично поняла, что хотя у купцов шпор нет, но зато у них есть лавки и в них всякий товар. Стало быть, деньги деньгами, а материи, вещи и бакалея – само собой. И точно: скоро ей и опять хороший случай вышел. Купец, да на этот раз уж молодой, встретился с ней на Крестовском и сразу понял, что она умница. И что ж бы вы думали, тетенька! другая, на ее месте, непременно продешевила бы (прежние-то деньги под исход уж шли), а она выдержала себя: дай, говорит, десять тысяч! Привезли они с мамашей этого купца к себе на квартиру и напоили его пьяного… И, должно быть у купца легкая рука была, потому что с тех пор Домнушке так и повалило. Дальше да больше, так что теперь меньше как с «сотельной» и не приступайся к ней.
Купцам она, во-первых, потому нравится, что хоть она и русская, а по-французскому так и «ржо̀т»; во-вторых, потому, что она из их сословия не выходит, а в-третьих, потому, что уж очень чисто себя держит. Федосьюшка сначала была того мнения, что для гостиного двора чистота – пустое дело, но теперь и она убедилась, что купцы чистоту понимать могут. Одним словом, Домнушке нет отбоя от гостинодворских Меркуриев * . По вечерам у нее, часов с девяти, почти всегда компания: пьют, в трынку играют, песни поют. Однако дебоширства или политических разговоров, а тем паче превратных толкований, Домиушка не допускает: сиди смирно, благородно, а не то и дворника велит мамаше позвать. И всегда она считается в части с тем, кто в трынку выигрывает. А в час, или много в половине второго ночи, уж ни одного огня в квартире не видно. Так что и соседи, видя, как Ератидушка солидно ведет себя, не нарадуются на нее.
В настоящее время мать и дочь живут душа в душу. Сначала Федосьюшка обижалась тем, что Домнушка не дает ей капиталом распоряжаться, но теперь поняла, что она умница. От времени до времени, впрочем, она получает от дочери то два, то три рубля и вот из этих-то денег побаловывает Тимофея. Одно время старушка домогалась, чтобы ей предоставлен был доход с карт, но Домнушка и тут очень рассудительно отказала ей, сказав, что доход этот должны делить между собой горничная (она же и за лакея) и кухарка. Зато прислуга обожает ее. Да и как не обожать! ведь, сверх карт, купцы, как подопьют, немало и на пол денег роняют – и это тоже прислуге достается. Словом сказать, в самое короткое время даже прислуга в такое блестящее положение пришла, что хоть сейчас кабак открывай!
Но, по-моему, главная заслуга Домнушки все-таки в том состоит, что она гостиному двору не изменяет. Согласитесь сами: ей всего двадцать лет, кругом усы, на каждом шагу палаши, шпоры – долго ли до греха! Были такие, которые и подсылали, а она подумает, подумает: «нет, скажет, коли уж на какую линию попала, так и надо на этой точке вертеться!» Федосьюшка сказывала мне, что она и к тому купцу с повинною ездила, который ей первые десять тысяч подарил. Ничего, принял радушно, увел в кабинет, погладил и сказал: я и сам на твоем месте так же бы поступил. С тех пор она к нему во все большие праздники ездит, и он всякий раз ей две сотенных подарит. Но вот что̀̀ удивительно: сам-то он уж нынче ногами не владеет, а возит его в коляске по комнатам девица Агриппина, так даже эта Агриппина к Домнушке никакой зависти не чувствует. Совсем напротив, от времени до времени даже посещает ее и заимствуется от нее обращением. Вот как умеет Домнушка всех в свою пользу расположить!
Одно только горе у нее: до сих пор ни одного жида не успела к себе залучить. Но грек уже есть. Такой грек, который, по словам Федосьюшки, торгует орехами, да всё грецкими. И ей, старушке, по фунту и по два дарит.
Сколько успела Домнушка денег в течение пяти лет накопить – этого Федосьюшка доподлинно не знает. Но знает верно, что «умница» отнюдь не намерена бессрочно в «какотках» оставаться: еще годиков пять – и будет. Тогда она выйдет замуж за статского советника (даже и подыскала уж такого!), опять назовется Домной (болярыня Домна Тимофеевна – право, это звучит хоть куда!), и купит имение. Статского советника и теперь все в доме принимают, как родного, кормят пирогами и изредка позволяют посмотреть в замочную скважину, как Домнушка одевается. Но в свои комнаты «умница» допускает его редко и то когда нет гостей; в прочее же время предоставляет его в распоряжение мамаши, которая уводит его в свою комнату, и там они вчетвером, с горничной и кухаркой, дуются в свои козыри.
Но знаете ли, какая еще неотвязная мысль смущает Домнушку? – Это мысль – во что̀ бы то ни стало приобрести у вас Ворошилово. Разумеется, тогда, когда уж она будет статской советницей и болярыней. Хоть она была вывезена из Ворошилова пятилетком, так что едва ли даже помнит его, но Федосьюшка так много натвердила ей о тамошних «чудесах», что она и спит и видит поселиться там.
– Еще годков пять помыкаемся, – говорила мне Федосьюшка, – да выдем замуж за Ивана Родивоныча, а там и укатим в свое место. Беспременно она у барыни всю усадьбу откупит. Уж ты сделай милость, голубчик, напиши тетеньке-то, чтоб она годков пять покрепилась, не продавала. Слышали мы, что она с Финагеичем позапуталась, так мы и теперь можем сколько-нибудь денег за процент дать, чтобы ее вызволить. А через пять лет и остатние отдадим – ступай на все четыре стороны!
– Да ведь доходы-то с Ворошилова… – сболтнул было я, но, к счастью, она сама меня прервала.
– И насчет доходу не сумлевайся, – сказала она, – это у тетеньки оно доходу не дает, а у нас – будет давать. Мы ведь по-другому хозяйство-то поведем, мы мужичка-то кругом окружном. Поцарствовали при тетеньке – и будет с них. И Финагеича сократим – будь спокоен! А то закопался там, старый пес, думает, что и управы на него нет. Да вот еще, милый барин, вы тетеньке что̀ напишите: чтоб рощицу-то, которая против усадьбы, она поберегла. Уж такая эта веселая рощица! Березки всё да дубки, а грибов сколько – страсть! Вот и будет по ней Ератидушка с Иваном Родивонычем под ручку гулять!
И, помолчав с минуту, прибавила:
– А главная причина: храм божий в Ворошилове очень хорош! уж так-то хорош, ах, как хорош!
Я дословно передаю вам Федосьюшкину просьбу, милая тетенька, так как, по мнению моему, она заслуживает серьезного с вашей стороны внимания. Если нет у вас крайности, то действительно потерпите с Ворошиловым: Домнушка со временем хорошие деньги вам за него даст. Конечно, только контора Юнкера знает положительно, сколько у «умницы» денег, а я могу лишь предположенья на этот счет делать. Но предполагаю, что много. Ей же, во что бы то ни стало, хочется барыней быть и именно в том самом месте, которое ее мать видела в рабском состоянии. Уж и теперь она задумывается, как бы новый колокол для ворошиловского храма отлить, но покуда еще сомневается, будет ли ее жертва угодна. Но когда она сделается статской советницей, тогда, наверное, жертва ее будет угодна. Притом же, у ней и план действий давно готов. Как только засядетона в Ворошилове, сейчас же откроет свойкабак, а при нем белую харчевню и лавку. Финагеича вытеснит, так что мужички будут уж на нее одну работать. А статский советник будет на работы выходить и мужичков понуждать. Словом сказать, такую буколику заведут, какая и Виргилию не снилась. Те поля, которые у вас остаются невозделанными и на которых ничегоне растет, будут у ней и возделаны и, выхолены, и станут на них всякие злаки дыбом расти. И все эти результаты будут достигнуты ею за ничто: где за стакан водки, а где и просто: а нуте-ка, девушки, приходите ко мне гуляючи на денек пожать! Во всяком случае, повторяю: помимо того, что всякому приятно в родном месте пышным цветом расцвести, для нее и расчет купить Ворошилове; Федосьюшка будет тут ей действительно помощницей, потому что она всякую ворошиловскую былинку знает. Но, с другой стороны, имеются и слабые стороны у этих предположений. Пять лет – много, а тем временем Финагеич, пожалуй, успеет у вас всю округу высосать. А Домнушка на этот счет прозорлива: заметит, что ворошиловский мужичок на ладан дышит, – возьмет да и купит усадьбу у Пафнутьева, а к вам будет только к обедне ездить да колокола лить. Так вы уж за Финагеичем-то присмотрите да и коров-то своих, за год времени, подкормите – будто как настоящие коровы на скотном стоят. А вы еще пишете: Финагеич, за старые услуги, просит ему десятинку сзади парка, против деревни, отрезать… И не думайте! он вас этой десятинкой так поработит, а ежели вы чуть противное слово скажете, так вас по судам из-за нее водить начнет, что рады-радехоньки будете, ежели вас только в места не столь отдаленные ушлют! А вы лучше вот что̀ сделайте: «книжку», на которую вы у Финагеича домашний припас забираете, сочтите и уведомьте меня, сколько в итоге окажется. Я и у Домнушки занимать не буду (воображаю, какой она процент возьмет!), а просто разыграю в вашу пользу лотерею.
Как бы то ни было, у вас теперь два покупщика в перспективе: Финагеич и Домнушка. Что̀ касается до меня, то я положительно на стороне Домнушки. Подумайте! чего один этот срам стоит: за долг по Финагеичевой «книжке» (добро бы «по счету» мадам Изомбар!) отчину и дедину потерять!
Возобновивши знакомство с Федосьюшкой, я начал наблюдать за Домнушкиной квартирой, и могу только повторить: умница! умница! умница!
Каждое утро, в девять часов, стора в одном из окон ее спальной поднимается, и я вижу иногда брюнета, иногда блондина, но большею частью кавалера с проседью, который охорашивается перед трюмо и у которого на лице написано: в гостиный двор тороплюсь, отпираться пора! Умывается ли он – сказать не могу, но думаю, что ежели и умывается, то в лавке; но если и позабудет умыться, то никто на нем не взыщет. В одиннадцать часов поднимаются сторы и в других двух окнах, и у среднего, перед туалетом, появляется сама Домнушка, в кофте, порядочно растрепанная, с косичкой («коса», покуда, покоится в картонке), болтающейся на плече. Лицо у нее утомлено; несколько минут она потягивается и зевает (и непременно крестит рот при этом), и изредка заглядывает под кофту, все ли там благополучно. Потом подходит к другому окну, около которого стоит шкап, и вынимает вчерашнюю выручку. Сотенные бумажки (одну, но иногда и больше) присоединяет к сотенным, десятирублевые к десятирублевым и т. д. Но если накануне купцы в трынку играли, то попадаются и рублевые. Затем, приведя в порядок финансы, защелкнув пачки в каучуковые кружки и записав на бумажке итог, она на целый час исчезает. В это время она пьет кофе, смывает с лица вчерашние поцелуи и делает распоряжения по содержанию себя в чистоте, так чтобы в течение дня уже не возвращаться к этому предмету.








