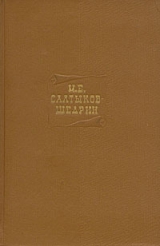
Текст книги "Том 14. За рубежом. Письма к тетеньке"
Автор книги: Михаил Салтыков-Щедрин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 54 страниц)
Разумеется, я не настаивал; но явление это не могло, однако ж, не заинтересовать меня. Что собственно не понравилось ему в моем напоминании? То ли, что я когда-то знал его в угнетенном виде, которого он теперь, одевшись в штаны, стыдится, или то, что я был однажды свидетелем, как он хвастался перед «мальчиком в штанах», что он, хоть и без штанов, да зато Разуваеву души не продал, «а ты, немец, контрактом господину Гехту обязался, душу ему заложил»… И вот теперь, после такого решительного бахвальства, я же встречаю его не только в штанах, но и в суконной поддевке, в барашковой шапке, форма и качество которых несомненно свидетельствуют о прикосновенности к этой метаморфозе господина Разуваева.
Подобные неясности в жизни встречаются довольно нередко. Я лично знаю довольно много тайных советников (в Петербурге они меня игнорируют, но за границей, по временам, еще узнаю̀т), которые в свое время были губернскими секретарями и в этом чине не отрицали, что подлинный источник света – солнце, а не стеариновая свечка. И представьте себе, ужасно они не любят, когда им про это губернское секретарство напоминают. И тоже трудно разобрать, почему.
В надежде уяснить себе этот вопрос, я несколько раз, даже по пустякам, зазывал «мальчика без штанов» в свой купѐ, но какие вопросы я ни предлагал, он на все отвечал однословно и угрюмо. Наконец я решился дать ему двугривенный. Принял.
– Это на первый раз, – поощрительно присовокупил я, не вступая, впрочем, в дальнейший допрос.
Поклонился, но промолчал.
Миновали Ковно. Пришла ночь, а с нею пора делать постели. Я и еще двугривенный дал. Опять принял и даже как будто повеселел.
– От Разуваева штаны получили? – спросил я как бы мимоходом.
– От него.
– А помните ли вы…
Притворился, что какие-то пассажиры его требуют, и ушел, не давши мне договорить.
Ночь я провел совершенно спокойно и видел веселые сны. Я будто бы пишу, а меня будто бы хвалят, находят, что я трезвенные слова говорю. Вообще я давно заметил: воротишься домой, ляжешь в постельку, и начнет тебя укачивать и напевать: «Спи, ангел мой, спи, бог с тобой!»
Утром проснулся, еще семи часов не было. Выхожу в коридор – «мальчик» сидит и папироску курит. Вынимаю третий двугривенный.
– По контракту? – спрашиваю.
– Не ина̀че, что так.
– Крепче?
– Для господина Разуваева крепче, а для нас и по контракту все одно, что без контракта.
– Значит, даже надежнее, нежели у «мальчика в штанах»?
– Пожалуй, что так.
– А как же теперь насчет Разуваева? помните, хвастались?
Заторопился, стал к чему-то прислушиваться, сделал вид, что нечто услышал, и скрылся.
Вплоть до самой Луги я не мог его уловить. Несколько раз он пробегал мимо, хотя я держал наготове четвертый двугривенный, – и даже с таким расчетом держал, чтоб он непременно заметил его, – но он, очевидно, решился преодолеть себя и навстречу ласке моей не пошел.
Разумеется, это меня возмутило. Вот, думалось мне, как Разуваев «обязал» тебя контрактом, так ты и заочно ему служишь, все равно как бы он всеминутно у тебя перед глазами стоял, а я тебе уж три двугривенных сряду без контракта отдал, и ты хоть бы ухом повел! Нет, надобно это дело так устроить, чтоб на каждый двугривенный – контракт. Коротенький, но точный, и душа чтоб тут же значилась. И непременно в разуваевском вкусе. Чтоб для тебя, «мальчика без штанов», это был контракт, а для меня чтоб все одно, что есть контракт, что его нет.
Наконец, в Луге, все пассажиры разошлись обедать, и я поймал-таки его. – Вот вам рубль, – говорю.
Принял. – Слышал я за границей, что покуда я ездил, а на вас мода пошла? – продолжал я.
Усмехнулся и хотел было увильнуть; но потом вспомнил, что я за свой рубль имел хоть на ответ-то право, – и посовестился. – На нас, сударь, завсегда мода. Потому, господину Разуваеву без нас невозможно.
Проговорив это, он скорым шагом удалился к выходу и через минуту уже сновал взад и вперед по платформе, отрывая зубами куски булки, которая заменяла ему обед.
Через два часа мы были дома.
Письма к тетеньке *
Письмо первое *
Милая тетенька!
Помните ли вы, как мы с вами волновались? Это было так недавно. * То расцветали надеждами, то увядали; то поднимали голову, как бы к чему-то прислушиваясь, то опускали ее долу, точно всё, что нужно, услышали; то устремлялись вперед, то жались к сторонке… И бредили, бредили, бредили – без конца!
Весело тогда было. Даже увядать казалось не обидно, потому что была уверенность, что вот-вот опять сейчас расцветешь… В самом ли деле расцветешь, или это так только видимость одна – и это ничего. Все равно: волнуешься, суетишься, спрашиваешь знакомых: слышали? а? вот так сюрприз!
То есть, по правде-то говоря, из нас двоих волновались и «бредили» вы одни, милая тетенька. Я же собственно говорил: зачем вы, тетенька, к болгарам едете? зачем вы хотите присутствовать на процессе Засулич? зачем вы концерты в пользу курсисток устраиваете? * Сядемте-ка лучше рядком, сядем да посидим… Ах, как вы на меня тогда рассердились! – Сидите – вы! – сказали вы мне, – а я пойду туда, куда влекут меня убеждения! Mais savez vous, mon cher, que vous allez devenir pouilleux avec vos «сядем да посидим»… [186]186
Но знаете, дорогой мой, что вы обовшивеете с вашими «сядем да посидим»…
[Закрыть]
Именно так по-французски и сказали: pouilleux, потому что ведь нельзя же по-русски сказать: обовшивеете!
Повторяю: я лично не волновался. Однако ж не скрою, что к вашим волнениям я относился до крайности симпатично и не раз с гордостью говорил себе: «Вот она, тетенька-то у меня какова! К болгарам в пользу Баттенбергского принца агитировать ездит! * Милану прямо в лицо говорит: дерзай, княже! * «Идѐ домув муй?» * с аккомпанементом гитары поет – какой еще родственницы нужно!» Говорил да говорил, и никак не предвидел, что на нынешнем консервативно-околоточном языке мои симпатии будут называться укрывательством и попустительством…
Но теперь, когда попустительства начинают выходить из меня со̀ком, я мало-помалу прихожу к сознанию, что был глубоко и непростительно неправ. Знаете ли вы, что̀ такое «сок», милая тетенька? «Сок» – это то самое вещество, которое, будучи своевременно выпущено из человека, в одну минуту уничтожает в нем всякие «бреды» и возвращает его к пониманию действительности. Именно так было со мной. Покуда я ко̀ка с соком был – я ничего не понимал, теперь же, будучи лишен сока, – все понял. Правда, я лично не агитировал в пользу Баттенбергского принца, но все-таки сидел и приговаривал: ай да тетенька! Лично я не плескал руками ни оправдательным, ни обвинительным приговорам присяжных, но все-таки говорил: «Слышали? тетенька-то как отличилась?» А главное: я «подпевал» (не «бредил», в истинном значении этого слова, а именно «подпевал») – этого уж я никак скрыть не могу! Так вот как соберешь все это в один фокус, да прикинешь, что̀ за сие, по усмотрению управы благочиния, полагается, – даже волос дыбом встанет!
Позвольте, однако ж, голубушка! Мог ли я не попустительствовать и не «подпевать», если вы при каждом случае, когда я хотел трезвенное слово сказать, перебивали меня: pouilleux! Помнится, как-то раз я воскликнул: ничего нам не нужно, кроме утирающего слезы жандарма! * – а вы потрепали меня по щечке и сказали: дурашка! Как я тогда обиделся! как горячо начал доказывать, что меня совсем не так поняли! И вдруг, сам не помню как, такую высокую ноту взял, что даже вы всполошились и начали меня успокоивать! А кто меня до этой высокой ноты довел?!
Спрашиваю я вас: примет ли все это в соображение управа благочиния, хоть в качестве смягчающего вину обстоятельства?
Но, кроме того, и еще – хоть вы мне и тетенька, но лет на десяток моложе меня (мне 56 лет) и обладаете такими грасами, которые могут встревожить какого угодно pouilleux. Когда вы входите, вся в кружевах и в прошивочках, в гостиную, когда, сквозь эти кружева и прошивочки, вдруг блеснет в глаза волна… Ах, тетенька! хоть я, при моих преклонных летах, более теоретик, нежели практик в такого рода делах, но мне кажется, что если б вы чуточку распространили вырезку в вашем лифе, то, клянусь, самый заматерелый pouilleux – и тот не только бы на процесс Засулич, но прямо в огонь за вами пошел!
Ужели же и этого не примет в соображение управа благочиния?
Голубушка! не вините меня! не говорите, что я предаю вас, сваливаю на вас мою вину! Во-первых, чем же я виноват, коли инстинкт мне подсказывает: расскажи да расскажи! А во-вторых, предавая вас, я, право, лично для себя ничего не достигаю. Нынче так все упрощено, что уж нет ни зачинщиков, ни попустителей, ни укрывателей – одни виноватые. Стало быть, все мои ссылки на вас и на кого бы то ни было напрасны и служат только к бескорыстному разъяснению дела, а не к личному моему обелению. И что̀ всего любопытнее: я очень хорошо это понимаю, и все-таки от предательства воздержаться не могу: так и нудит инстинкт, так и подманивает навстречу. Это уж веянье такое, и все мы, которые когда-либо были одержимы «бредами» или «подпеваниями», – все мы обязываемся принимать его в расчет.
Одно меня утешает: ведь и вы, мой друг, не лишены своего рода ссылок и оправдательных документов, которые можете предъявить едва ли даже не с большим успехом, нежели я – свои. В самом деле, виноваты ли вы, что ваша manière de causer [187]187
манера беседовать.
[Закрыть]так увлекательна? виноваты ли вы, что до сорока пяти лет сохранили атуры и контуры, от которых мгновенно шалеют les messieurs?
Знаете ли, впрочем, что̀? Иногда мне кажется, что управа, рассмотрев наш прежний образ мыслей и приняв во внимание наш образ мыслей нынешний (какой, с божьею помощью, поворот!), просто-напросто возьмет да и сдаст наше дело в архив. Или, много-много, внушение сделает: смотрите, дескать, чтобы на будущее время «бредней» – ни-ни!
– Помилуйте, вашество! кто же нынче о бреднях думает? Бредни… фуй!
Это, впрочем, скажете, тетенька, вы, а не я. А я уж потом за вами в огонь и в воду…
И поедете вы, вся в кружевах и прошивочках, вашу волну по городу с визитами развозить, «Бредни… но ведь это смех, право! Бредни!.. но разве можно без омерзения об этом говорить!» Вот сколько предательства нынче, милая тетенька, развелось!
Но скорее всего, даже «рассмотрения» никакого мы с вами не дождемся. Забыли об нас, мой друг, просто забыли – и все тут. А ежели не забыли, то, не истребовав объяснения, простили. Или же (тоже не истребовав объяснения) записали в книгу живота и при сем имеют в виду… Вот в скольких смыслах может быть обеспечено наше будущее существование. Не скрою от вас, что из них самый невыгодный смысл – третий. Но ведь как хотите, а мы его заслужили.
Тем не менее я убежден, что ежели мы будем сидеть смирно, то никакие смыслы нас не коснутся. Сядем по уголкам, закроем лѝца платками – авось не узнают. У тех, скажут, человеческие лица были, а это какие-то истуканы сидят… Вот было бы хорошо, кабы не узнали! Обманули… ха-ха!
Но ка̀к это, тетенька, подло!
Не бойтесь же, милая. Вот вы теперь в деревню уехали: авось, мол, там меня не достанут! Ну, и прекрасно. Поживите там, подышите воздухом полей, посмотрите, ка̀к доят коров и стригут барашков, поговорите с вашим урядником, полюбуйтесь на житье-бытье мужичков… и вдруг вас осенит мысль: какая я, однако ж, глупенькая была! бреднями занималась! Правду Nicolas (это я) говорил: с нас совершенно достаточно утирающего слезы жандарма! И когда вы это выговорите и не поперхнетесь, тогда смело велите закладывать лошадей и катите опять в Петербург. Ручаюсь, что, кроме похвалы, ничего не услышите.
А в Петербурге вы найдете – меня. Сижу я здесь, как дятел на сосновом суку, и с утра до вечера все долблю: не нужно бредней! не нужно! бредней! бредней! бредней! Приезжайте и будем вместе долбить – поваднее!
Ужасно, какое множество нынче этих дятлов развелось. Шляются, слюною брызжут, очами грозят, долбят да друг на друга посматривают: кто кого передолбит?
Впрочем, вся заслуга отрезвления (ибо я уверен, что этот процесс уже совершился в вас) на вашей, душенька, стороне. Я же как прежде был хорош, так и теперь хорош.
Всегда я думал, что вся беда наша в том, что мы чересчур много шуму делаем. Чуть что – сейчас шапками закидать норовим, а не то так и кукиш в кармане покажем. Ну, разумеется, слушают-слушают нас, да и прихлопнут. Умей ждать, а не умеешь – нет тебе ничего! Так что, если б мы умели ждать, то, мне кажется, давно бы уж дождались.
И в счастии и в несчастии мы всегда предваряем события. Да и воображение у нас какое-то испорченное: всегда провидит беду, а не благополучие. Еще и не пахло крестьянской волей, а мы уж кричали: эмансипация! Еще все по горло сыты были, а мы уж на всех перекрестках голосили: голод! голод! Ну, и докричались. И эмансипация и голод действительно пришли. Что ж, легче, что ли, от этого вам, милая тетенька, стало?
Не я один, но и граф Твэрдоонто̀ это заметил. «Когда я был у кормила, – говорил он мне, – то покуда не издавал циркуляров об голоде – все по горло были сыты; но однажды нелегкая дернула меня сделать зависящее по сему предмету распоряжение – изо всех углов так и полезло! У самого последнего мужика в брюхе пусто стало!»
Еще бы! Мужику только повадку дай! Он лопнуть хочет от сытости, а все кричит: жрать!
Сколько мы, литераторы, волновались: нужно-де ясные насчет книгопечатания законы издать! Только я один говорил: и без них хорошо! По-моему и вышло: коли хорошо, так и без законов хорошо! А вот теперь посидим да помолчим – смотришь, и законы будут. Да такие ясные, что небо с овчинку покажется. Ах, господа, господа! представляю себе, как вам будет лестно, когда вас, «по правилу», начнут в три кнута жарить! *
Вот если бы мы были простые тати – слова нет, я бы и сам скорого суда запросил. Но ведь мы, тетенька, «разбойники печати»… Ах, голубушка! произношу я эту несносную кличку и всякий раз думаю: сколько нужно было накопить в душе гною, каким нужно было сознавать себя негодяем, чтобы таким прозвищем стошнило!
Поэтому-то вот я и говорил всегда: человеческое благополучие в тишине созидаться должно. Если уж не миновать нам благополучия, так оно и само нас найдет. Вот как теперь: нигде не шелохнется; тихо, скромно, благородно. А оно между тем созидается себе да созидается.
Не в словах дело, а в деле – и это я тоже говорил. Можно ли дело делать, когда кругом гвалт и шум? – нельзя! Ну, стало быть, молчи и не мешай!
Словесный хлеб может представлять потребность только для досужих людей; трудящиеся же да вкушают хлеб с лебедой! Вот общее правило, милая тетенька. Давно мы с вами бредим, а много ли набредили? Так лучше посидим да поглядим – «оно» вдруг на нас само собою нахлынет!
Если б при московских князьях да столько разговору было, – никогда бы им не собрать русской земли. Если б при Иоанне Грозном вы, тетенька, во всеуслышание настаивали: непременно нам нужно Сибирь добыть – никогда бы Ермак Тимофеич нам ее из полы в полу не передал. Если б мы не держали язык за зубами – никогда бы до ворот Мерва не дошли… Все русское благополучие с незапамятных времен в тиши уединения совершалось. Оттого оно и прочно. *
Вон Франция намеднись какой-то дрянной Тунисишко захватила, а сколько из этого разговоров вышло? * А отчего? Оттого, голубушка, что не успели еще люди порядком наметиться, как кругом уж галденье пошло. Одни говорят: нужно взять! другие – не нужно брать! А кабы они чередом наметились да потихоньку дельце обделали: вот, мол, вам в день ангела… с нами бог! * – у кого же бы повернулся язык супротивное слово сказать?!
Человеку дан один язык, чтоб говорить, и два уха, чтобы слушать; по почему ему дан один нос, а не два – этого я уж не могу доложить. Ах, тетенька, тетенька! Говорили вы, говорили, бредили-бредили – и что вышло? Уехали теперь в деревню и стараетесь перед урядником образом мыслей щегольнуть. Да хорошо еще, что хоть теперь-то за ум взялись: а что̀ было бы, если бы…
А я, напротив, сижу на сосновом суку да все старую песню долблю. Старую да хорошую. И может быть, за мою простоту, до чего-нибудь и додолблюсь. Да, кажется, уж и начинаю додалбливаться. Хорошо у нас нынче, тихо! Давно так не бывало. Встречаются люди на Невском: что нового? – Да ничего не слыхать. – Ну, и слава богу. Или в клубе: что̀ в газетах пишут? – Ничего не пишут. – Ну, и слава богу… Вот увидите, милая тетенька, что из этого непременно выйдет благополучие. И не я один, все надеются. На днях встречаю князя Букиазба̀: мы, говорит, не болтовней занимаемся, а дело делаем.
Бог в помочь!
И точно: давно ли, кажется, мы за ум взялись, а какая перемена во всем видится! Прежде, бывало, и дома-то сидя, к чему ни приступишься, все словно оторопь тебя берет. Все думалось, что-то тетенька скажет? А нынче что хочу, то и делаю; хочу – стою, хочу – сижу, хочу – хожу. А дома сидеть надоест – на улицу выйду. И взять с меня нечего, потому что я весь тут!
Пришел я на днях в Летний сад обедать. Потребовал карточку, вижу: судак «авабля»; [188]188
Испорченное от «au vin blanc». Приведено текстуально. ( Прим. M. E. Салтыкова-Щедрина.) Au vin blanc – в белом вине.
[Закрыть]спрашиваю: да можно ли? – Нынче все, сударь, можно! – Ну, давай судака «авабля»! – Оказалась мерзость. Но ведь не это, тетенька, дорого, а то, что вот и мерзость, а всякому есть ее вольно!
А какие там, тетенька, салфетки у прислужников под мышками торчат! Совершенно мокрые детские пеленки! Не ходите туда, голубушка!
Итак, повторяю: тихо везде, скромно, но притом – свободно. Вот нынче какое правило! Встанешь утром, просмотришь газеты – благородно. «Из Белебея пишут», «из Конотопа пишут»… Не горит Конотоп, да и шабаш! А прежде – помните, когда мы с вами, тетенька, «бредили», – сколько раз он от этих наших бредней из конца в конец выгорал! Даже «Правительственный вестник» – и тот в этом отличнейшем газетном хоре каким-то горьким диссонансом звучит. Все что-то о хлебах публикует: не поймешь, произрастают или не произрастают.
Я думаю, впрочем, тетенька, что в конце концов произрастут. Потому что уж если теперь нам бог, за нашу тихость, не подаст, так уж после того я и не знаю…
«Бредни» теперь все по̀ходя ругают, да ведь, по правде-то сказать, и похвалить их нельзя. Даже и вы, я полагаю, как с урядником разговариваете… ах, тетенька! Кабы не было у вас в ту пору этих прошивочек, давно бы я вас на путь истинный обратил. А я вот заглядывался, глазами косил, да и довел дело до того, что пришлось вам в деревне спасаться! Бросьте, голубушка! Подумайте: раз бог спасет, в другой – спасет, а в третий, пожалуй, и не помилует.
Но что̀ всего приятнее: самую видную роль в этой поголовной руготне играют «новообращенные». Старые «управцы» – те усекновляют спокойно, без разговоров, точно пирог с капустой едят; новые – доказывают, полемизируют и предварительно кусают. Иной новобранец до того осмелился, что так-таки прямо в глаза начальству отчеканивает: распни! И не боится. И гребень у него покраснеет, и хвост веером распустится – тетерев на току, да и полно! Но я-то ведь, тетенька, не забыл. Таким же точно страстным тетеревом он был и тогда, когда – помните? – он же захлебывался в восторге от «бредней»!
Во всяком случае, голубушка, если вы вздумаете наведаться в Петербург, то, пожалуйста, держите ухо востро. Представьте себе, что вам завсегда сопутствует ваш добрый урядник – так и ведите себя. Потому что неравно вдруг какой-нибудь доброволец закричит: караул!
И все-то нынче чего-то ищут; даже такие люди ищут, которым давным-давно во всех инстанциях отказано. И только на одном свои права и основывают: пора эти бредни бросить! Но что же они, милая тетенька, вместо бредней предлагают? А предлагают они, голубушка, благополучие России – только и всего.
Только они думают, что без них это благополучие совершиться не может. Когда мы с вами, во время о̀но, бреднями развлекались, нам как-то никогда на ум не приходило, с нами они осуществятся или без нас. Нам казалось, что, коснувшись всех, они коснутся, конечно, и нас, но того, чтобы при сем утащить кусок пирога… сохрани бог! Но ведь то были бредни, мой друг, которые как пришли, так и ушли. А нынче – дело. Для дела люди нужны, а люди – вот они!
Ужасно замученный вид имеют эти люди, покуда ищут и разнюхивают. Худые, бледные, испитые, с пересохшим горлом, с воспаленными глазами. И только одно твердят: бредни! Встречаться с ними во время этой охоты ужасно опасно, и потому я, как завижу «искателя», сейчас шмыг в ресторан. Хочу – растегай ем; хочу – бутерброд ухвачу! Все нынче можно.
И все эти «искатели» друг друга подсиживают и ругательски друг друга ругают. Встретил я на днях Удава – он Дыбу ругает; встретил Дыбу – он Удава ругает. И тот и другой удостоверяют: вот помяните мое слово, что ежели только он (имярек) «достигнет» – он вам покажет, где раки зимуют!
Вот ведь это какие, тетенька, люди: знают, где раки зимуют!
Но мне-то, мне-то зачем это знать? Конечно, оно любопытно, но иногда, право, выгоднее без любопытства век прожить. Признаюсь, я даже не удержался и спросил Удава: да неужто же нужно, чтобы я знал, где раки зимуют? А он в ответ: уж там нужно или не нужно, а как будут показывать, так и вы, в числе прочих, узнаете.
Подумайте, милая! Сегодня Дыба покажет, где раки зимуют, завтра – куда Макар телят не гонял, послезавтра – куда ворон костей не заносил, а в заключение объяснит, как Кузькину мать зовут! Вот сколько наук!
И добро бы мы этих наук не знали, а то ведь наизусть от первой страницы до последней во всех подробностях проштудировали – и все оказывается мало!
Но когда мы окончательно обогатимся этими знаниями, тогда курс наук наших будет полон, и мы начнем показывать товар лицом. Изобретем сначала порох, потом компас, потом книгопечатание, а между прочим, пожалуй, откроем и Америку.
И все-таки сдается: нет уж, пусть лучше ни Удав, ни Дыба не «достигнут»! Побегают, помятутся, да с тем пусть и отъедут. Вот это было бы хорошо! Тетенька! голубушка! помолитесь, чтоб они не достигли!
Представляю я себе, как вы, бедненькая, проводите время в деревне.
Встанете утром, помо̀литесь и думаете: а ведь и я когда-то «бреднями» занималась! Потом позавтракаете, и опять: ведь и я когда-то… Потом погуляете по парку, распорядитесь по хозяйству и всем домочадцам пожалуетесь: ведь и я… Потом обед, а с ним и опять та же неотвязная дума. После обеда бежите к батюшке, и вся в слезах: батюшка! отец Андрон! ведь когда-то… Наконец, на сон грядущий, призываете урядника и уже прямо высказываетесь: главное, голубчик, чтоб бредней у нас не было!
Но ведь и робеть чересчур тоже не годится, мой друг. Излишняя робость может грудку высушить – и тогда навеки пропал для вас очень важный оправдательный документ.
На вашем месте я поступил бы так. Прежде всего, безусловно, утаил бы от домашних происходящие в душе вашей тревоги. Домашние * – народ узко-себялюбивый и даже тривиальный; не качество идей их увлекает, а удача. Ежели вы устраиваете комфортабельно их жизнь при помощи «бредней» – они будут говорить: ай да тетенька! Если вы того же самого результата достигаете при помощи «антибредней» – они и тогда будут восклицать: ай да тетенька! Ни в тревогах, ни в сомнениях ваших они не примут участия, потому что, на их взгляд, все и всегда ясно. Расскажите им, что̀ именно вас мутит, – они сейчас все до ниточки на бобах разведут. То есть, собственно говоря, ничего не разведут, а будут одно и то же долбить: да ведь это, наконец, ясно! Ибо никто лучше их не понимает, что во всяком деле на первом плане стоѝт благополучие (с лебедой в резерве) * и тишина (с урчанием в резерве). И ежели вы за всем тем не перестанете упорствовать в непонимании сего, то даже малолетки будут к вам приставать: тетенька, да неужто ж вы этого не понимаете? И станут издеваться над вами, так что в конце концов окажется, что все они умники, а вы одна между ними – дура дурой.
Но что всего хуже, насмеяться-то они насмеются, а помочь не помогут. Потому что хоть вы, милая тетенька, и восклицаете; ах, ведь и я когда-то бредила! но все-таки понимаете, что, полжизни пробредивши, нельзя сбросить с себя эту хмару так же легко, как сменяют старое, заношенное белье. А домочадцы ваши этого не понимают. Отроду они не бредили – оттого и внутри у них не скребет. А у вас скребет.
Вот к батюшке прибегнуть в горести – это я вам советую. Батюшка справится в требнике и все рассудит: недаром же имя ему Андрон (от «Андроны едут» * ). И, в заключение, простит, потому что такова его обязанность. Но главная польза, от сего проистекающая, будет заключаться в том, что вы-то сами непременно утешение получите. В раскаянии есть нечто до того сладкое, что оно само себе довлеет. Сидит человек, и тихие слезы текут по его щекам… Говорят, будто слезы служат выражением страдания, а подите-ка, отыщите что-нибудь слаще этих слез! «Ах, не могу!.. ах, не буду!.. батюшка! поддержите!» – Успокойтесь, сударыня!
А ежели попик у вас ловкий да в семинарии учился хорошо, так он, пожалуй, целую предику по этому случаю произнесет. «Что привело тебя ко мне, чадо мое? – скажет, – и привело в смущении, в горе, в слезах? Не смерть ли досточтимых родителей? – так ведь, кажется, родителей давно у тебя нет! не болезнь ли любимых детей? – так ведь, кажется, они, слава богу, здоровы! Что же привело тебя?! Ищу и не нахожу. Не пожар ли? не утрата ли имущества? не ослушание ли подчиненных и присных твоих?» Вот тут-то вы и изложите ему все по порядку. Ручаюсь, что возвратитесь домой утешенною.
Можете переговорить и с урядником, но при этом советую не терять самообладания. Скажите просто: вот, мол, какие слухи ходят, так вы уж, пожалуйста! Только и всего. Как будто вы тут в стороне: заметили – и горюшка мало. Но, ради всего святого, не влюбитесь в урядника, ибо в таком случае ваши прелестные прошивки пропахнут тютюном и овчинами. Этого, тетенька, и начальство не требует, а что касается до партикулярных людей, то, право, они совершенно равнодушно отнесутся к тому, какие высокие цели руководят вами в этом случае, а будут только примечать, что урядник новое кепѐ купил да усы фабрить начал. И прозовут они вас «урядницей», и так популяризируют эту кличку, что вам проходу по деревне от нее не будет.
Случаев такого необдуманного увлечения урядниками немало встречается в истории. Я сам лично одну дамочку знал, которая долгое время стригла себе волосы и ужасно гордо изгибала шею, когда ее звали «стрижкой» и «нигилисткой». И вдруг влюбилась в землемера (все землемеры, по природе, консерваторы), купила шиньон, и с тех пор только и слов: «Ах, эти скверные стрижки!», «ах, эти немытые нигилистки!» Но что ж она этим выиграла? Только то и выиграла, что не только «стрижки» и «нигилистки», но и самые землемерши стали ее «землемершею» величать…
Стало быть, во всем должна быть мера, милая тетенька. Мера – в парении чувств и мыслей и мера – в предательстве. Так что ежели который человек всю жизнь «бредил», а потом, по обстоятельствам, нашел более выгодным «антибредить», то пускай он не прекращает своего бреда сразу, а сначала пускай потише бредит, потом еще потише, и еще, и еще, и, наконец – молчок! Тогда он уж бесстрашно может, на всей своей воле, антибредом заняться, и все будут говорить: «Из какого укромного места этот безвестный ры̀барь явился? что-то мы его как будто прежде не замечали!» А между тем – он самый и есть!
Вообщеже мой совет таков: как можно больше самообладания. Отказывайтесь от бреда постепенно и не вводя в соблазн. Не клевещите на себя, не обрызгивайте себя слюною, не проклинайте вашего прошлого! Ибо, по правде говоря, какой же был и бред-то ваш, милая тетенька! Порезвились, пошалили – только начальству удовольствие доставили! С батюшкой, однако ж, можете быть откровенны, а что касается до урядника, то об одном прошу: ради бога, берегите ваши прошивки! Помните, что, по сиротству вашему, эти прошивки суть единственное ваше сокровище. И вы должны сохранить его незапятнанным, дабы дети ваши с гордостью могли воскликнуть: вот они, маменькины прошивки! точно сейчас только со станка сняты!
Тетенька! приезжайте в Петербург! не бойтесь, милая, не стыдитесь! Забудьте – и все будет хорошо.
Как только вы приедете, я сейчас вас на острова повезу. Заедем к Дороту; я себе спрошу ботвиньи, вы – мороженого… вот ведь у нас нынче как! Потом отправимся на pointe * [189]189
стрелку.
[Закрыть]и будем смотреть, как солнце за будку садится. Потом домой – ба̀иньки. Это первый день.
На второй день, с утра – крестины у дворника. Вы – кума, швейцар Федор – кум. Я – принес двугривенный на зубок. Подают пирог с сигом – это у дворника-то! Подумайте, тетенька, как в самое короткое время уровень народного благосостояния поднялся! С крестин поднимаемся домой – рано! Да не хотите ли, тетенька, в Павловск, в Озерки, в Рамбов? сделайте милость, не стесняйтесь! Явимся на музыку, захотим – сядем, не захотим – будем под ручку гулять. А погулявши, воротимся домой – ба̀иньки!
На третий день – в участок… то бишь утро посвятим чтению «Московских ведомостей». Нехорошо проведем время, а делать нечего. Нужно, голубушка, от времени до времени себя проверять. Потом – на Невский – послушать, как надорванные людишки надорванным голосом вопиют: прочь бредни, прочь! А мы пройдем мимо, как будто не понимаем, чье мясо кошка съела. А вечером на свадьбу к городовому – дочь за подчаска выдает – вы будете посаженой матерью, я шафером. Выпьем по бокалу – и домой ба̀иньки.
На четвертый день – дождик. Будем сидеть дома. На обед: уха стерляжья, filets mignons [190]190
филе миньон.
[Закрыть], цыпленочек, спаржа и мороженое – вы, тетенька корсета̀-то не надевайте. Хотите, я вам целый ворох «La vie parisienne» [191]191
«Парижской жизни».
[Закрыть]предоставлю? Ах, милая, какие там картинки! Клянусь, если б вы были мужчина – не расстались бы с ними. А к вечеру опять разведрилось. Ma tante! да не поехать ли нам в «Русский Семейный Сад»? – Поехали.
На пятый день у тетеньки головка болит. Сидите вы, вся в прошивочках, и только плечики у вас вздрагивают. Ах, mа tante! как бы я хотел быть этою прошивочкой… вон той, которая сначала в бок, а потом все прямо, прямо, прямо… Да улыбнитесь же, голубушка! И вдруг… вы погрозили пальчиком… «Шалун!» Да кто же, милая, шалун-то? Я ли, шестидесятилетний вертопрах, или пальчик… ах, этот пальчик! Но вы только вздыхаете в ответ и вспоминаете… Помните, тетенька, как лейб-гвардии кирасирского полка штабс-ротмистр Лев Полугаров («к сему заемному письму» и т. д.) посадил вас на ладо̀нку, да так к брачному алтарю и доставил? Вот вы когда еще «бредить»-то начали! Но оставим прошлое и обратимся к действительности. Тетенька! как бы я хотел быть вашим чулочком… Mais vous finirez par prononcer le mot: caleçons… mauvais sujet! [192]192
Ты, чего доброго, в конце концов заговоришь о панталонах… проказник!
[Закрыть]возмущаетесь вы… Однако ж, хоть вы и возмущаетесь, но, в сущности, ведь не сердитесь… Ведь не сердитесь, милая? За что же тут сердиться – ведь нынче все можно! В таких разговорах проходит день до вечера, а там – опять ба̀иньки!








