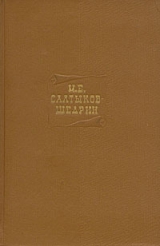
Текст книги "Том 14. За рубежом. Письма к тетеньке"
Автор книги: Михаил Салтыков-Щедрин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 54 страниц)
Вот вам вся процедура «содействия». Смысл ее однообразен: наяривай, жарь, гни в бараний рог! Да ведь мы всё это слышали и переслышали! – восклицаете вы. А чего же, однако, вы ожидали? Посмотрите-ка на Дракина: он, еще ничего не видя, уже засучивает рукава и налаживает кулаки.
Жарь! – вот извечный секрет непочатых, но уже припахивающих тлением людей, секрет, в котором замыкается и идея возмездия, и идея поучения. Всех жарь, а в том числе и их, прохвостов, ибо они и своей собственной шкуры не жалеют. Что такое шкура! одну спустишь – нарастет другая! Эта уверенность до такой степени окрыляет их, что они подставляют свои спины почти играючи…
Но мы, кликавшие клич, что̀ же мы-то будем с этими «содействиями» делать? Начнем ли воздвигать, с помощью их, величественное здание общественного благоустройства или прямо их в помойную яму свалим? По-моему, в помойную яму – ближе. А потом что? Подумайте, ведь нам и после все-таки надобно жить!
В этом-то и заключается горечь современного положения, что жить обязательно. А ка̀к жить – ответа на этот вопрос ниоткуда нет. Чиновники только предписания посылают да донесений ждут; а излюбленные люди – изрекают истрепанные дореформенные слова да рукава засучивают…
Но вы, пожалуй, возразите: да неужели же в плотной массе Ивановых не найдется таких, которым небезызвестны и другого рода слова? – Не спорю; вероятно, где-нибудь такие Ивановы и водятся, так ведь это, мой друг, Ивановы неблагонамеренные, которых содействие, уж по заведенному исстари порядку, предполагается несвоевременным. Каким же образом они найдутся, коль скоро их не ищут?
Тетенька! да сознайтесь же, наконец! ведь и мы с вами, когда кликали клич, разве мы имели в виду этихИвановых? разве мы не тревожились, не молились по секрету: ах, кабы бог пронес! ах, кабы эти беспокойные люди пропустили наш клич мимо ушей! И вот бог услышал наше моление: никто из «беспокойных» не явился, а мы лицемерим, притворяемся огорченными! Говорим: вот вам ваш Чацкий, ваш Евгений Онегин, ваши Рудин, Инсаров! * Вот как критиковать да на смех поднимать – так они тут как тут, так и жужжат, а как трезвенное слово сказать приходится – тут их и нет!
Заметьте раз навсегда: когда кличут клич, то всегда из нор выползают только те Ивановы, которые нужны, а те, которые не нужны – остаются в норах и трепещут. Это само собою так делается, ибо таков естественный закон благоустройства и благочиния. И надо прибавить, закон очень целесообразный, потому что он устраняет разномыслие и подтверждает единение, с присовокуплением (в небольшой дозе) «средостения» и (больше чем нужно) «оздоровления корней». Благодаря этому закону трепещущие Ивановы безмолвствуют, а дерзающие – славословят. И затем, так как только одни славословия и слышны, то совокупность их и составляет то «содействие», которым мы обязываемся удовольствоваться.
Очень возможно, однако ж, что это объяснение покажется вам ничего не объясняющим… «Ведь это наконец какая-то необъяснимая путаница! – воскликнете вы, – мы кличем клич и потом оказываемся в какой-то нелепой стачке с Пафнутьевыми и Дракиными!» Ах, голубушка, да разве я не понимаю, что объяснения мои и запутанны и загадочны! Но что же мне делать, коли нет у меня других? У меня ли у одного подлинных речей нет или у всех вообще – я даже и этого объяснить не могу. Не знаю. Ничего я не знаю, кроме одного: что надобно жить…
Одним только утешаюсь: лет через тридцать я всю эту историю, во всех подробностях, на страницах «Русской старины» прочту. Я-то, впрочем, пожалуй, и не успею прочитать, так все равно дети прочтут. Только любопытно, насколько они поймут ее и с какой точки зрения она интересовать их будет?
Впрочем, дети еще туда-сюда: для них устные рассказы старожилов подспорьем послужат; но внуки – те положительно ничему в этой истории не поверят. Просто скажут: ничего в этой чепухе интересного нет.
Сообразите же теперь, какое горькое чувство, ввиду такой перспективы, должен испытывать современный бытописатель этих волшебств и загадочных превращений. Уже современники читают его не иначе, как угадывая смысл и цель его писаний и комментируя и то и другое каждый по-своему; детям же и внукам и подавно без комментариев шагу ступить будет нельзя. Все в этих писаниях будет им казаться невозможным и неестественным, да и самый бытописатель представится человеком назойливым и без нужды неясным. Кому какое дело до того, что описываемая смута понятий И действий разливала кругом страдание, что она останавливала естественный ход жизни и что, стало быть, равнодушно присутствовать при ней представлялось не только неправильным, но даже постыдным? И что при сем ясность, яко несвоевременная и т. д. Не легче ли разрешить все эти вопросы так: вот странный человек! всю жизнь описывал чепуху да еще предлагает нам читать свои описания… с комментариями!
Вот когда вы войдете в кожу такого бытописателя, тогда вы и поймете, какая злая ирония звучит в этих немногих словах: надо жить!
Представьте себе, тетенька, кого я на днях встретил? – Ноздрева! * Помните, Ноздрева, с которым мы когда-то у Гоголя познакомились? Не пугайтесь, однако ж; это далеко уж не тот буян Ноздрев, которого мы знавали в цветущую пору молодости, но солидный, хотя и прогоревший консерватор. Штука в том, что ему посчастливилось сделать какой-то удивительно удачный донос, который сначала обратил на себя внимание охранительной русской прессы, а потом дальше да шире – и вдруг с ним совершился спасительный переворот! Теперь он пьет только померанцевку, говорит только трезвенные слова, трактиры посещает исключительно ради внутренней политики, и обе бакенбарды содержит одинаковой длины и одинаковой пушистости. И вдобавок, не дожидаясь, чтоб другие назвали его патриотом, сам себя называет таковым. Словом сказать, стоит на высоте положения и нимало этим не отягощается.
Встретились мы с ним на Невском, и, признаюсь, первым моим движением было бежать. Однако вижу, что человек совсем-таки переродился – делать нечего, подошел. Прежде всего, разумеется, старину помянули. Вспомнили, как мы с ним да с Чичиковым (вот истинный-то охранитель был! и как бы его сердце теперь радовалось!) поросенка на постоялом дворе ели; потом перешли к Мижуеву.
Ах, тетенька, какое это волшебное время было! Вообразите, тогда можно было поросенка под хреном на постоялом дворе достать! А если верить старику Державину, то можно было видеть мужика, который у всех на глазах «ел добры щи и пиво пил»! * Ведь это, по-нынешнему, все равно, что шпаги глотать! Где это было? в какой губернии? в каком уезде? и кто в то время становым приставом в том месте был? Признаюсь, у меня даже голос дрогнул при мысли, что все эти факты прошли у нас перед глазами, что они возникли и осуществились без малейшего участия земства, единственно по манию волшебника-станового – и ничего-то мы своевременно не заметили!
Много тогда таких волшебников было, а нынче и вдвое против того больше стало. Но какие волшебники были искуснее, тогдашние или нынешние, – этого сказать не умею. Кажется, впрочем, что в обоих случаях вернее воскликнуть: как только мать – сыра земля носит!
Разумеется, Ноздрев сейчас же увлек меня в трактир, и там, за порцией селянки, мы разговорились. Увы! ряды стариков ужасно как поредели! Чичиков, Плюшкин, Петух, генерал Бетрищев, Костанжогло, отец и благодетель города полиций-мейстер, прокурор, председатель гражданской палаты, дама просто приятная и дама приятная во всех отношениях – все это примерло и свезено на кладбище. Остались в живых лишь немногие. Собакевич, который, по смерти Феодулии Ивановны, воспользовался ее имением и женился на Коробочке, с тем, чтоб и ее имением воспользоваться. Супруги Маниловы, которые живут теперь в Кобеляках, в ужаснейшей нищете, потому что Фемистоклюс промотал все имение и теперь сам служит в швейцарах в трактире Лопашова. Губернатор, который вышивал по канве и впоследствии блеснул было на минуту на горизонте, но чего-то не предусмотрел и был за это уволен. * Теперь он живет в Риме, получая присвоенное содержание и каждогодно поднося папе римскому туфли своей собственной работы de la part d’un homme d’état russe [211]211
от одного русского государственного деятеля.
[Закрыть]. И, наконец, Мижуев, который служит мировым судьей и ужасно страдает, потому что жена его (тетенька! представьте себе даму, которая на карточках пишет: рожденная Ноздрева!) открыто живет с чичиковским Петрушкой, состоящим при Мижуеве в качестве письмоводителя.
– Ну, а вы-то сами ка̀к… служите? – прервал я его.
– Покуда состою председателем земской управы, – ответил он скромно, – а дальше что̀ бог даст!
– В Петербург присмотреться приехали?
– Да, хотелось бы… посодействовать…
И он изложил мне свою теорию «содействия»…
А знаете ли, голубушка, ведь Ноздрев-то умный! Покуда Пафнутьевы, Дракины да Ивановы одно и то же долбят: наяривай! жарь! – он очень скромно, но твердо и с достоинством говорит: как угодно! Конечно, с точки зрения практических последствий, нельзя наверное определить, насколько подобное содействие может счесться плодотворным, но, во всяком случае, в смысле карьеры, со стороны Ноздрева это прием удивительно ловкий.
Ничто так не располагает нас к человеку, как выражаемое им нам доверие. Иногда мы и сами понимаем, что это доверие. нимало не выводит нас из затруднения и ровно никаких указаний не дает, но все-таки не можем не сохранить доброго воспоминания о характере доверяющего.
– Так как же, старик? По-твоему, «как угодно»?
– Как угодно, вашество! Ах, вашество!
– Ну-ну-ну, старик, успокойся! будем иметь в виду! Вот, господа! добрые-то всегда так говорят!
И впоследствии, когда где-нибудь откроется вакансия смотрителя, экзекутора или эконома, память невольно напоминает нам о добром старике, который, не мудрствуя лукаво, принес нам свое ноздревское сердце и заветную думу всей своей жизни выразил в одном восклицании: как угодно! – Определить Ноздрева… этот не выдаст!
А Ноздрев, с тех пор, как удачный донос сделал, только о том и мечтает, как бы местечко смотрителя или эконома получить, особливо ежели при сем и должность казначея в одном лице сопрягается. Получив эту должность, он годик-другой будет оправдывать доверие, а потом цапнет куш тысяч в триста, да и спрячет его в потаенном месте. Разумеется, его куда следует ушлют, а он там будет жить да поживать, да процентики получать.
Вот он нынче каков стал: всё только солидные мысли на уме. Сибири не боится, об казне говорит: у казны-матушки денег много, и вдобавок сам себя патриотом называет. И физиономия у него сделалась такая, что не всякий сразу разберет, приложимо ли к ней «оскорбление действием» или не приложимо.
Основания ноздревской теории содействия очень просты. По мнению его, такие слова, как: наяривай, жарь, гни в бараний рог! – имеют чересчур императивный характер и в этом смысле могут представлять хотя благонамеренную, но очень серьезную опасность. Сами по себе взятые, они заслуживают поощрения и похвалы, но ежели их начнут выкрикивать поголовно все Пафнутьевы, то из совокупности этих криков образуется вой, который будет свидетельствовать уже не о содействии, а о разнузданности страстей. Да притом же, наяривание и не всегда осуществимо. Иногда оно признается неудобным ввиду некоторых деликатных веяний; иногда для подобной операции не имеется достаточно опытных исполнителей; иногда исполнители и нашлись бы, но содержание их потребует новых расходов… А между тем «содействователи» сбились в косяк и воют. Ведь этак, пожалуй, в самих «содействователей» придется палить, лишь бы из затруднения выйти!
Ноздрев доказывал даже – и небезосновательно, – что все вообще глаголы, употребляемые в повелительном наклонении, имеют революционный характер. Они всегда декретируют целую систему, и притом декретируют устами таких людей, которые до тех пор ели из одного корыта с поросятами. Понимают ли эти люди значение произносимого ими возгласа, могут ли они уяснить себе, сколько непредвиденных расходов потребует его осуществление, – это более чем сомнительно. По крайней мере, Ноздрев думает, – и я в этом вполне доверяю его опытности, – что они потому только выкрикивают: наяривай, что вспомнили, как они то же самое слово провозглашали, pro domo sua [212]212
в собственных интересах.
[Закрыть], на конюшнях и псарнях. Но они решительно не понимают, что требование, выраженное в форме столь резкой и даже неучтивой, должно стеснить свободу воздействия, и потому отнюдь не может быть терпимым. Ибо сто̀ит лишь стать на покатость, а там оно уж и само собой под гору пойдет. Сначала воют: наяривай! а потом, пожалуй, начнуть выть: довольно наяривать! будет! Понятно, что подобная перспектива не может не тревожить таких опытных знатоков человеческого сердца, как Ноздрев.
Словом сказать, развивая свою теорию, Ноздрев обнаружил и недюжинный ум, и замечательную чуткость в понимании средств к достижению желаемого. Так что ежели судить с точки зрения «лишь бы понравиться» (самая это отличнейшая точка, милая тетенька!), то лучше теории и выдумать нельзя.
Но я все-таки попытался сделать некоторые возражения.
– Ноздрев! – сказал я ему. – Я уважаю вас, как человека искренно убежденного. Но именно потому, что я уважаю вас, я и решаюсь высказать, что с некоторыми вашими положениями согласиться не могу. Я уступаю вам, что, в смысле свободы действия, выражение «как угодно» не оставляет желать ничего лучшего, но сознайтесь, однако ж, что действительного «содействия» все-таки из него не выжмешь. Коли хотите, это почтительное подтверждение накопленной веками мудрости, это прекрасный порыв благодарного чувства – но и только. Ведь и для «свободы действия» необходимо какое-нибудь содержание, так как в противном случае она перейдет в разгул, а от разгула до потрясения основ рукой подать. Это до такой степени чувствуется всеми, что именно поиски за содержанием и составляют характеристическую черту современности. Допустим, что слово «наяривай» не сто̀ит выеденного яйца, но все-таки оно нечто дает. Допустим, что оно невежливо по форме и глупо по содержанию, но и это следует приписать не предвзятости намерения, а незаконченности наших бытовых форм, невыработанности обывательской фразеологии и недостатку воображения. Нельзя, однако ж, за это одно подвергать простодушных людей расточению, яко революционеров. Неполитично и несогласно с справедливостью отталкивать от себя детей природы, хотя бы последние, по незнанию орфографии и знаков препинания, и допустили некоторые невежества. Пусть лучше в воздухе нехорошо попахнет, нежели огорчать невинных людей, которые чем богаты, тем и рады. Ибо ежели мы таковых от себя отженем, то на ком же будем осуществлять опыты «средостения» и с кем предпримем труд «оздоровления корней»? Ах, Ноздрев, Ноздрев! давно ли вы сами стояли с прочими поросятами у корыта и кричали: наяривай! а вот теперь, как получили надежду добраться до яслей, то мечтаете, что оттуда горизонты увидите! Ничего вы, мой друг, ниоткуда не увидите, кроме фиги, которую и прочие фиговидцы * видят. И помяните мое слово…
Но, дойдя до этих пределов, я вдруг сообразил, что произношу защитительную речь в пользу наяривательного содействия. И, как обыкновенно в этих случаях бывает, начал прислушиваться, я ли это говорю или кто другой, вот хоть бы этот половой, который, прижав под мышки салфетку, так и ест нас глазами. К счастью, Ноздрев сразу понял меня. Он был, видимо, взволнован моими доводами и дружески протягивал мне обе руки.
– Вы победили меня! – сказал он. – Но мне кажется, что и я не совсем неправ. Во всяком случае, выйти из этого затруднения довольно легко. Стоит только сблизить обе формулы и составить из них одну: «наяривай… а, впрочем, как угодно!» И все будет в порядке.
Нет, как хотите, а он умный!
Вообще нынче * содействия в ходу, и между ними много таких, о которых даже говорить стыдно. Все нынче как-то врозь пошло, все норовит, под видом содействия, междоусобие произвести. И у всех при этом один двигатель: карьера. Может быть, я подробнее напишу вам об этом явлении, но, может быть, и совсем не напишу. Всяко может случиться. В последнем случае придется опять возложить надежду на «Русскую старину»… через тридцать лет. Но как невыносимо обязательное безмолвие ввиду этой нелепой суеты – этого я даже выразить вам не могу… *
Письмо седьмое *
Милая тетенька.
Все это время я был необыкновенно расстроен. Легкомысленные приятели до того надоели своими жалобами, что просто хоть дома не сказывайся… Положим, что время у нас стоит чересчур уж серьезное; но ежели это так, то, по мнению моему, надобно и относиться к нему с такою же серьезностью, а не напрашиваться на недоразумения. А главное, я-то тут при чем ?..Впрочем, судите сами.
Приходит один.
– Представь, какая штука со мною случилась! Сажусь я сегодня у Покрова на конку, вынимаю газету, читаю. Только газету-то, должно быть, не ту, какую на конке читать приличествует… И вдруг, слышу монолог: «Такое, можно сказать, время, а господа такие, можно сказать, газеты читают!» Молчу. Однако чувствую, что соседи около меня начинают ежиться. Монолог продолжается. «А в этих газетах – вот в этих – именно самый яд-то и заключается. Где первоначало всему? – в газете! где источник-корень зла? – в газете! А господа вместо того, чтобы посодействовать: вот мол, господин газетчик, как мы тебя тонко понимаем! – а они, между прочим, даже других в соблазн вводят». И по мере того как монолог развивается, соседи всё пуще и пуще ежатся; одна дама встает и просится выйти; я сам начинаю сознавать, что молчать больше нельзя. Осматриваюсь: наискосок сидит старичок. В потертом пальто, в ваточном картузе, нос красный. Ясно, что был в питейном у Покрова и теперь едет в питейный на Сенную. – Вы это про меня, что ли? – спрашиваю. «Вообще про господ либералов»… – Ну? – «Помилуйте, господин, да неужто ж свои чувства выразить нельзя? Да я, коли у меня чувства правильные…» Кабы я был умен, надо бы мне сейчас уйти, а я остался, начал калякать. Дальше да больше – история. Не успели до Юсупова сада доехать, как уж всем нам оставался один исход: участок… Какова штука! вот уж именно нелегкая понесла по конке ездить!
– Чего же ты жалуешься, однако! ведь в участке, конечно, тебя рассудили, оправили и выпустили?
– Скажите на милость! да разве я в участок ехал? ведь я по своим делам ехал, а вместо того в участке целое утро провел!
– Послушай! зачем же ты ехал? разве не мог ты дома посидеть?
– Конечно, мог бы, да ведь думается…
– А думается, так не ропщи. Не умел сидеть дома – посиди в участке.
Приходит другой.
– Вот так штука со мной сегодня была! Зашел я в трактир закусить, взял кусок кулебяки и спросил рюмку джина. И вдруг сбоку голос: «А наше отечественное, русское… стало быть, презираете?» Оглядываюсь, вижу: стоит «мерзавец». Рожа опухшая, глаза налитые, на одной скуле ушибленное пятно, на другой – будет таковое к вечеру; голос с перепою двоится. Однако покуда молчу. А «мерзавец» между тем продолжает: «Нынче все так: пропаганды проповедуют да иностранные образцы * вводить хотят, а позвольте узнать, где корень-причина зла?» Кабы я умен был, мне бы заплатить, да и удрать, а я, вместо того, рассердился. – Ты это мне, что ли, пьяное рыло, говоришь? – Смотрю, а в буфетную уж штук двадцать женихов из Ножовой линии наползло. Гогочут. И буфетчик тоже, не то чтоб смеется, а как-то стыдливо опускает глаза, когда в мою сторону смотрит. «Однако, господин, – это «мерзавец» опять говорит, – ежели всякий будет пьяным рылом называть, а я между тем об себе понимаю, что чувства мои правильные…» Словом сказать, протокол. Все женихи в один голос показали: «Господин Расплюев правильные чувства выражали, а господин (имярек) его за это «пьяным рылом» обозвали». Написали, подписали и сегодня же этот протокол к мировому судье отправляют…
– И поделом. Зачем в трактир ходишь! – невольно вырвалось у меня.
– И сам, братец, теперь вижу: черт меня дергал в трактир ходить! Водка – дома есть, а ежели кулебяки нет, так ведь и селедкой закусить можно!
– Еще бы! Но, впрочем, позволь, душа моя! из-за чего ты, однако, так уж тревожишься! Ведь мировой судья, наверное, внемлет, и рано или поздно, а правда все-таки воссияет…
– Чудак ты! да разве я для того в трактир ходил, чтоб правда воссияла? Положим, однако ж, что у участкового мирового судьи правда и воссияет – а что̀, ежели Расплюев дело в мировой съезд перенесет? А ежели и там правда воссияет, а он возьмет да кассационную жалобу настрочит? Сколько времени судиться-то придется?
Стали мы рассчитывать. Вышло, что ежели поискуснее кассационные поводы подбирать да, не балуючи противную сторону, сроки наблюдать, то годика на четыре с хвостиком хватит. Но когда мы вспомнили, что в прежних судах подобное дело наверное протянулось бы лет девяносто, то должны были согласиться, что успех все-таки большой.
И точно: у мирового судьи судоговорение уж было, и тот моего друга, ввиду единогласных свидетельских показаний, на шесть дней под арест приговорил. А приятель, вместо того, чтоб скромненько свои шесть дней высидеть, взял да нагрубил. И об этом уже сообщено прокурору, а прокурор, милая тетенька, будет настаивать, чтоб его на каторгу сослали. А у него жена, дети. И все оттого, что в трактир, не имея «правильных чувств», пошел!
Приходит третий.
– Ах, голубчик, какая со мной вчера штука случилась! Сижу я в «Пуританах», * а рядом со мной в кресле мужчина сидит. Доходит дело до дуэта… помните, бас с баритоном во все горло кричат: loyaltà, loyaltà! [213]213
законность, законность!
[Закрыть]Испокон веку принято в этом месте хлопать, и вчера стали хлопать и кричать bis !..И я грешным делом хлопнул. Только и невдомек мне, что сосед, покуда я хлопал да bis кричал, как-то строго на меня посмотрел. Ну, повторили дуэт, а я опять кричу: bis! bis! Он и не выдержал: «понравилось?» – говорит. Я туда-сюда; вспомнил, что loyaltà-то вместо libertà [214]214
свобода.
[Закрыть]поставлено – и рад бы хлопанцы-то свои назад взять, ан нет: ау, брат! не воротишь! Наступил антракт, вижу, мужчина мой в проходе остановился, и около него кучка собралась. Поговорят, поговорят, да на меня глазами и вскинут. Не то чтоб очень строго, а вроде как бы хотят сказать: ах, молодой человек! молодой человек! Потом, вижу, начинает мой мужчина пробираться к выходу и вдруг… исчез! Я за ним, вхожу в коридор: одевается, хочет уезжать. Увидел меня: «вам, говорит, молодой человек, небходимо благой совет дать: ежели вы в публичном месте находитесь, то ведите себя скромно и не оскорбляйте чувств людей, кои, по своему положению…» Сказал, и был таков. Я было за ним, но тут уж полицейский вступился. «Позвольте, говорит, и мне вам благой совет подать: не утруждайте его превосходительства!» Так я и остался… Ну, скажи на милость, на кой черт мне эти «Пуритане» понадобились?
– Это уж, братец, твое дело. Я и сам говорю: вместо того, чтоб дома скромненько сидеть, вы все, точно сбесились, на неприятности лезете! Но не об том речь. Узнал ли ты, до крайней мере, кто этот мужчина был?
– Да бесшабашный советник Дыба, сказывали…
– Дыба! ах, да ведь я с ним в прошлом году в Эмсе преприятно время провел! на Бедерлей вместе лазали, в Линденбах, бывало, придем, молока спросим, и Лизхен… А уж какая она, к черту, Лизхен! поясница в три обхвата! Всякий раз, бывало, как она этой поясницей вильнет, Дыба молвит: вот когда я титулярным советником был… И крякнет.
– Ах сделай милость, выручи!
– Да ведь он и фамилии твоей не знает?
– То-то, что знает. * На беду, капельдинер человек знакомый попался.
– Гм !..стало быть, Дыба расспрашивал?
– В том-то и дело, что расспрашивал. И когда ему мою фамилию назвали, * то он оттопырил губы и произнес: а! это тот самый, который… Нет, ты уж выручи!
Делать нечего, пришлось выручать. На другое утро, часу в десятом, направился к Дыбе. Принял, хотя несколько как бы удивился. Живет хорошо. Квартира холостая: невелика, но приличная. Чай с булками пьет и молодую кухарку нанимает. Но когда получит по службе желаемое повышение (он было перестал надеяться, но теперь опять возгорел), то будет нанимать повара, а кухарку за курьера замуж выдаст. И тогда он, вероятно, меня уж не примет.
– А! господин сопациент! помню! помню! Какими судьбами?
– Да вот, вашество, поблагодарить пришел… Внимание ваше… Бедерлей… Линденбах… Та̀к мне тогда лестно было!
– Что ж, очень рад! очень рад! Что от меня зависело… весьма, весьма приятно время провели! Только, знаете, нынче приятности-то уж не те, что̀ прежде были…
– Ах, вашество! да неужто ж я этого не понимаю! неужто я не соображаю! нынешние ли приятности или прежние! Прежние, можно сказать, были только предвкушением, а нынешние…
– То-то, то-то. Та̀к вы и соображайте свои поступки. Прежние приятности – сами по себе, а нынешние – преимущественно…
Ждал я, что он и мне велит чаю с булками подать, но он не велел, а только халат слегка запахнул. Тем не менее дело у нас шло настолько гладко, что он повел меня квартиру показывать: однако ж ни кухни, ни кухаркиной комнаты не показал. Но когда я приступил к изложению действительной причины моего визита, то он нахмурился. Сказал, что пора серьезно на современное направление умов взглянуть; что мы всё либеральничали, а теперь вот спрашиваем себя: где мы? и куда мы идем? И знаете ли что̀, милая тетенька? – мне даже показалось, что, говоря о либералах, он как будто бы намекал на меня. Потом сказал, что он, к сожалению, уж кого следует предупредил, и теперь неловко… И только тогда, когда я неопровержимыми доводами доказал, что спасти невинно падшего никогда для великодушного сердца не поздно, – только тогда он согласился «это дело» оставить.
Можете себе представить радость моего приятеля, когда я ему объявил об результате моего предстательства! Во всяком случае, я теперь уверен, что впредь он в театр ни ногой; я же буду иметь в нем человека, который и в огонь и в воду за меня готов! Так что ежели вам денег понадобится – только черкните: я у него выпрошу.
Приходит четвертый.
– Вообрази, какая со мной штука случилась! Пошел я вчера, накануне Варварина дня – жена именинница, – ко всенощной. Только стою и молюсь…
Приходит пятый.
– Вот так штука! Еду я сегодня на извозчике…
Приходит шестой.
– Нет, да ты послушай, какая со мной штука случилась! Прихожу я сегодня в Милютины лавки, спрашиваюбалыка…
Приходит седьмой.
– Коли хочешь знать, какие штуки на свете творятся, так слушай. Гуляю я сегодня по Владимирской и только что поравнялся с церковью…
Приходит восьмой; но этот ничего не говорит, а только глазами хлопает.
– Штука! – наконец восклицает он, переводя дух.
Словом сказать, образовалась целая теория вколачивания «штуки» в человеческое существование. На основании этой теории, если бы все эти люди не заходили в трактир, не садились бы на конку, не гуляли бы по Владимирской, не ездили бы на извозчике, а оставались бы дома, лежа пупком вверх и читая «Nana» * , – то были бы благополучны. Но так как они позволили себе сесть на конку, зайти в трактир, гулять по Владимирской и т. д., то получили за сие в возмездие «штуку».
«Штука» – сама по себе вещь не мудрая, но замечательная тем, что обыкновенно ее вколачивает «мерзавец». Вколачивает, и называет это вколачиванье «содействием». Тот самый «мерзавец», которого все сознают таковым, но от которого никак не могут отделаться, потому что он, дескать, на правильной стезе стоит. Я, однако ж, позволяю себе рассуждать так: мерзавец есть мерзавец – и более ничего. А к тому присовокупляю, что ежели вскоре не последует умаления мерзавцев, то они по горло хлопот наделают. Ибо не в том дело, что они либералов на рюмке джина подлавливают, а в том, что повсюду, во всех щелях и слоях, их мерзкие дела бессмысленнейшую сумятицу заводят.
Как бы то ни было, но ужасно меня эти «штуки» огорчили. Только что начал было на веселый лад мысли настраивать – глядь, ан тут целый ряд «штук». Хотел было крикнуть: да сидите вы дома! но потом сообразил: как же, однако, все дома сидеть? У иного дела есть, а иному и погулять хочется… Так и не сказал ничего. Пускай каждый рискует, коли охота есть, и пускай за это узнает, в чем «штука» состоит!
А мысли у меня тем временем расстроились. С allegro con brio * [215]215
быстро, с блеском.
[Закрыть]на andante cantabile [216]216
медленно, певуче.
[Закрыть]перешли…
Вот наше житьишко каково. Не знаешь, какой ногой ступить, какое слово молвить, какой жест сделать – везде тебя «мерзавец» подстережет. И вся эта бесшабашная смесь глупости, распутства и предательства идет навстречу под покровом «содействия» и во имя его безнаказанно отравляет человеческое существование. Ябеда, которую мы некогда знавали в обособленном состоянии (и даже в этом виде она никогда не казалась нам достолюбезною), обмирщилась, сделалась достоянием первого встречного добровольца.
Не правда ли, какая поразительная картина нравов? Да, даже для людей, видавших на своем веку виды, она кажется поразительною и неожиданною. Может быть, в сущности, она и не поразительнее картин доброго старого времени, с которыми мы ее сравниваем, однако ведь надо же принять во внимание, что время-то идет да идет, а картины всё те же да те же остаются. Вот эта-то мысль именно и донимает, что самое время как будто утратило всякую власть над нами. По крайней мере, мне лично по временам начинает казаться, что я стою у порога какой-то загадочной храмины, на дверях которой написано: ГАЛИМАТЬЯ. И стою я у этих дверей, как прикованный, и не могу отойти от них, хотя оттуда так и обдает меня гнилым позором взаимной травли и междоусобия. Там, за этими дверьми, мечутся обезумевшие от злобы сонмища добровольцев-соглядатаев, пугая друг друга фантастическими страхами, стараясь что-то понять и ничего не понимая, усиливаясь отыскать какую-то мудреную комбинацию, в которой они могли бы утопить гнетущую их панику, и ничего не обретая. Злые сердцем, нищие духом, жестокие, но безрассудные, они сознают только требования своего темперамента, но не могут выяснить ни объекта своих ненавистей, ни способов отмщения. Все в этом соглядатайственном мире загадочно: и люди, и действия. Люди – это те люди-камни, которые когда-то сеял Девкалион * и которые, назло волшебству, как были камнями, так и остались ими. Действия этих людей – каменные осколки, неведомо откуда брошенные, неведомо куда и в кого направленные. В пустоте родилась их злоба, в пустоте она и потонет. Но – увы! – не потонет смута, которую ее бессмысленное шипение внедрило в человеческие сердца.
С некоторым страхом я спрашиваю себя: ужели же не исчезнут с лица земли эти пустомысленные риторы, эти лицемерствующие фарисеи, все эти шипящие гады, которые с такою назойливою наглостью наполняют современную атмосферу миазмами смуты и мятежа? * Шутка сказать, и до сих пор еще раздаются обвинения в «бреднях», а сколько уже лет минуло с тех пор, как эти бредни были да быльем поросли? Неужели мы с тех пор недостаточно измельчали и опошлели? Неужели мы мало кричали: не нужно широких задач! не нужно! давайте трезвенные слова говорить! Помилуйте! ведь уж не о «бреднях» идет в настоящее время речь – ах, что̀ вы! – а о простом, простейшем житии, о самой скромной претензии на уверенность в завтрашнем дне. «Бредни»! – не помните ли, голубушка, в чем бишь они состоят? «Бредни»! да не то ли это самое, что несколько становых, квартальных и участковых поколений усиленно и неустанно вышибали из нас, в чаянии, что мы восчувствуем и пойдем вперед «в надежде славы и добра»? Так неужели же и после того мы не восчувствовали и продолжаем коснеть? – может ли это быть!!! Нет, это не так, это клевета. Мы до такой степени восчувствовали, что нигде, кроме навозной кучи, уж и не чаем обрести жемчужное зерно. Шиллеры, Байроны, Данты! вы, которые говорили человеку о свободе и напоминали ему о совести – да исчезнет самая память об вас! Мы до такой степени и так искренно ошалели, что если бы вы вновь появились в эту минуту, то мы, не обинуясь, причислили бы вас к лику «мошенников пера» и «разбойников печати». Вы не утешили бы, а испугали бы нас. «Ах, можно ли так говорить!», «а ну, как подслушает Расплюев!» – вот что̀ услышали бы вы от наиболее доброжелательных из нас! И Расплюев непременно подслушал бы и пригласил бы вас в участок. А участок нашелся бы в затруднении, кого предпочесть: Расплюева Шиллеру или Шиллера Расплюеву. Не вы теперь нужны, а городовые. И не только на своих постах нужны городовые, но и в мире человеческой совести. Что̀ же делать! проживем и с городовыми! Но пускай же судьба оставит нас с одними ими и избавит от партикулярных шипений и трубных звуков, благодаря которым нет честного человека, который не чувствовал бы себя в тисках ябеды.








