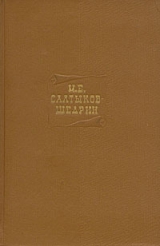
Текст книги "Том 14. За рубежом. Письма к тетеньке"
Автор книги: Михаил Салтыков-Щедрин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 54 страниц)
Шестой день. «Сегодня я хочу кутить!» говорите вы, и мы отправляемся в «Самарканд». Но там застаем драку. Выбегает к нам сам хозяин и говорит: «Это ничего! Это офицеры купца бьют! сейчас кончат!» Заказываем обед, спрашиваем шампанского и смотрим друг на друга. Припоминаем, какие бывают на свете «разговоры», и никак припомнить не можем. Наконец я говорю: а может быть, в эту самую минуту какая-нибудь комиссия без шума, без хвастовства, заботится об нас, благополучие наше созидает? – Finissez! [193]193
Перестань!
[Закрыть]– Что? не нравится вам это напоминание, тетенька? все еще, видно, «бредни»-то в головке ходят! Ну, нечего делать, коли не нравится, едем домой и – ба̀иньки.
На седьмой день мы все слова перезабыли. Сидим друг против друга и вздыхаем. Сверх того, я лично чувствую, что у меня во всем теле зуд. Господи! да уж не кузька * ли на меня напал?
Вот вам целая неделя. Ежели мало, можно и другую такую же подобрать.
Это подробности, а вот и общие правила:
1) Никогда не спрашивать: можно ли? Это тривиально и запоздало. Нынче – все можно.
2) О «бреднях» лучше всего позабыть, как будто их совсем не было. Даже в «антибредни» не очень азартно пускаться, потому что и они приедаться стали. Знаете ли, милая тетенька, мне кажется, что скоро всех этих искателей и лаятелей будут в участок брать, а там им, вытрезвления ради, поясницы будут дегтем мазать?
Приезжайте, голубушка!
Письмо второе *
Вот, тетенька, какая вы милая! Побывали в Петербурге я сами убедились, как у нас хорошо. Все именно так и произошло, как я в прошлом письме проектировал. И сидели мы, и ходили, и стояли – как кто хотел. А из публичных действий, побывали в «Самарканде», катались по островам, у дочери городового на свадьбе присутствовали и проч. И никто нас за это не забранил. Как приехали вы к нам, так и уехали – на собственном иждивении, без провожатого. А отчего? – оттого, голубушка, что такое нынче общее правило: питать доверие даже относительно таких лиц, которые, судя по их антецедентам * , отнюдь доверия не заслуживают.
Предполагается, что жизнь со всеми «сыграет штуку». Одних – «образумит» окончательно, других – ежели и не «образумит», то заставит глотать «бредни», притворяться, подплясывать, произносить вымученные, исполненные антибредней professions de foi [194]194
программы.
[Закрыть]. Именно сама жизнь это сделает, а совсем не околоточные. Жизнь испуганная, перевернутая вверх дном, замученная, мечущаяся под гнетом паники. А мы с вами будем сидеть и радоваться. Ибо ничто так не веселит, как вид человека, приведенного к одному знаменателю. Все нутро у него колотится и стонет, а он пляшет… ха-ха! Никто его вещественной плеткой не понуждает, а он сам собойкричит: эй, жги, говори! – ха-ха! Значит, понимает, чье мясо кошка съела… ха-ха! Помилуйте! да одной этой забавы по горло достаточно, чтоб распотешить не весьма требовательных зрителей! А ежели к этому, в виде обстановки, прибавить толпы скалящих зубы ретирадников, а вдали, «у воды», массы обезумевших от мякинного хлеба «компарсов» * – просто со смеху умереть можно! Особливо ежели в домашнем обиходе нет ни наук, ни искусств, ни промышленности, ни денег, ни дела…
А второе нынешнее правило: не стеснять действий, кои бесспорно человеческому естеству свойственны. Как например: пить чай с филипповскими калачами, ходить по улице, даже не имея уважительных для передвижения причин, и т. п. А так как мы с вами именно только такие действия и совершали, то никто нас в бараний рог и не согнул: пускай гуляют. Но ежели бы мы увлеклись и вздумали напомнить, что «errare humanum est» * [195]195
человеку свойственно заблуждаться.
[Закрыть], то нам объяснили бы, что это пословица, вышедшая из употребления, и что не только ссылаться на нее, но и сомнений по ее поводу возбуждать не надлежит. Просто-напросто надо позабыть. Это, тетенька, третье нынешнее правило, и оно так существенно, что я позволю себе остановиться на нем несколько подробнее.
Родопроисхождение этого третьего общего правила, как и всего вообще, чем красна наша жизнь, до крайности просто. «Надоело» – это во-первых. Тошно смотреть (а по другим: «взбесить может»), как люди путаются – пусть лучше прямой дорогой в Демидрон [196]196
Известное в Петербурге увеселительное заведение, украшение которого составляет девица Филиппо̀. ( Прим. M. Е. Салтыкова-Щедрина.)
[Закрыть]идут. Во-вторых, и хлопот с errare [197]197
заблуждениями.
[Закрыть]много: одних новых околоточных сколько потребуется. А в-третьих, по нынешнему времени, не errare нужно, а «внушать доверие». Только и всего. Вспомните древних римлян: заблуждались они да заблуждались (они и пословицу-то эту выдумали), а что̀ из того вышло? – вышло сначала падение западной римской империи, а потом и восточной. А если б они не заблуждались, но ездили в «Самарканд», то римская-то империя и поднесь, пожалуй, процветала бы; вандалы же, сарматы и скифы и сейчас гоняли бы Макаровых телят и в лесах Германии, и на низовьях Дуная и Днепра.
Все это так умно и основательно, что не согласиться с этими доводами значило бы навлекать на себя справедливый гнев. Но не могу не сказать, что мне, как человеку, тронутому «бреднями», все-таки, по временам, представляются, кое-какие возражения. И, прежде всего, следующее: что̀ же, однако, было бы хорошего, если б сарматы и скифы и доднесь гоняли бы Макаровых телят? Ведь, пожалуй, и мы с вами паслись бы в таком случае где-нибудь на берегах Мьи? [198]198
Старинное название реки Мойки. ( Прим. M. Е. Салтыкова-Щедрина.)
[Закрыть]
Похоже на то, что паслись бы. Как ни ненадежна пословица, упразднившая римскую империю, но сдается, что если б она не пользовалась такою популярностью, то многое из того, что ныне заставляет биться наши сердца гордостью и восторгом, развилось бы совсем в другом направлении, а может быть, и окончательно захирело бы в зачаточном состоянии. Могло ли бы, например, состояться призвание варягов, если бы «errare» своевременно не повредило восточную римскую империю и через то не заставило бы ее околоточных смотреть на этот факт сквозь пальцы? А если бы не состоялось призвание варягов, то не было бы удельного периода, не было бы боярина Кучки и основания Москвы, не было бы основания города Санкт-Петербурга и учреждения института урядников. Вот что наделало errare humanum est. Имеем ли же мы право так строго относиться к нему?
Вообще ничто в мире не пропадает даром, милая тетенька. В сущности, и восточная римская империя не пропала * , а только места, насиженные «порфирородными» и «багрянородными», заняли «Мохамедовы сыны». «Порфирородные»-то ушли, а восточные римляне и при «Мохамедовых сынах» остались при прежних занятиях, с тем лишь изменением, что уж не «багрянородные», а Мохамедовы сыны мужей обратили в рабство, а жен и дев (которые получше) разобрали по рукам. Но, бог даст, и Мохамедовы сыны уйдут, а на их месте явятся или Георг греческий, или Карл румынский, или Милан сербский, или, наконец, Баттенбергский принц. А восточные римляне по-прежнему останутся при своих занятиях, и, по-прежнему, Баттенбергский принц мужей обратит в рабство, а жен и дев уведет в плен. И все это совершится при помощи errare humanum est.
Но, может быть, вы скажете: урядники-то могли бы возникнуть * и независимо от errare humanum est… Совершенно с вами согласен. Как могли бы возникнуть? – да так, как-нибудь. Тут «тяп», там «ляп» – смотришь, ан и «карабь». В ляповую пору да в тяповых головах такие ли предприятия зарождаются! А сколько мы ляповых пор пережили! сколько тяповых голов перевидели!
Но этого мало. Оставим в стороне события мирового значения и обратимся к нашей обыкновенной, будничной действительности. И тут мы на каждом шагу убеждаемся, какие глубокие следы повсюду оставило после себя errare humanum est. Эти прелестные ботинки, которые так обаятельно держат в плену вашу ножку, – они плод заблуждений, потому что «башмачник» бесчисленное множество столетий заблуждался, плетя лапти или выкраивая из сырых кож безобразные пироги, покуда, наконец, дошел до того перла создания, который представляет собой современная изящная ботинка. Эти прошивочки, сквозь которые пробивается нечто пленительно-розовое, – и они плод заблуждений, потому что трудно даже представить себе, милая тетенька, что вышло бы, если бы горькая необходимость заставила вас украсить вашу грудку первымикружевами, сплетенными первойкружевницей (говорят, будто в Кадниковском уезде плетут хорошие кружева, не верьте этому, голубушка!). Эти отлично выпеченные, мягкие как пух булки, которые мы едим, – плод заблуждений; ибо первыйхлебник непременно начал с месива, которого в наше время не станет есть даже «торжествующая свинья» (см. «За рубежом», гл. VI). Даже малороссийское сало – уж на что гаже! – и то плод заблуждений, потому что прототип его есть сало, которым современные нам кабатчики смазывают оси своих «купецких» тележек. А у нас с вами оси патентованные (смазываемые особенным составом), потому что мы ездим в изящных каретах, первообраз которых, однако ж, представляет собою… телега!
Когда все это, и мировое и будничное, представляется уму во всех деталях и разветвлениях и когда, в то же самое время, в ушах звенят клики околоточной литературы, провозглашающей упразднение девиза, благодаря которому мы имеем крупповские пушки, ружья-шасспо̀ и филипповские калачи, – право, становится жутко. Так вот и кажется, что сейчас принесут корыто с месивом и скажут: лакай! Или заставят бежать в лес и там собственными зубами зайцев ловить. Изловим, перекусим косому горло, в крови перепачкаемся да так сырьем все нутро до самой мездры и выедим! И потеряем при этом и ощущение холода, и ощущение стыда; будем мчаться по горам и по долам без перчаток, с нечищеными ногтями, с обвислыми животами (вспомните: в старину москвичи называли рязанцев «кособрюхими» – стало быть, такой пример уж был), с обросшими шерстью поясницами, а быть может, и с хвостами! Потому что все это: и ощущение холода, и ощущение стыда, и упругие животы, и выхоленные поясницы – все это последствия errare humanum est.
Таковы соображения, которые возникают во мне при мысли о третьем нынешнем общем правиле. И не могу не сознаться, что при существовании их подчинение этому правилу становится делом очень тяжелым, почти несносным.
Тем не менее, как ни жаль расставаться с тем или другим излюбленным девизом, но если раз признано, что он «надоел» или чересчур много хлопот стоит – делать нечего, приходится зайцев зубами ловить. Главное дело, общая польза того требует, а перед идеей общей пользы должны умолкнуть все случайные соображения. Потому что общая польза – это, с одной стороны… а впрочем, что бишь такое общая польза, милая тетенька?
В старину мы были не особенно сильны по части определений и в большинстве случаев полагали так: общая польза есть польза квартальных надзирателей. Или, говоря другими словами, общая польза есть то, что приносит надзирателям доход (безгрешный) или обеспечивает их спокойствие. Но ныне это учение признается уже неудовлетворительным, и сами участковые надзиратели откровенно заявляют, что не ради их общая польза существует, а, напротив того, они ради общей пользы получают присвоенное содержание. Подобно сему должны мыслить и прочие обыватели, хотя бы и без надежды на получение содержания.
Именно так я и поступаю. Когда мне говорят: надоело! – я отвечаю: помилуйте! хоть кого взбесит! Когда продолжают: и без errare хлопот много – я отвечаю: чего же лучше, коли можно прожить без errare! Когда же заканчивают: не заблуждаться по нынешнему времени приличествует, а внушать доверие! – я принимаю открытый и чуть-чуть легкомысленный вид, беру в руку тросточку и выхожу гулять на улицу. *
Теперь лето, и на петербургских улицах пропасть рабочего люда. Необходимо, чтоб эти люди питали доверие. Бредет какой-нибудь Радимич или Корела, с лопатой и киркой на плече, и непременно вздыхает (и об чем это они все вздыхают?). И вот навстречу его вздохам сорвался с цепи человек, у которого на лбу так и горит: «в надежде славы и добра»… Смотрит на него Корела * и долго ничего не понимает. Однако ж постепенно окриляется, окриляется – и вдруг мысль: ведь это значит, что недоимки простят! И что же! куда разом все подевалось: и вздохи, и задавленный вид! Пошел Корела как ни в чем не бывало лопатой поковыривать, киркой постукивать… Бог в помощь, Корела!
Вы скажете, может быть, что это с его стороны своего рода «бредни», – так что ж такое, что бредни! Это бредни здоровые, которые необходимо поощрять: пускай бредит Корела! Без таких бредней земная наша юдоль была бы тюрьмою, а земное наше странствие… спросите у вашего доброго деревенского старосты, чем было бы наше земное странствие, если б нас не поддерживала надежда на сложение недоимок?
На днях я зашел в курятную лавку и в одну минуту самым простым способом всем тамошним «молодцам» бальзам доверия в сердца пролил. «Почем, спрашиваю, пару рябчиков продаете?» – Рубль двадцать, господин! – Тогда, махнув в воздухе тросточкой, как делают все благонамеренные люди, когда желают, чтобы, по щучьему велению, двугривенный превратился в полуимпериал * , я воскликнул: «Истинно говорю вам: не успеет курица яйцо снести, как эта самая пара рябчиков будет только сорок копеек стоить!» *
Почему я это сказал и каким образом оно у меня вышло – я сам не могу объяснить. Вероятнее всего, что я солгал (нынче общее правило: лгать, покуда не уличат). Но надо было видеть, как эти простодушные люди при моих словах встрепенулись и ободрились. «Да мы всей душой!», «да для нас же лучше!», «да у нас тогда отбоя от покупателев не будет!» – только и слышалось со всех сторон. И заметьте, что я ни одним словом об «таксе» не намекнул. Ибо «такса» напоминает отчасти о социализме, отчасти о бывшем министре внутренних дел Перовском * и отчасти о водевилисте Каратыгине, который в водевиле «Булочная» возвел учение о «таксе» в перл создания. * Tout se lie, tout s’enchaîne dans ce bas monde! [199]199
Все связано, все переплетено в этом жалком мире!
[Закрыть]– как сказал некогда Ламартин. *
Такова программа всякого современного деятеля, который об общей пользе радеет. Не бредить, не заблуждаться, а ходить по лавкам и… внушать доверие. Ибо ежели мы не будем ходить по лавкам, то у нас, пожалуй, на вечные времена цена пары рябчиков установится в рубль двадцать копеек. Подумайте об этом, тетенька!
Только уж само собой разумеется, что если мы решаемся «внушать доверие», то об errare надо отложить попечение и для себя и для других. Потому что, в противном случае, возьмет «молодец» в руки счеты, начнет прикладывать да высчитывать, и окажется, что ничего дешевого у нас в будущем, кроме кузьки да гессенской мухи, не предвидится.
Таким образом, * оказывается, что «внушать доверие» значит перемещать центр «бредней» из одной среды (уже избредившейся) в другую (еще не искушенную бредом) * . Например, мы с вами обязываемся воздерживаться от бредней, а Корела пусть бредит. Мы с вами пусть не надеемся на сложение недоимок, а Корела – пусть надеется. И все тогда будет хорошо, и мы еще поживем. Да и ка̀к еще поживем-то, милая тетенька!
Но что̀ же нужно сделать для того, чтобы забредило такое подавленное суровою действительностью существо, как Корела? – Очень немногое: нужно только иметь наготове запас фантастических картин, смысл которых был бы таков: вот радости, которые тебя впереди ожидают! Или, говоря другими словами, надобно постоянно и без устали лгать.
Отсюда, новый девиз: humanum est mentire [200]200
человеку свойственно лгать.
[Закрыть], которому предназначено заменить вышедшую из употребления римскую пословицу * , и с помощью которой мы обязываемся на будущее время совершать наш жизненный обиход. Весь вопрос заключается лишь в том, скоро ли нас уличат? Ежели не скоро – значит, мы устроились до известной степени прочно; ежели скоро – значит, надо лгать и устраиваться сызнова.
Задача довольно трудная, но она будет в значительной мере облегчена, ежели мы дисциплинируем язык таким образом, чтобы он лгал самостоятельно, то есть как бы не во рту находясь, а где-нибудь за пазухой.
Мы всегда были охотники полгать, но не могу скрыть, что между прежним, так сказать, дореформенным лганьем и нынешним такая же разница, как между лимоном, только что сорванным с дерева, и лимоном выжатым. Прежнее лганье было сочное, пахучее, ядреное; нынешнее лганье – дряблое, безуханное, вымученное.
Дореформенные лгуны составляли как бы особую касту (не всякий сознавал себя достаточно одаренным), вроде старинных «явных прелюбодеев» * или нынешних рассказчиков из народного быта. Они лгали не от нужды, а потому, что «веселие Руси есть лгати» * . Поэтому лганье их было восторженное, художественно-образное и чуждое всякой тенденциозности. Память о лгунах нашей черноземной полосы жива и поднесь; но увы! старые тамбовцы-лгуны постепенно вымирают, а потомки их, пропившиеся и прогоревшие, довольствуются невнятным бормотанием.
Я помню, как при мне однажды тамбовский лгунище рассказывал, как его (он говорил: «одного моего друга», но, по искажениям лица и дрожаниям голоса, было ясно, что речь идет о нем самом) в клубе за фальшивую игру в карты били. Сначала вымазали горячей котлеткой лицо; потом приклеили к голой спине бубнового туза; потом, встряхнув, поставили на колени и велели прощенья просить и, наконец уж, начали настоящим образом бить. Кто-то крикнул: вымазать ему, мерзавцу, дегтем спину! – но тут уж полициймейстер вступился. Передавая эти потрясающие подробности, рассказчик видимо переживал незабвенные минуты, о которых повествовал. Когда речь шла о котлете – его лицо сжималось и голова пригибалась, как бы уклоняясь от прикосновения постороннего тела; когда дело доходило до приклейки бубнового туза, спина его вздрагивала; когда же он приступил к рассказу о встряске, то простирал руки и встряхивал ими воображаемый предмет. Одним словом, выходило и образно и талантливо. Но в то же время было несомненно, что он, по крайней мере, на две трети налгал. Взявши в основу истинное происшествие, он посте пенно увлекался художественными инстинктами (а может быть, и состраданием к самому себе) и доходил до небылиц. Скажи он просто: били! – право, этого было бы совершенно достаточно, чтоб пробудить жалость во всех сердцах. Но у него горело воображение, но сердце его учащенно билось и накипевшие слезы просились наружу. Все нутро подстрекало его, кричало: мало! мало! мало!
Так что в заключение, позабыв, что рассказывает о друге, и отожествив себя с ним, он воскликнул:
– Вот она, ключица-то! это мне ее в ту пору переломили! Чисто отделали… а?
Смотрим: ключица как ключица – целехонька! Ах, Иван Иваныч!
Словом сказать, еще немного – и эти люди рисковали сделаться беллетристами. Но в то же время у них было одно очень ценное достоинство: всякому с первого же их слова было понятно, что они лгут. Слушая дореформенного лжеца, можно было рисковать, что у него отсохнет язык, а у слушателей уши, но никому не приходило в голову основывать на его повествованиях какие-нибудь расчеты или что-нибудь серьезное предпринять.
Нынче на сцену выступили лгуны малоталантливые, тусклые по форме и тенденциозные по существу.
По форме современное лганье есть не что иное, как грошовая будничная правда, только вывороченная наизнанку. Лгун говорит «да» там, где следует сказать «нет», – и наоборот. Только и всего. Нет ни украшений, ни слез, ни смеха, ни перла создания – одна дерюжная, черт ее знает, правда или ложь. До такой степени «черт ее знает», что ежели вам в глаза уже триста раз сряду солгали, то и в триста первый раз не придет в голову, что вы слышите триста первую ложь.
По существу, современное лганье коварно и в то же время тенденциозно. Оно представляет собой последнее убежище, в котором мудрецы современности надеются укрыться от наплыва развивающихся требований жизни; последнее средство, с помощью которого они думают поработить в свою пользу обезумевшее под игом злоключений большинство.
Дерюжность формы в особенности делает нынешнюю ложь опасною. Она отнимает возможность выяснить цели лганья, а стало быть, и устеречься от него. Сверх того, лжец новой формации никогда не интересуется, какого рода страдания и боли может привести за собою его ложь, потому что подобного рода предвидения могли бы разбудить в нем стыд или опасения и, следовательно, стеснить его свободу. Раз навсегда сбросив с себя иго напоминаний и уколов, он лжет нагло, бессердечно и самодовольно, так что даже достаточно проницательные люди внимают ему в недоумении или же, в крайнем случае, видят в его лганье простую бессмыслицу.
Представьте себе, что вы в первый раз очутились в Петербурге и желаете знать, каким образом пройти, например, в Гороховую улицу. И вот первый лжец посылает вас на Обводный канал, а по прибытии туда вас принимает второй лжец и говорит: надо идти на Выборгскую сторону. Вы измучились, погубили пропасть времени, вы в изумлении спрашиваете себя: зачем понадобилась эта мистификация? – а в эту самую минуту к вам подходит третий лжец и советует поискать Гороховую в окрестностях Екатерингофа. Спрашивается: какой имеете вы резон не последовать этому совету? И вы опять губите время, опять изнуряетесь, не понимаете, что такое случилось?
Вот нынешние лгуны каковы.
Я не спорю * , что всю эту процедуру охотно проделал бы и дореформенный лгун; но, выполняя ее, он был бы искренно убежден, что это значит «дураков учить». И долго бы заливался смехом при мысли, «какую рожу дурак состроит, когда в Екатерингоф припрет». Нынешний лгун даже подобными неумными мотивами не задается. Он лжет на всякий случай, но лжет не потому, что у него в горле застряла случайная бессмыслица, а потому, что ложь сделалась руководящим принципом его жизни, исходным пунктом всей его жизнедеятельности. Или, говоря другими словами, он лжетпотому, что, по нынешнему времени, нельзяназвать правду по имени, не рискуя провалитьсясквозь землю.
Мне кажется, что в последних, подчеркнутых мною, словах заключается вся разгадка современного лганья. Прежде мы лгали, потому что была потребность скраситьправду жизни; нынче – лжем потому, что боимся притронутьсяк этой правде * . Как будто в самом воздухе разлито нечто предостерегающее: «Смотри! только пикни! – и все эти основы, краеугольные. камни и величественные здания – все разлетится в прах!» Или яснее: ежели ты скажешь правду, то непременно сквозь землю провалишься; ежели солжешь – может быть, время как-нибудь и пройдет.
Понятное дело, что последнее все-таки выгоднее.
Вероятно, вы удивитесь моим опасениям относительно основ и краеугольных камней. Возможное ли дело * , скажете вы, чтоб им угрожала какая-нибудь опасность, коль скоро в каждом городе заведено по исправнику, а в каждом селении по уряднику, которые только и делают, что наблюдают за незыблемостью краеугольных камней? Да, наконец, и ежечасный опыт ужели не убеждает…
Убеждает, голубушка, и не только убеждает, но даже сомнения не оставляет * . Лично я всегда верил в краеугольные камни и продолжаю верить. Нельзя не верить, когда ежечасно собственными глазами видишь, как потрясателя на веревочке ведут в участок, и когда ежедневно узнаешь из газет, как ловко с ихним братом распоряжаются в судебных инстанциях. Но согласитесь, что ежели на каждой российской сосне сидит по вороне, которые все в один голос кричат: посрамлены основы! потрясены! – то какую же цену может иметь мнение человека, положим, благонамеренного, но затерянного в толпе? И притом такого, который, вопреки всем вороньим свидетельствам, утверждает, что никогда околоточные надзиратели не были так деятельны, никогда основы не стояли так прочно и незыблемо, как теперь? Ведь человек-то этот, пожалуй, подозрительный! Ведь он-то, пожалуй, самый потрясатель и есть!
А сверх того, право, дело совсем не в защите основ и даже не в том, незыблемо ли они стоят или шатаются. Очень это нужно вороньему роду! Ему нужно одно: чтобы в общественном сознании произошел оптический переполох, благодаря которому и незыблемо стоящие основы казались бы расшатанными и неогражденными. Потому что переполох развязывает им руки и сообщает их крикам авторитетность. Увы! нынче даже в нашей небогатой численным персоналом литературе (еще недавно столь гадливой) завелись целые рои паразитов, которые только и живут, что переполохами да неплатежом арендных денег * .
Несомненно, что эти каркающие мудрецы – просто-напросто проходимцы. Но они знают, какого рода карканье требуется в данный момент на рынке, – и это обеспечивает им успех. Не факты действительного грабежа и вопиющего предательства священнейших интересов страны приводят их в негодование, но попытки отнестись к этим фактам сознательно и указать их значение в связи с общим жизненным строем. Подобные указания для них – нож вострый, потому что, когда их формулируют, то они сами сознают себя Юханцевыми и Базенами * и начинают мучиться опасениями, как бы не разгадали их игры. Что же удивительного, что они надседаются, каркая: посрамлены основы! потрясены! Это не крик сердца, а только предумышленный отвод глаз. А простодушные люди проходят мимо и думают: должно быть, и действительно наше дело плохо, коль скоро весь сосновый бор поголовно закаркал! И чувствуют, как постепенно ими овладевает оторопь.
Ложь, утверждающая, что основы потрясены, есть та капитальнаяложь, которая должна прикрыть собой всепоследующие лжи. Вот почему прочная постановка этой лжи прежде всего необходима каркающим мудрецам.
Как истинно русский человек, и я не изъят от простодушия и соединенных с ним предрассудков, а потому воронье карканье и на меня наводит суеверную оторопь, сопряженную с ожиданием грозящей опасности. Помилуйте! ведь от этих распутных птиц всего ждать можно! Ведь их нельзя ни убедить, ни усовестить, потому что они сами себя заранее во всем убедили и простили. Они не чувствуют потребности ни в одной из тех святынь, которые для каждого честного человека обязательно хранить в своем сердце. Нет для них ничего дорогого, заветного, так что даже с представлением об отечестве в их умах соединяется только представление о добыче – и ничего больше. Все это сообщает их деятельности такой размах, такую безграничность свободы, какая обыкновенному смертному совсем недоступна. С неизреченным злорадством набрасываются эти блудницы на облюбованную добычу, усиливаясь довести ее до степени падали, и когда эти усилия, благодаря общей смуте, увенчиваются успехом, они не только не чувствуют стыда, но с бесконечным нахальством и полнейшею уверенностью в безнаказанности срамословят: это мы сделали! мы! эта безмолвная, лежащая во прахе падаль – наших рук дело!
И мы с вами должны сложить руки и выслушивать эти срамословия в подобающем безмолвии, потому что наша речь впереди. А может быть, ни впереди, ни назади – нигде нашей речи нет и не будет!
Конечно, и это карканье, и его постыдные последствия могли бы быть легко устранены, если б мы решились сказать себе: а нуте, вспомните почтенную римскую пословицу, да и постараемся при ее пособии определить, отчего приплод Юханцевых с каждым годом усиливается, а приплод Аристидов * в такой же прогрессии уменьшается? Но, к сожалению, не от нас с вами зависит осуществление этого разумного проекта. Воспоминание о падении римской империи так огорошило воображение простодушных россиян, что, несмотря на то, что после того состоялось открытие Америки и изобретение пороха, они все-таки лучше решаются лгать, нежели заблуждаться.
А как бы хорошо-то было, голубушка! Блуждали бы мы да блуждали, а некоторые из нас, может быть, нашли бы и просветы. А основы тем временем стояли бы себе да стояли; архистратиги же, препоставленные для наблюдения за нами, записывали бы наши блуждания на бумажке и сносили бы эти бумажки в комиссию. В какую комиссию? – это безразлично. Зайдите в любой казенный дом – везде хоть какую-нибудь комиссию да найдете. Так вот туда. А в комиссии бумажки наши рассортировали бы, наклеили бы на картонные листы, предмет к предмету, и затем…
Дальнейший ход дела известен. Но какие бы решения комиссия ни приняла, во всяком случае, дело обошлось бы тихо, благородно. В самом крайнем случае, если б не последовало даже никаких решений, то ведь и это уж был бы результат громадный. Во-первых, удовлетворена была бы благородная (humanum est – что может быть этого выше!) потребность блуждания; во-вторых, краеугольные камни были бы основательно ощупаны, и оказалось бы, что они целехоньки…
И что ж! вместо всего этого мы предпочитаем городить какую-то фантастическую чепуху на том только основании, что заблуждения, дескать, могут что-то подорвать, а в лганье якобы заключается творческая сила!
Однако я замечаю, что на каждом шагу впадаю в противоречия. С одной стороны, я очень хорошо понимаю, что, ввиду общей пользы, необходимо отказаться от заблуждений; но, с другой стороны, как только начну приводить это намерение в исполнение, так, незаметно для самого себя, слагаю заблуждениям панегирик. Но, право, это зависит не от меня. Вся обстановка нашего существования такова, что никаким образом от двоегласия не убежишь. В молодости за нами * наблюдали, чтоб мы не предавались вредной праздности, но находились на государственной службе, так что все усилия наши были направлены к тому, чтоб в одном лице совместить и человека и чиновника. Это ли было не двоегласие? Теперь от нас требуют, чтоб мы исключительно об общей пользе радели, а между тем далеко ли время, когда в «бреднях» (упразднение крепостного права – разве это не величайшая из «бредней»?) не только ничего потрясательного не виделось, но и прямо таковые признавались благопотребными и споспешествующими? Как тут сообразить?
Знаю я, голубушка, что общая польза неизбежно восторжествует и что затем хочешь не хочешь, а все остальное придется «бросить». Но покуда как будто еще совестно. А ну как в этом «благоразумном» поступке увидят измену * и назовут за него ренегатом? * С какими глазами покажусь я тогда своим друзьям – хоть бы вам, милая тетенька? Неужто ж на старости лет придется новых друзей, новых тетенек искать? – тяжело ведь это, голубушка!
Некоторые полагают, что ренегатам живется хорошо и что они двойные оклады за свое ренегатство получают. Право, это не так. Конечно, по нужде и ренегата иногда чествуют, но внутренно его все-таки презирают. И те презирают, которых он предал, и те, в пользу которых совершил предательство. Последние, впрочем, не столько презирают, сколько спешат надругаться. Они не могут забыть, что ренегат когда-то был их противником, и потому, как только он сбежал из первоначального лагеря, так сейчас его забирают в лапы: попался! теперь только держись! Один подойдет – в лицо плюнет, другой подойдет – плюху даст. А ренегат притворяется, будто не понимает. Но чего ему это притворство сто̀ит… ах, тетенька! Итак, рассказы о двойных окладах и о том, будто бы ренегатов под образа сажают, положительно принадлежат к области баснословия. Общее правило таково: баловать ренегата лишь до тех пор, пока не успеют выкупать его в помоях; когда же убедятся, что он по̀ уши погрузился в золото и что возврат в первобытное состояние для него уж немыслим, то ограничиваются скудными подачками и изобильными пинками. Ренегат, прочно утвердившийся на высоте, – редкость; но и такому обыкновенно, по смерти, втыкают в могилу осиновый кол.








