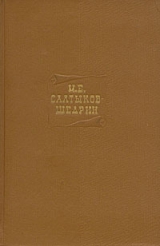
Текст книги "Том 14. За рубежом. Письма к тетеньке"
Автор книги: Михаил Салтыков-Щедрин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 54 страниц)
Письмо десятое *
А знаете ли что̀ – ведь и надворный советник Сенечка тоже без выводов живет. То есть он, разумеется, полагает, что всякий его жест есть глубокомысленнейший вывод, или, по малой мере, нечто вроде руководящей статьи, но, в сущности, ай-ай-ай как у него по этой части жидко! Право, такая же разнокалиберщина, как и у нас, грешных.
Сижу я намеднись утром у дяди, и вдруг совершенно неожиданно является Сенечка прямо из «своего места» * . И прежде он не раз меня у отца встречал, но обыкновенно пожимал мне на ходу руку и молча проходил в свою комнату. Но теперь пришел весь сияющий, светлый, в каком-то искристо-шутливом расположении духа. Остановился против меня и вдруг: а дай-ко, брат, табачку понюхать! Разумеется, он очень хорошо знает, что я табаку не нюхаю, но не правда ли, ка̀к это было с его стороны мило? Очевидно, ему удалось в это утро кого-нибудь ловко сцапать, так что он даже меня решился, на радостях, приласкать.
Кажется, что это же предположение мелькнуло и у дяди в голове, потому что он встретил сына вопросом:
– Что̀ нынче так рано? или все дела, с божьей помощью, прикончил?
– Да так, дельце одно… покончил, слава богу! – ответил Сенечка, – вот и разрешил себе отдохнуть.
– И Павел сегодня дело о похищении из запертого помещения старых портков округлил. Со всех сторон, брат, вора-то окружил – ни взад, ни вперед! А теперь сидит запершись у себя и обвинительную речь штудирует… ишь как гремит! Ну, а ты, должно быть, знатную рыбину в свои сети уловил?
– Да, есть-таки…
– То-то веселый пришел! Ну, отдохни, братец! Большое ты для себя изнурение видишь – не грех и об телесах подумать. Смотри, как похудел: кости да кожа… Яришься, любезный, чересчур!
– Нет, папаша, не такое нынче время., чтоб отдыхать. Сегодня, куда ни шло, отдохну, а завтра – опять в поход!
Последние слова Сенечка проговорил удивительно серьезно и даже напыжился. Но так как он заранее решил быть на этот раз шаловливым, то через минуту опять развеселился.
– Сегодня мне действительно удалось, – сказал он, потирая руки, – уж месяца с четыре, как я… и вдруг! Так нет табачку? – прибавил он, обращаясь ко мне. – Ну-ну, бог с тобой, и без табачку обойдемся!
Словом сказать, он был так очарователен, что я не выдержал и сказал:
– Ах, Сенечка, если б ты всегда был такой!
– Нельзя, мой ангел! (Он опять слегка напыжился.) И рад бы, да не такое нынче время!
И, как бы желая доказать, что он действительно мог бы быть «таким», если б не «такое время», он обнял меня одной рукой за талию и, склонив ко мне свою голову (он выше меня ростом), начал прогуливать меня взад и вперед по комнате. По временам он пожимал мои ребра, по временам произносил: «так та̀к-то» и вообще выказывал себя снисходительным, но, конечно, без слабости. Разумеется, я не преминул воспользоваться его благосклонным расположением.
– Сенечка! – начал я, – неужто ты до сих пор все ловишь?
– То есть как тебе сказать, мой друг, – ответил он, – персонально я тут не участвую, но…
– Ну да, понимается: не ты, но… И не известно тебе, когда конец?
– Не знаю. Но могу сказать одно: война так война!
Он помолчал с минуту и прибавил:
– И будет эта война продолжаться до тех пор, пока в обществе не перестанут находить себе место неблагонадежные элементы.
Сознаюсь откровенно: при этих словах меня точно искра электрическая пронизала. Помнится, когда-то один из стоящих на страже русских публицистов, выдергивая отдельные фразы из моих литературных писаний, открыл в них присутствие неблагонадежных элементов и откровенно о том заявил. * И вот с тех пор, как только я слышу выражение «неблагонадежный элемент», так вот и думается, что это про меня говорят. Говорят, да еще приговаривают: знает кошка, чье мясо съела! И я, действительно, начинаю сомневаться и экзаменовать себя, точно ли я не виноват. И только тогда успокоиваюсь, когда неопровержимыми фактами успеваю доказать себе, что ничьего мяса я не съел.
– Ты, однако ж, не тревожься, голубчик! – продолжал Сенечка, словно угадывая мои опасения, – говоря о неблагонадежных элементах, я вовсе не имею в виду тебя; но…
– Но?
– Но, конечно, ты мог бы… А впрочем, позволь! я сегодня так отлично настроен, что не желал бы омрачать… Папаша! не дадите ли вы нам позавтракать?
– С удовольствием, мой друг, только вот разговоры-то ваши… Ах, господа, господа! Не успеете вы двух слов сказать – смотришь, уж управа благочиния в ход пошла! Только и слышишь: благонадежность да неблагонадежность! *
– Нельзя, папаша! время нынче не такое, чтоб другие разговоры вести!
– То-то, что с этими разговорами как бы вам совсем не оглупеть. И в наше время не бог знает какие разговоры велись, а все-таки… Человеческое волновало. Искусство, Гамлет, Мочалов, «башмаков еще не износила»… * Выйдешь, бывало, из Британии, а в душе у тебя музыка…
– А помните, папенька, как вы рассказывали: «идешь, бывало, по улице, видишь: извозчик спит; сейчас это лошадь ему разнуздаешь, отойдешь шагов на двадцать да и крикнешь: извозчик! Ну, он, разумеется, как угорелый. Лошадь стегает, летит… тпру! тпру !..Что тут смеху-то было!
– Да, бывало и это, а все-таки… Нынче, разумеется, извозчичьих лошадей не разнуздывают, а вместо того ведут разговоры о том, как бы кого прищемить… Эй, господа! отупеете вы от этих разговоров! право, и не заметите, как отупеете! Ни поэзии, ни искусства, ни даже радости – ничего у вас нет! Встретишься с вами – именно точно в управу благочиния попадешь!
– Дядя! – вступился я, – надо же, однако, раз навсегда разъяснить…
– А коли надо, так и разбирайтесь между собой, а я – уйду. Надоело. Благонадежность да неблагонадежность… черт бы вас побрал!
Дядя не на шутку рассердился, хлопнул дверью и скрылся.
– Старичок! – произнес ему вслед Сенечка, но не только без гнева, а даже добродушно.
– А к старикам надо быть снисходительным, – прибавил я, – и ты, конечно, примешь во внимание, что твой отец… Ах, мой друг, не всё одни увеличивающие вину обстоятельства надлежит иметь в виду, но и…
– Еще бы!
За завтраком Сенечка продолжал быть благосклонным и, садясь за стол, ласково потрепал меня по плечу и молвил: – Так, та̀к, что ли? война?
И вновь повторил, что война ведется только против неблагонадежных элементов, а против благонадежных неведется. И притом ведется с прискорбием, потому что грустная необходимость заставляет. Когда же я попросил его пояснить, что̀ он разумеет под выражением «неблагонадежные элементы», то он и на эту просьбу снизошел и с большою готовностью начал пояснять и перечислять. Уж он пояснял-пояснял, перечислял-перечислял – чуть было всю Россию не завинил! * Так что я, наконец, испугался и заметил ему:
– Остановись, любезный друг! ведь этак ты всех русских подданных поголовно к сонму неблагонадежных причислишь!
На что̀ он уверенно и с каким-то неизреченным пренебрежением ответил:
– Э! еще довольно останется!
Вы понимаете, что на подобные ответы не может быть возражений; да они с тем, конечно, и даются, что предполагают за собой силу окончательного решения. «Довольно останется!» Что̀ ни делай, всегда «довольно останется!» – таков единственный штандпункт * , на котором стоит Сенечка, но, право, и одного такого штандпункта достаточно, чтобы сделать человека неуязвимым.
Взгляните на бесконечно расстилающееся людское море, на эти непрерывно сменяющиеся, набегающие друг на друга волны людского материала – и если у вас слабо по части совести, то вы легко можете убедить себя, что сколько тут ни черпай, всегда довольно останется. И не только довольно, но даже и убыли совсем нет. Так что, ежели не обращать внимания на относительное значение вычерпываемых элементов – а при отсутствии совести что̀ же может побудить задумываться над этим? – то почувствуется такая легкость на душе и такая развязность в руках, что, пожалуй, и впрямь скажешь себе: отчего же и не черпать, если на месте вычерпанной волны немедленно образуется другая?
Какая будет эта новая волна – это вопрос особый, и разрешит его, конечно, не Сенечка. У него взгляд на это дело количественный, а не качественный, и сверх того он находит отличное подкрепление этому взгляду в старинной пословице: было бы болото, а черти будут, которая тоже значительно облегчает его при отправлении обязанностей. Его даже не смущает мысль, что в том, чего, по его мнению, еще довольноостанется, могут, в свою очередь, образоваться элементы, которые тоже, пожалуй, черпать придется. Он не глядит так далеко, но ежели бы и пришлось опять черпать, черпать без конца, он и тут не затруднится, а скажет только: черпать так черпать! Цельного, органического, полезного он, разумеется, не создаст, а вот рассекать гордиевы узлы да щипать людскую корпию – это он может * .
Главный конек Сенечки и единственное вразумительное слово, которое не сходит у него с языка, – это «современность». Современность будто бы требует господства разнокалиберщины и делает ненужными идеалы. Загородившись современностью, Сенечка охотно готов заколоть в ее пользу будущее. Завтрашний день он еще понимает, потому что на завтра у него наклевывается новое дельце, по которому уже намечены и свидетели; но что̀ будет послезавтра – до этого ему дела нет. Ни до чего нет дела: ни до влияний на общее настроение в настоящем, ни до отражений в будущем.
Он принадлежит к той неумной, но жестокой породе людей, которая понимает только одну угрозу: смотри, Сенечка, как бы не пришли другие черпатели, да тебя самого не вычерпали! Но и тут его выручает туман, которым так всецело окутывается представление о «современности». Этот туман до того застилает перед его мысленным взором будущее, что ему просто-на̀просто кажется, что последнего совсем никогда не будет. А следовательно, не будет места и для осуществления угроз.
Одним словом, Сенечка – один из тех поденщиков современности, которые мотаются из угла в угол среди разнокалиберщины и не то чтобы отрицают, а просто не сознают ни малейшей необходимости в каких бы то ни было выводах и обобщениях. Сегодня дельце, завтра дельце – это составит два дельца… Чего больше нужно?
– Сенечка, – сказал я, – допустим, что это доказано: война необходима… Но ты говоришь, что она будет продолжаться до тех пор, пока существуют неблагонадежные элементы. Пусть будет и это доказанным; но, в таком случае, казалось бы не лишним хоть признаки-то неблагонадежности определить с большею точностью.
– Да ведь я чуть не целый час перечислял тебе эти признаки!
– Да, но в этом перечислении скорее выразились указания твоего личного темперамента, нежели действительно твердые основания. Многие из указанных тобою признаков и фактов в целом мире принимаются, как вполне благонадежные…
– В целом мире – да, а у нас – нет.
– Однако ведь это не резон, душа моя. Если в общечеловеческом сознании известное действие или мысль признаются благонадежными, то как же я могу угадать…
– Шалишь, брат! Не только можешь угадать, но и знаешь, положительно знаешь! Скажите, какая невинность – не может угадать!
– В том-то и дело, что ты в этом отношении безусловно ошибаешься. Не только положительно, но даже приблизительно я ничего не знаю. Когда человек составил себе более или менее цельное миросозерцание, то бывают вещи, об которых ему даже на мысль не приходит. И не потому не приходит, чтоб он их презирал, а просто не приходит, да и все тут.
– Так пускай приходит. Важная птица! ему какое-то миросозерцание в голову втемяшилось, так он и прав! Нет, любезный друг! ты эти миросозерцания-то оставь, а спустись-ка вниз, да пониже… пониже опустись! небось не убудет тебя!
– Да если бы, однако ж, и так? если бы человек и принудил себя согласовать свои внутренние убеждения с требованиями современности… с какими же требованиями-то – вот ты мне что скажи! Ведь требования-то эти, особенно в такое горячее, неясное время, до такой степени изменчивы, что даже требованиями, в точном смысле этого слова, названы быть не могут, а скорее напоминают о случайности. Тут ведь угадывать нужно.
– И угадывай!
– Согласись, однако ж, что в выборе между случайностями не трудно и ошибиться. Стало быть, по-твоему, и ошибка может подлежать действию войны?
– Да-с, может-с.
– Так что, собственно говоря, в основании твоей войны лежит слепая случайность?
– Да-с, случайность… ну, что̀ ж такое, что случайность! На то война-с!
Сенечка начал к каждому слову прибавлять слово-ерс, а это означало, что он уж закипает. Право вести войну казалось ему до такой степени неоспоримым, а определение неблагонадежности посредством неблагонадежности же до такой степени ясным, что в моих безобидных возражениях он уже усматривал чуть не намеренное противодействие. И может быть, и действительно рассердился бы на меня, если б не вспомнил, что сегодня утром ему «удалось». Воспоминание это явилось как раз кстати, чтоб выручить меня.
– Ну-ну! – воскликнул он благосклонно, – чуть было я не погорячился! А сегодня мне горячиться грех. Сегодня, душа моя, я должен быть добр. Впрочем, покуда это еще секрет, но со временем ты узнаешь и сам увидишь… Да, так о чем же мы говорили? Об том, кажется, что и случайность следует угадывать? – что ж, я думаю, что мой взгляд правильный! Мы в такое время живем, когда случайность непременно должна быть полагаема на весы. Конечно, тут могут произойти ошибки: степень виновности, содействие или только попустительство и так далее… но ведь в каком же человеческом деле не бывает ошибок? И притом никто не препятствует приносить оправдания… Напротив! раскаяние – ведь это, так сказать, цветок… Ах, голубчик! поверь, что я и сам всем сердцем болею… и всегда, при всяком удобном случае, сколько могу… И может быть, не один заблуждающийся пролил благодарную слезу… Но ты, кажется, не веришь?
– Помилуй! даже очень верю!
– Ты, пожалуйста, не смотри на меня, как на дикого зверя. Напротив того, я не только понимаю, но в известной мере даже сочувствую… Иногда, после бесконечных утомлений дня, возвращаюсь домой, – и хочешь верь, хочешь нет, но бывают минуты, когда я почти готов впасть в уныние… И только серьезное отношение к долгу освежает меня… А кроме того, не забудь, что я всего еще надворный советник, и остановиться на этом…
– Было бы безрассудно… о, как я это понимаю! Ты прав, мой друг! в чине тайного советника, так сказать, на закате дней, еще простительно впадать в меланхолию – разумеется, ежели впереди не предвидится производства в действительные тайные советники… Но надворный советник, как жених в полунощи, * непременно должен стоять на страже! Ибо ему предстоит многое соверишть: сперва получить коллежского советника, потом статского, а потом…
– Да, но иногда все-таки не сдержишь себя и задумаешься. Всё язвы да язвы кругом – тяжело, мой друг! Должно же когда-нибудь наступить время для уврачевания их!
– Стало быть и уврачевание входит в твою программу? – радостно изумился я.
– Еще бы! ведь я до сих пор только растравляю… на что̀ похоже! Правда, я растравляю, потому что этого требует необходимость, но все-таки, если б у меня не было в виду уврачевания – разве я мог бы так бодро смотреть в глаза будущему, как я смотрю теперь?
– Ах, голубчик! так что ж ты давно мне об этом не сказал?
И поверь мне, что рано или поздно, а дело уврачевания поступит на очередь. И даже скорее рано, чем поздно, потому что не далее как вчера я имел об этом разговор, и вот, в кратких словах, результат этого разговора: не нужно поспешности! но никогда не следует упускать из вида, что чем скорее мы вступим в период уврачевания, тем лучше и для нас, и для всех! Для всех! – повторил он, прикладывая к носу указательный палец.
– Браво! Сенечка! так давай же говорить об уврачевании!
– С удовольствием, мой друг, хотя, как я уже объяснил тебе, очередь…
– Да мы будем говорить без очереди… так! В чем же, по-твоему, должно заключаться уврачевание?
– Ну, это будет зависеть… Прежде всего, надо расчистить почву, а потом уж и средства уврачевания определятся сами собой.
– Так, значит, вперед и тут ни на что̀ верное рассчитывать нельзя?
– Вперед, душа моя, только утописты загадывают; действительная же мудрость в том состоит, чтобы пользоваться наличным материалом и с помощью его созидать будущее. Насущных вопросов, право, больше чем достаточно, и ежели хотя часть их подвергнуть рассмотрению – разумеется, в пределах благоразумия, – то и в таком случае дело уврачевания значительно подвинется вперед. А который из этих вопросов надлежит рассмотреть немедленно и который до времени положить под сукно – это уж покажут обстоятельства. Повторяю: прежде всего надо расчистить почву, а потом уже созидать!
– Эх, кабы ты поскорее ее расчистил! Взял бы да и… только уж, сделай милость, меня-то не прихвати!
– Что̀ ты! что̀ ты! успокойся, мой друг! Так вот к этой самой расчистке я и направляю все мои усилия. Надеюсь, что они увенчаются успехом, но когда именно наступит вожделенный день, – все-таки заранее определить не могу.
– Но надеюсь, что когда этот день наступит… чин коллежского советника… а?
– Ну, чин-то коллежского советника я и так, за выслугу лет, получу…
– Стало быть, Wladimir ?..браво, Сенечка! браво!
– Владимир не Владимир, а Анны вторыя… это, пожалуй, не невозможно.
Разумеется, я поспешил зараньше поздравить его, и, право, мне кажется, он был очень доволен, что перспектива уврачевания разрешалась так удачно при помощи Анны вторыя.
Итак, прежде всего: война так война! потом «уврачевание», но в чем оно будет состоять – бабушка еще сказала надвое. Таковы Сенечкины «принципии». И в заключение Анны вторыя – это, кажется, самое ясное.
Некоторое время Сенечка сидел в состоянии той приятной задумчивости, которую обыкновенно навевают на человека внезапно открывшиеся перспективы, полные обольстительнейших обещаний. Он слегка покачивал головой и чуть слышно мурлыкал; я, с своей стороны, сдерживал дыхание, чтоб не нарушить очарования. Как вдруг он вскочил с места, как ужаленный.
– А ведь я позабыл! – воскликнул он, бледнея. – Самое главное-то и забыл! Что, ежели… но нет, неужто судьба будет так несправедлива ?..А я-то сижу и «уврачеваниями» занимаюсь! Вот теперь ты видишь! – прибавил он, обращаясь ко мне, – видишь, какова моя жизнь! И после этого… Извини, что я тебя оставляю, но мне надо спешить!
Он бегом направился к двери, а через несколько секунд уже был на улице. Не успел я хорошенько прийти в себя от этой неожиданности, как в дверях столовой показалась голова дяди.
– Убежал? – спросил он меня.
– Да, что-то случилось…
– Это он опять на ловлю… вот жизнь-то анафемская! И каждый день так… Придет: ну, слава богу, изловил! посидит-посидит, и вдруг окажется, что изловил да не доловил – опять бежать надо! Ну, и пускай бегает! А мы с тобой давай, будем об чем-нибудь партикулярном разговаривать!
То же самое отсутствие жизненных выводов усматривает и Дыба, и чрезвычайно об этом скорбит. Представьте, какое с ним курьезное на днях происшествие случилось. Встал он утром с постели, как обыкновенно, правой ногой, умылся, справился, не приезжал ли за ним курьер с приглашением прибыть для окончательных переговоров по весьма нужному делу, спросил кофею, взял в руки газету, и вдруг… видит: « Увольняетсяот службы по прошению: * бесшабашный советник Дыба». Сначала, разумеется, не понял и даже с расстановкой произнес:
– Од-но-фа-ми-лец!
Но вслед за тем, как вскочит !..Караул!
Надо вам сказать, что еще накануне вечером он успел заручиться, что именно теперь-то и нужна его опытность. Заручившись, пошел в клуб; там ему тоже сказали: именно теперь ваша опытность особливую пользу оказать должна. Он, с своей стороны, скромно отвечал, что не прочь послужить, поужинал, веселый воротился домой и целый час посвятил на объяснение молодой кухарке, что в скором времени он, по обстоятельствам, наймет повара, а ей присвоит титул домоправительницы и, может быть, выдаст замуж за главноначальствующего над курьерскими лошадьми. Во сне видел мероприятия и, должно полагать, веселые, потому что громко смеялся. Еще когда мы вместе с ним Kraenchen в Эмсе глотали – уж и тогда он об этих мероприятиях речь заводил. Но никак, бывало, до конца довести рассказа не может: дойдет до середины – и вдруг со смеху прыснет! А я стою смотрю, как он заливается, и думаю: Господи! неужто?
Долго он не мог понять, как это так: прошения он не подавал, а уволен – по прошению!и в первые дни даже многим в этом смысле жаловался. Однако ж, наконец, понял. Но понял опять-таки чересчур абсолютно. Впал в уныние, сразу утратил веру в будущее и женился на молодой кухарке, пригласив в посаженые отцы Удава. И на другой день свадьбы к нему опять приехал курьер с приглашением пожаловать для «окончательных переговоров по известномуделу». Разумеется, поспешил явиться и на этот раз убедился, что действительно существует такая комбинация, для осуществления которой его опытность необходима. Но в ту самую минуту, как он уже откланивался, курьер подал только что полученный пакет, заключавший в себе краткий пасквиль (очевидно, направленный предательской рукой), в виде пригласительного билета следующего содержания: «Бесшабашный советник Дыба и вильманстрандская уроженка Густя Вильгельмовна покорнейше просят пожаловать такого-то числа на их бракосочетание (по языческому обряду) в Демидов сад, а оттуда на Пески в кухмистерскую Завитаева на бал и ужин». Тщетно доказывал Дыба, что это произошло с ним вследствие уныния, но что, во всяком случае, бракосочетание в Демидовом саду, и притом в зимнее время и по языческому обряду, не может иметь серьезного значения; тщетно уверял, что, по первому же требованию, он даст Густе расчет, а буде во власти будет, то и сошлет ее в места более или менее отдаленные, – будущее его было разбито навсегда! Помилуйте! какой же это деятель, который так быстро приходит в уныние! И затем столь же быстро сообщает этому унынию игривый и даже вызывающий характер, приглашая к участию в оном вильманстрандскую уроженку! ведь этак, пожалуй, и до потрясения основ недалеко!
Все это рассказал мне впоследствии Удав, который в этом случае поступил совершенно по-современному. Отказаться от приглашения Дыбы, вследствие существовавшей между ними старинной дружбы, ему, конечно, было неловко; поэтому он отправился в Демидов сад, обвел молодых вокруг ракитового куста (в это время – представьте! – пели вместо тропаря горловское посвящение Мусину-Пушкину!), осыпал их хмелем – и затем словно в воду канул. Даже к Завитаеву ужинать не поехал. Да и вообще никто из почетных гостей не прибыл в кухмистерскую (было приглашено: пятьдесят штук тайных советников, сто штук действительных статских советников, один бегемот, два крокодила и до двухсот коллежских асессоров, для танцев), а приехали какие-то «пойги» из Вильманстранда * , да штук двадцать подруг-кухарок, а в том числе и моя кухарка. Затем, на другой день (вслед за «окончательными переговорами»), Удав не сказался дома, на третий день – тоже, а сам уж, конечно, к бывшему другу – ни ногой. Так что Дыба, придя в третий раз, потоптался-потоптался перед запертой дверью коварного друга и вдруг решился… ехать ко мне!
В наше смутное и предательское время подобные пассажи со мной случаются нередко. По особенным, совершенно, впрочем, от меня не зависящим причинам, я считаюсь человеком неудобным. Поэтому многие из моих школьных товарищей и даже из друзей, как только начинают серьезно восходить по лестнице чинов и должностей, так тотчас же чувствуют потребность как можно реже встречаться со мной. Дальше – больше, и наконец, когда в черепе бывшего друга, вследствие накопления мероприятий, образуется трещина, то он уже просто-напросто, при упоминовении обо мне, выказывает изумление: «а? кто такой? это, кажется, тот, который…» Впрочем, встречаясь со мной за границей, эти же самые люди довольно охотно возобновляют старые дружеские отношения и даже по временам поверяют мне свои административные мечтания. Вместе со мной любуются окрестными видами, пьют дрянное местное винцо и приговаривают: а у нас и этого нет! Нередко речь между нами заходит и о любви к отечеству, и когда я начинаю утверждать, что любить отечество следует не «за лакомство» (вроде уфимских земель), а просто ради самого отечества, то крепко и сочувственно жмут мне руку. Но в особенности много обращается ко мне сердец, постигнутых катастрофой, в форме отставки, причисления или сдачи на хранение в совет или в старый сенат. Последние еще несколько остерегаются – ведь чем черт не шутит! вдруг занадобятся! – и заходят ко мне только в сумерки, но отставные – так и прут. Видя себя на самом дне реки забвения, они становятся бесстрашными и совершенно не дорожат своей репутацией. Придут, усядутся, бормочут и сами же, слушая свое бормотанье, заливаются смехом. Очевидно, надеются, что я что-то по этому поводу «опишу». Я и описываю, только не то, что̀ они рассказывают – по большей части, этих рассказов и понять нельзя, – а совсем другое. Впрочем, некоторые и из отставных впоследствии раскаиваются, перестают ходить и даже начинают на всех перекрестках ругательски меня ругать. Но успевают ли они этим путем восстановить свою утраченную репутацию – этого я не знаю, потому что не любопытен.
Нередко я спрашиваю себя: примет ли от меня руку помощи утопающий действительный тайный советник и кавалер? – и, право, затрудняюсь дать ясный ответ на этот вопрос. Думается, что примет, ежели он уверен, что никто этого не видит; но если знает, что кто-нибудь видит, то, кажется, предпочтет утонуть. И это нимало меня не огорчает, потому что я во всяком человеке прежде всего привык уважать инстинкт самосохранения.
Из этого вы видите, что мое положение в свете несколько сомнительное. Не удалось мне, милая тетенька, и невинность соблюсти, и капитал приобрести. А как бы это хорошо было! И вот, вместо того, я живу и хоронюсь. Только одна утеха у меня и осталась: письменный стол, перо, бумага и чернила. Покуда все это под рукой, я сижу и пою: жив, жив курилка, не умер! Но кто же поручится, что и эта утеха внезапно не улетучится?
Итак, Дыба направился ко мне. Пришел, пожал руку, уселся и… покраснел. Не привык еще, значит.
– А я… поздравьте… вольная птица! – начал он как-то сразу и, повергавшись в кресле, сделал рукой в воздухе какой-то удивительно легкомысленный жест, как будто и в самом деле у него гора с плеч свалилась.
– Ах, вашество! как же это так? стало быть, изволили соскучиться?
– Да, скучно… и притом вижу… не сто̀ит!
– А мы-то, вашество, надеялись! И я, и дети мои. Наконец-то, думаем, наступила минута, когда опытность вашества особливую пользу оказать должна!
– Думал и я… то есть, не я, а… но, впрочем, что ж об этом! Не сто̀ит! Подал прошение – и квит!
Он помолчал с секунду и потом прибавил:
– Теперь милости просим к нам! Свободные люди! И я и Густя Вильгельмовна – очень, очень будем рады! Чашку кофе откушать или так посидеть… очень приятно!
Но чем больше он говорил, тем больше краснел и как-то нервно подергивался в кресле. Разумеется, я ответил, что сочту за честь, но в то же время никак не мог прийти в себя от изумления. Вот, думалось мне, человек, который, несколько дней тому назад, вполне исправно выполнял все функции, какие бесшабашному советнику выполнять надлежит! Он и надеялся и роптал; и приходил в уныние при мысли, что Уфимская губерния роздана без остатка, и утешал себя надеждою, что Россия велика и обильна и стало быть… И вдруг теперь он сознаёт себя отрешенным от всех ропотов и упований, от всего, что̀ словно битым стеклом наполняло пустую дыру, которую он называл жизнью, что̀ заставляло его вздрагивать, трепетать, умиляться, строить планы, ждать, ждать, ждать… Как ему должно быть теперь нехорошо! С каким удивлением он должен был прислушиваться к собственному голосу, когда говорил извозчику: на Литейную – двугривенный! – к этому голосу, который привык возглашать: к генерал-аншефу такому-то – четвертак!
– Но что̀ же могло вашество побудить? в цвете лет и сил? в полном разгаре готовности усердия? – допытывался я.
– Надоело. Вижу: суета, а результатов нет. По целым месяцам сидишь, в окошко глядишь: какой результат? И что ж, даже не приглашают! Подал прошение – и квит!
– С точки зрения вашего личного чувства это, конечно, вполне понятно… – начал было я, но он, не слушая меня, продолжал:
– А то вдруг – потребуют… «Ваша опытность…» И только что начинаешь это вслушиваться, как вдруг курьер: такой-то явился! – «Ах, извините! пожалуйте в другой раз!» Воротишься домой, опять к окошку сядешь, смотришь, ждешь… не требуют! Подал прошение – и квит!
– Позвольте, вашество! с точки зрения вашего личного успокоения, это, может быть, и благоразумно; но вы упускаете из вида, что люди в вашем положении не имеют права руководиться одними личными предпочтениями… Ведь за вами стоит не что-нибудь, а, так сказать, обширнейшая в мире держава…
– Знаю, мой друг. Но и за всем тем ничего не могу. Результатов не вижу – это главное!
– А на вашем месте я сел бы опять к окошечку, да и ждал бы. Сегодня – нет результатов, завтра – нет результатов, а послезавтра – вдруг результат!
– Сомнительно. Ну, да теперь уж и ждать нечего. Подал прошение – и квит. Тем хорошо, что, по крайней мере, выяснилось раз навсегда!
– Ну, нет, вашество, не говорите этого! может и вновь такой случай выйти…
– Нет уж, мой друг, нечего по-пустому загадывать! Конец. И я очччень-очччень рад!
Он на минутку поник головой, задумался, вздохнул и опять повторил:
– Очччень-очччень рад! Подал прошение – и квит!
Отдавши дань грусти, Дыба, однако ж, вспомнил, что ему, как бесшабашному советнику, следует быть любезным. Поэтому, оглядев стены моего кабинета, он продолжал:
– А у вас хорошо… даже очень прилично… да! Обойцы на стенах, драпри… а внизу на лестнице швейцар! Хорошо. Много за квартиру платите?
– Столько-то.
– Тсс… скажите! И много комнат занимаете?
– Столько-то.
– Тсс… а я в Подьяческой на три комнаты меньше имею, а почти то же плачу!
Он еще раз подивился, покачал головой и, протягивая мне руку, сказал:
– Поздравляю!
Разумеется, я был очень польщен. Повел его по всем комнатам, и везде он меня похвалил, а в некоторых комнатах даже выразил приятное изумление. В коридоре повел носом, учуял, что пахнет жареной печенкой, умилился и воскликнул: – Тсс… печенка?! очень, очень приятное кушанье! Не дорогое, а превкусное.
Так что я сейчас же распорядился подать ему два куска, и, право, даже на мысль мне при этом не пришло: а ну, как он повадится ходить, да в лоск меня объест!
Поевши, он опять разговорился.
– Стало быть… живете? – спросил он, вновь оглядывая стены моего кабинета.








