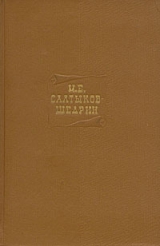
Текст книги "Том 14. За рубежом. Письма к тетеньке"
Автор книги: Михаил Салтыков-Щедрин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 39 (всего у книги 54 страниц)
Но теперь провозглашатели «средостений» вновь ставят этот вопрос на очередь, и перед глазами моими одна за другой встают картины моей молодости, картины, в которых действующими лицами являются облеченные доверием куроцапы. То было время крепостного права, когда мы с вами, молодые, довольные, беспечные, ходили рука в руку по аллеям парка и трепетно прислушивались к щелканью соловья…
Слышишь, в роще зазвучали
Песни соловья;
Звуки их, полны печали,
Молят за меня…
Так пели и вздыхали мы с вами, и никогда не приходило нам в голову, что окружающий нас мир есть мир куроцапов. Были тогда куроцапы оседлые, которые жили в своих гнездах и куроцапствовали в пределах, указанных планами генерального межевания, и были куроцапы кочующие, которые разъезжали по дорогам и наблюдали, чтобы благородное куроцапство не встречало помехи со стороны повинных работе. Ничего мы этого тогда не понимали, потому что соловей совсем не об том нам пел. И мы стояли, как очарованные, и слушали, слушали, покуда наконец вы, потерев ручкой то место, где у вас полагается желудочек или животик – кто же это определит, да и зачем было тогда определять? – не предлагали: не пойти ли нам на скотную к Анфисе сливочек поесть? И, не откладывая дела в долгий ящик, шли. Но помните ли вы, как хороша была старая Анфиса, когда, подавая чашку, наполненную палевой массой, прибавляла: кормильцы вы наши? А оттуда в оранжерею: персики, сливы, вишни – всего вдоволь! и опять старый садовник Архип: кормильцы вы наши! А вот наконец и обед. «Сонечка, не лучше ли супцу тебе покушать? у тебя, кажется, животик болит? – Ах, нет, maman, я – ботвиньи !..» Ну точно сейчас я это вижу!
И все это счастье, всю эту сытость обеспечивали нам разъезжавшие по дорогам и облеченные доверием куроцапы!
Вот к этому-то куроцапствующему средостению пытаются возвратить нас теперь. Не ошибайтесь: когда вам говорят о земстве, то это значит, что речь идет об Дракиных, а когда прибавляют, что земство лучше свои интересы может устроить, то это значит, что Дракины тверже против Сквозника-Дмухановского знают, где курам вод. Крепостное право вновь грозит осенить нас крылом своим, но какое это будет жалкое, обтрепанное крепостное право! Парки вырублены, соловьи улетели, старая Анфиса давно свезена на погост. Ни сливок, ни персиков, ни волнующихся нив, ни синеющих лесов – ничего! Одни оголтелые, бездомные Дракины, которые в удесятеренном виде, голодные, алчущие и озлобленные будут рыскать по обездоленным палестинам, будут хватать и ловить. А кругом – беспредельная нагота, над головою – немилостивое хмурое небо, по дороге – искалеченные и покосившиеся Дракинские логовища, и кабаки, кабаки, кабаки… Нет, лучше до греха оттуда уйти!
Скажите по совести, стоит ли ради таких результатов отказываться от услуг Сквозника-Дмухановского и обращаться к услугам Дракина? Я знаю, что Сквозник-Дмухановский не бог весть какая драгоценность (вспомните слесаршу Пошлепкину, как она об нем отзывалась!), но зачем же возводить его в квадрат в лице бесчисленных Дракиных, Хлобыстовских и Забиякиных, тогда как, по совести говоря, с нас по горло довольно было и его одного?
Но я иду дальше и прямо утверждаю, что если уже мы осуждены выбирать между Сквозником-Дмухановским и Дракиным, то имеются очень существенные доводы, которые заставляют меня предпочесть первого последнему. А именно:
Во-первых, Сквозник-Дмухановский – постылый, тогда как Дракин – излюбленный. Сквозник-Дмухановский пришел ко мне извне и висит надо мной, яко меч Дамоклов; о Дракине же предполагается, что я сам себе его вынянчил. Сквозника-Дмухановского я не люблю и не обязываюсь любить. Я иду к нему, потому что деваться мне некуда, и он знает это. Знает, что я не целоваться к нему пришел (ах, тетенька!), а потому, что он может разрешить мою нужду или не разрешить. Иной Сквозник-Дмухановский прямо предъявляет таксу, я уплачиваю по ней и ухожу утешенный; буде же не имею чем уплатить, то стараюсь выполнить свою нужду так, чтоб меня не увидели. Другой Сквозник-Дмухановский говорит; я взяток не беру, а действую на основании предписаний – тогда я ухожу, получив шиш. Во всяком случае отношения между нами вполне ясны: это отношения карниза, падающего на голову прохожего. И не я один, все это сознают. Все идут к Сквознику-Дмухановскому, внутренно произнося: ах, постылый! И это удивительно облегчает. Ибо когда человек находится в плену, то гораздо для его сердца легче, если его оставляют одного с самим собой, чем когда его заставляют распивать чаи с своими стражниками. Совсем другое дело – Дракин. Идя к нему, я постоянно должен думать: а черт его знает, сказывают, будто он у меня на лоне возлежал! И установив себя на этой точке, обязываюсь поступать по слову его не токмо за страх, но и за совесть. Он будет надоедать, преследовать меня по пятам, приставать с нелепыми требованиями, а я должен говорить ему слогом «Песни песней»: лоно твое, яко чаша благовонная, и нос твой – яко кедр ливанский! Что он ни скажет, я должен выполнить без разговоров, не потому, что нахожусь у него в плену, а потому, что у него пупок – как кубок, а груди – как два белых козленка. Вот он какой. И жаловаться я на него не смею, потому что прежде, нежели я рот разину, мне уж говорят: ну что, старичок! поди, теперь у вас не житье, а масленица! Смотришь, ан у меня при этом приветствии и язык пресекся. Никогда я его не излюблял, а мне все говорят: излюбил! Никогда я его никуда не выбирал, а все кричат: выбрал! С юных лет я не слыхал ни об любвях, ни об выборах; с юных лет скромно обнажал свою грудь и говорил: ешь! Ели ее и Сквозник-Дмухановский, и Держиморда, и Тяпкин-Ляпкин – недоставало Дракина, и вот он – он! Неужто же я его возлюбил для того, чтоб он меня ел ?..Неправда это. Не я, а Амалат-беки его возлюбили, и сулят его в перспективе, чтоб он меня ел, я же, разумеется, буду при этом подплясывать и приговаривать: нос твой – яко кедр ливанский! Согласитесь, что это в сто крат унизительнее, нежели иметь дело с человеком, насчет постылости которого даже споров нет.
Во-вторых, меня значительно подкупает и то, что Сквозников-Дмухановских сравнительно все-таки немного, тогда как Дракин на каждом шагу словно из-под земли вырос. Еще при крепостном праве мы жаловались, что станового никак улучить нельзя, а теперь, когда потребность приносить жалобы удесятерилась, беспомощность наша чувствуется еще сильнее. Зато Дракины придут в таком множестве, что недра земли содрогнутся. С упразднением крепостного права, у них только одно утешение и оставалось: плодиться и множиться. Вот они и размножились, как кролики, и в то же время оголтели, обносились, отощали. Чаю по месяцам не пивали! говяжьего запаху не нюхивали! И вы думали, что они не набросятся на окрестность со всеми чадами и домочадцами! Проходу никому не дадут – за это вам ручаюсь. Начнут рыскать взад и вперед, будут кур душить и кричать ого-го! и будут уверять, что спасают общество. И вот попомните мое слово: хоть вы и хвалите вашего соседа Пафнутьева за то, что он «вольную» записку о средостениях написал, но как только он получит в руки палку – конец вашим дружеским отношениям. Надоест он вам, и жена его надоест, и дети его надоедят. Всё будут о средостениях беседовать и палкой помахивать.
В-третьих, Сквозник-Дмухановский, как человек пришлый, не всю статистику вверенного ему края знает. Не только то, что скрывается в недрах земли, не всегда ему известно, но даже и то, что делается поблизости. Поэтому недра земли остаются непоруганными, а обыватели имеют возможность утаить в свою пользу – кто яйцо, кто поросенка. Напротив того, Дракин, как местный старожил, всю статистику изучил до тонкости. Он знает, сколько у кого в кошеле запуталось медяков, знает, у кого курица снесла яйцо, у кого опоросилась свинья. А, сверх того, знает, где именно нужно шарить, чтоб обрести. Так что ежели вам, с выступлением Дракина на арену, придется печь в доме пирог, то так и знайте, что середка принадлежит ему. Иначе он налетит на вас, яко тать в нощи, возьмет младенцев ваших и избиет их о камни…
Есть у меня и другие доводы, ратующие за Сквозника-Дмухановского против Дракина, но покуда об них умолчу. Полагаю, впрочем, что довольно и того, что сказалось.
<Продолжение письма третьего, запрещенного цензурой; вторая редакция, неоконченная> *
IV
Милая тетенька!
Вы говорите: затеи Амалат-беков до того нелепы, что, право, не стоит обращать на них внимание. Может ли внушать опасение, восклицаете вы, какой-то секретныйкружок корнетских детей, который во всеуслышание, предлагает по сту рублей за каждого превратного тоскователя? Да еще выдаст ли ?..право, ведь не выдаст, а с первого же абцуга попросит обождать? Кружок, члены которого и без того по горло задолжали лихачам извозчикам, фруктовщикам и портным? Кружок, члены которого и по слухам не знают о словосочиненье? Кружок, члены которого даже притвориться не умеют понимающими, когда в их присутствии произносят столь общеизвестные слова, как: отечество, убеждение, совесть, свобода, долг? Может ли быть опасною эта невежественная мразь, эта прожженная гольтепа, эта не по своей вине неосуществившаяся юханцевщина? Может ли даже какой-нибудь след оставить после себя это сонмище кавалеров безделицы, в важных случаях вверяющее свои интересы Ноздревым и Расплюевым? Успокоивая меня этими соображениями, вы, однако ж, присовокупляете: «И у нас в Соломенном Городище с неделю тому назад промелькнула какая-то загадочная барынька, которая поселилась в номерах и всех неопытных фендриков ловила за фалды, приглашая поступить в члены «Союза Проломленных. Голов». И что же потом оказалось? – собрала она семьдесят пять рублей денег на ремонт краеугольных камней, да задолжала извозчику Конону десять рублей и, не заплатив ни копейки содержательнице номеров, в одно прекрасное утро исчезла. А теперь ее в Навозном поймали и не знают, как быть».
То-то и есть, что «не знают, как быть»! А вот кабы мы с вами verein хоть для ограждения прав буквы ѣ затеяли – с нами знали бы, как поступить… И поступили бы.
Что затеи «Проломленных Голов» не заключают в себе существенной опасности – в этом и я никогда никакого сомнения не имел. Шутка сказать! Не помнящие родства лоботрясы задумали благонамеренное междоусобие… какой бессмысленный вздор! Но ведь дело не в том, вздорны или не вздорны, опасны или не опасны известные затеи, а в том, когда же мы, наконец, получим возможность не думать об них? когда мы перестанем отравлять свое существование рассмотрением вопроса об их опасности или неопасности? когда мы убедимся, что общество живет и развивается путем действительного делания, а не воссыланием благодарных молитв за то, что висящие над нами затеи оказываются не очень опасными, а иногда и совсем не опасными?
Горько подумать, что вся современная действительность сплошь соткана из таких фактов, по поводу которых даже вопроса о полезности поставить нельзя, а все только об опасности или неопасности. Ведь это покаместь единственный крнтериум, который прочно утвердился в нашем обществе. С ним мы живем день за день, или, лучше сказать, выпучив глаза, смотрим и пустое пространство. Но до которых же пор мы будем испытывать взорами эту пустоту? До которых пор будет тяготеть над нами бессмысленный кошмар?
Как бы то ни было, но когда, в моем присутствии, говорят но поводу того или другого нарождающегося явления (а говорят нынче таким образом даже совсем солидные люди): увидите, что из «этого» выйдет одна потеха – то мне просто жутко делается. Потеха-то потеха, но сколько эта потеха сил унесет! И главное, сколько сил она осудит на фаталистическое бездействие! Потому что, разве это не самое горькое из бездействий – быть зрителем сменяющихся явлений и только одну думу думать: опасны они или не опасны? И в первом случае чувствовать позорное душевное угнетение, а во втором – еще более позорное облегчение?
Ведь и мрачное хрюканье торжествующей свиньи не существенно опасно, и трубное велегласие ошалевшего от праздности пустоу̀ста – тоже не заключает в себе коренной опасности. Все это явления случайные, преходящие, которые много-много захватят десятки людей, но ни в истории, ни в жизни народа не оставят ни малейшего следа. Однако ж в данную минуту они угнетают человеческую мысль, оскверняют человеческий слух и производят повсеместный переполох. И вследствие этого, центр деятельности целой массы современников перемещается из сферы посильного, но положительного труда в сферу бесплодной борьбы, бесчестных обвинений и лицемерных самозащит.
«Ну, слава богу! теперь, кажется, будет потише!» – вот возглас, который от времени до времени (впрочем, с довольно большими промежутками) приходится слышать в течение последних десяти – пятнадцати лет. И это единственный возглас, с которым измученные люди соединяют смутную надежду на перспективу успокоения. Прекрасно. Допустим, что для нас и подобная перспектива достаточна; допустим, что уж и тогда мы должны почитать себя счастливыми, когда перед нами мелькает нечто вроде передышки… Но ведь речь идет не столько об нас, сколько о самой жизни. Передышка передышкой, но где же самая жизнь? Согласитесь, что это такой естественный вопрос, который даже измученный человек вправе предложить себе без большой натяжки. Не говорите же: вот будет потеха! и не утешайтесь тем, что бессмыслица не может представлять для жизни серьезной опасности. Бессмыслица уже тем опасна, что заслоняет собой реальную жизнь, и ежели не изменяет непосредственно ее сущности, то загоняет ее в глубины и окружает такими путями, от которых нелегко освободиться даже в день просияния.
Сколько лет мы сознаем себя недомогающими – и все-таки, вместо уврачевания, вращаемся в пустоте. Сколько лет мы собираемся что-то сделать – и ничем, кроме полнейшего бессилия, не ознаменовываем своих намерений. Даже в самых дерюжных и доступных нашему пониманию вещах – в сфере благочиния – и тут мы ничего не достигли, кроме сознания крайней беспомощности. А ведь у нас только и слов на языке: дайте сначала вот тут управиться, и тогда… Вы, может быть, думаете, что тогда потекут наши реки млеком и медом? То-то, что не потекут.
В самом деле, представьте себе, что мы, наконец, управились, что источник опасений иссяк, что руки у нас развязаны – какое органическое, восстановляющее дело можем мы предпринять? Знаем ли мы, в чем это дело состоит? Имеем ли для него достаточную подготовку? Наконец, существует ли такой стимул, который заставлял бы нас желать, чтоб восстановляющее дело осуществилось?
Ах, тетенька! если б торжество восстановляющего дела и было решено – ведь и его сумеют эскамотировать в свою пользу Амалат-беки, а настоящие обыватели, как и всегда, останутся ни при чем. По поводу этого торжества Амалат-беки будут лакать шампанское, испускать победные звуки, потрясать знаменами, грозить очами, но никогда не поймут и не скажут себе, что торжество обязывает.
Обязывает – к чему? – вы только подумайте об этом, голубушка! Обязывает к восстановлению поруганной человеческой совести; обязывает к сообщению человеческой деятельности благородного и сознательного характера; обязывает к признанию за человеком права на уверенность в завтрашнем дне… И вы хотите, чтоб Амалат-беки когда-нибудь признали эту программу! Совесть! сознательность! обеспеченность! – да ведь это-то именно и есть потрясение основ! А вы думали что? Еще не все шампанское выпито по случаю прекращения опасностей, как это же самое прекращение вызывает целый ряд новых, самостоятельных опасностей. Допустим, что опасности это фантастические, но в мире случая только фантастическое реально. Да и не в опасностях дело, а в потребности боя. Бой кончился, но не успели простыть бойцы, как уж зачинается новый бой, и будет расти и шириться, пока не исчерпает всех причин, его породивших. А где же предел этим причинам?
Нет, это не потеха!
Сами по себе взятые, Амалат-беки, конечно, бессильны, но они наполняют атмосферу бессмыслицею, они срывают жизнь с колеи развития, они прививают обществу проказу мятежа. Никогда мятеж не распространялся с такою ужасающей легкостью, как в наши злосчастные дни. Мятеж беспредметный, привередливый, довлеющий сам себе. Не успел я сообщить вам о мятежных симбирских корнетских детях, как вы в свою очередь уведомляете меня о существовании какого-то диковинного «Союза Проломленных Голов». Погодите немного, и мы увидим целую толпу разного наименования добровольцев, которые на свой риск будут устраивать «союзы» с шиворотами, загривками и облавами. Тут явятся и «Чистопсовые охранители», и «Усердные гужееды», и «Веселые лоботрясы», и «Кособрюхие восстановители основ». * И все они будут возвещать о новых и новых опасностях, и все будут вызывать на бой. Ибо идеал Амалат-беков в сфере внутренней политики прост, но неосуществим. Этот идеал формулируется так: ничего чтобы не было. Но как ни дисциплинирована наша действительность – даже и она не может вместить такой безграничной программы. Нельзя, чтобы ничего не было. До такой степени нельзя, что я считаю даже банальным доказывать это. А так как Амалат-бек никогда не отступит от этой программы, то и междоусобиям не предвидится конца. В этом-то именно и заключается горечь той глухой загадки, которую мы переживаем. Истинно говорю вам: нет, это совсем не потеха!
. . . . .
В молодости вы довольно-таки знавали Амалат-беков, милая тетенька, не один из них засматривался на ваши прошивочки, и, помнится, вы не роптали на это. Вам нравилось, что эти люди умеют говорить des jolis riens, a в случае надобности могут и ложу в театр достать. Увы! все это было тогда, как Амалат-беки еще не занимались внутренней политикой. Но с тех пор они радикально изменились: брызжут пеной, цыркают, как извозчики, и обещают сто целковых (да еще в кредит!) тому, кто приведет прохожего с завернутыми к лопаткам руками. И что всего непростительнее: того же самого цырканья, той же жажды вывернутых лопаток требуют и от своих дамочек…
Венчать ли их за это розами или гнать вон из гостиной – вот в чем вопрос. Мое личное мнение таково: гнать вон. Но вряд ли кто меня послушается. Нынче и дамочки какие-то кровопийственные сделались, все походами да междоусобиями бредят. Это прежние дамочки любили, чтобы краснощекий Амалат-бек сначала наговорил с три короба des jolis riens, и потом вдруг… Нынешние же прямо настаивают: проливай кровь!
Кстати о дамочках – позвольте небольшое отступление.
Дамочка (разумеется, культурная) всегда представляла лишь женскую разновидность породы Амалат-беков. В период докровопийственный, когда Амалат-беки были смирны, дамочка была куколкой и закрывала глазки навстречу jolis-riens; с наступлением периода кровопнйственности она нагуливает груди, берет в руки бубен и, потрясая бедрами, призывает к междоусобию. Как прежде она не сознавала, что заставляет ее закрывать глазки (ah, ma chère, est-ce que je sais), так и нынче не сознает, что заставляет ее потрясать бедрами. Что такое междоусобие – она не знает, что такое основы – никогда не слыхала, что такое авторитет – ah, vous m’en demandez trop! И Амалат-беки не знают и растолковать не могут. Никто ничего не знает, а между тем бунтуют. Стоит только дамочку поощрить – и из нее выйдет самая отпетая петроленщица. Тетенька! Не увлекайтесь этими примерами! И ежели ваш урядник будет убеждать вас поступить в «Союз Проломленных Голов», то гоните его в шею. Ручаюсь, что никто вас за это не забранит.
К счастию, голова у Амалат-бековой подруги осталась, по-прежнему, куклина. Груди она нагуляла, бубен купила, но головы ни нагулять, ни купить не могла. По-прежнему, эта голова называется tête de linotte u tête remplie de foin, по-прежнему, как решето, не может удержать ничего, что случайно в нее попадает. Ежели прежняя дамочка не могла утаить ни одного из jolis-riens, которые запутывались в складках ее платья, то нынешняя ревнительница междоусобий тогда только чувствует себя облеченною, когда успеет выбросить на распутии весь запас внутренней политики, которым, вместе с брызгами слюны, облил ее Амалат-бек.
Судите, как хотите, а, по-моему, это черта очень полезная. Амалат-беки по всем трактирам поют: Мальбрук в поход пошел; Амалат-бекши ту же песню напевают во всех столицах и курортах Европы. Это только одно и спасает нас; иначе они все дотла разорили бы, не понимая, что разоряют: отхожее место или храм славы. Даже гарсоны в парижских ресторанах – и те Амалат-бекову шайку знают. «Амалат-беки ваши свирепы, говорят они, но еще более легкомысленны – пользуйтесь этим!»
Уже всех Амалат-беков называют по именам, а Амалат-бекши так-таки прямо со всеми прохожими заигрывают. Амалат-бекша видит вас в первый раз от роду и сейчас же начинает вербовать. «Рекомендуюсь, говорит, я – Федотова». Но так как она совсем не Федотова, и ей было бы крайне обидно, если бы ее взаправду приняли за Федотову, то она тут же, сряду, прибавляет: «впрочем, Федотова – это моя нелегальнаяфамилия, а настоящая – графиня Сапристѝ» – это она, изволите видеть, в конспирации играет. И затем начинает выкладывать, какими людьми «они» уже успели заручиться и каких предполагают привлечь; сколько у «них» уже собрано денег и сколько предполагается собрать. Хвастает-хвастает и вдруг проврется. Сначала, кажется, много денег, а потом, смотришь, ан y ней трижды три – сорок пять, да и те только в ожидании. Дело-то, пожалуй, придется в кредит вести.
Как хотите, а, по-моему, это хорошо.
Но вспомните, голубушка, ту сферу иллюзий и бредней, среди которой мы провели нашу молодость, и сопоставьте эти воспоминания с современною действительностью. Как тогда лучше было! и какие были стыдливые дамочки! Сидят, бывало, друг против друга два существа: одно мужеского, другое женского пола, сидят и бредят. Бредят да бредят, – и вдруг уста их сольются! Мило, благородно. И луна смотрит на них, и не стыдится. А нынче? «Уста»! qu’est ce que c’est que ça? «Уста»? a-t-on jamais entendue pareille chose! Какие, черт побери, «уста»! Да выложите перед женского пола Проломленной Головой всю Барковскую преисподнюю – она и тут ни одним мускулом не шевельнет!
Ах, тетенька!
Но что всего замечательнее в современных Амалат-беках – это их тяготение к земству. Потомки бюрократической кормежки, верстанные и жалованные, вскормленные хлебом бюрократии и млеком ее вспоенные (а главное, и доднесь этим млеком питающиеся), они легкомысленно отвертываются от своих «начал» и проявляют желание обновиться в новоявленной силоамской купели, которую, с чужого голоса, они называют «земством». В последнее время это вожделение сделалось до такой степени общим, что нет того опытного лоботряса, который с первого же слова не огорошил вас «земством». Спросите его: что такое земство? – он пробормочет в ответ что-то невнятное: проклянет чиновничество, похвалит мужичка и, во всяком случае, не определит и не объяснит. Однако ж не потому не объяснит, чтобы не понимал предмета своих вожделений, а потому, что покуда у него еще достаточно храбрости нет. Но загляните к нему в душу (это не очень трудно), и вы наверное прочтете на дне ее: Крепостное право.
Не забывайте, тетенька, что у каждого из столичных Амалат-беков спрятан где-нибудь в Чухломе или Щиграх пьяненький братец, или дяденька, или кузен, которые изнывают в покосившихся набок усадьбах и забирают в долг водку и студень у Разуваева. Надо как-нибудь их пристроить и дать им вздохнуть. Уж и теперь они, при всяком общественном бедствии, кричат: страх врагам! в чаянье что-нибудь заработать ребятишкам на молочишко – какой же гвалт они поднимут, ежели обстоятельства припустят их к восстановлению краеугольных камней?
До последнего времени наше земство, в том виде, как оно конституировалось, представлялось для меня загадкою. До такой степени загадкою, что самый вопрос о том, следует ли касаться этого «молодого еще не успевшего окрепнуть учреждения» или не следует, – очень серьезно меня смущал. С одной стороны, казалось: вот люди, которые, получив от начальства разрешение вылудить все больничные рукомойники, готовы головы свои положить, чтобы выполнить это поручение. Отчего же бы, стало быть, не поговорить об них? Но, с другой стороны, думалось и так: почему же, однако, эти ревностные лудильщики признаются опасными? отчего нет губернии, которая бы не оглашалась воплями пререканий между «неокрепшими» людьми и чересчур «окрепшими» администраторами? с какого повода последние, однажды разрешив свободу лужения, не только не дают предаваться этому занятию беспрепятственно, но даже внушают, что оно посевает в обществе недовольство существующими порядками и подрывает авторитеты? Стало быть, лучше до времени об этих «опасных» малых помолчать.
Ах, это вопросы ужасно сложные, милая тетенька! и ежели приняться вплотную разводить их на бобах, то как раз впросак попадешь. Станешь «неокрепшему» человеку говорить: ты что же это, братец, авторитеты вздумал потрясать? – смотришь, а он таким простодушным лудильщиком выглядит, что даже вчуже совестно станет. Или начнешь «окрепшего» человека убеждать: ваше превосходительство! будьте милосерды! ведь ежели эти люди кой-где недолудят или перелудят – человек ведь он! – смотришь, ан его превосходительство в ответ: а вы, государь мой, что за заступник такой? да вы, стало быть, позабыли притчу про места, где Макар телят не гонял!
Так я и не касался этого «неокрепшего» учреждения. Христос с ним! пусть без меня крепнет!
Но нынче слух идет, что земцы уж совсем окрепли, а потому и надобности нет таить, в чем тут штука была. Оказывается, что лудить можно двояко: с предвзятым намерением или просто без всякого намерения. Все равно, как лапти плесть: можно с подковыркою, а можно и без подковырки! С подковыркой щеголеватее и прочнее, но зато крамолой припахивает; без подковырки – никуда не годится, но зато крамолы нет: ходи Корела без подковырки! Так-то и с нашими земцами случилось. С первых же шагов они точно сорвались: будем лудить с предвзятым намерением. Возмечтали; вздумали лудить самостоятельно, из разрешения вывели какое-то право, и – что всего хуже – начали иронически посматривать на администраторов. В губернии ни одного бала не обходилось без скандала, ни одного пирога – без ехидной полемики. Натурально, администраторы сбесились. Не «право» дано вам, возопили они, а разрешение, разрешение и только разрешение! Право – это потом, когда бабушка будет произведена в дедушки, а покуда: луди, но оглядывайся! Коротко и ясно: хоть ты и получил разрешение, но с тем, чтобы вновь на всяком месте и на всяк час оное испрашивать. Живи и ходатайствуй!
Отсюда – распря, ненависть, бесконечное галдение. Едва успели обе силы встретиться, как тотчас же встали на дыбы. Стоят друг против друга на дыбах, лудить не лудят и от луженья не бегают – и шабаш. Да и нельзя не стоять. Потому что ежели земство уступит – конец луженью придет, а это цель заря наших будущих гражданских свобод! Ежели Сквозник-Дмухановский уступит – начнется колебание основ и потрясение авторитетов. Того гляди, общество погибнет. Вопрос-то ведь выходит… принципиальный!!
И шла эта распря до наших дней, и, надо сказать правду, последствия ее, в большей части случаев, земцы выносили на собственных боках.
Заручившись содействием Дракиных, Амалат-беки начинают чувствовать, что у них все-таки нет центрального пункта, нет общего лозунга, который для всей этой рассеянной братии служил бы вместо маяка. Поэтому они заводят свою литературу. В первый раз, как вы будете проезжать через Берлин, пройдитесь по Unter den Linden и остановитесь перед витриной книгопродавца Бока. Вы встретите тут целую массу русских брошюр с самыми заманчивыми названиями, начиная с вопроса: «Что нам всего нужнее» и кончая восклицанием: «Европа! руки по швам!» *
Купите одну из этих брошюр (первую, какая под руку попадется), ибо это – литература наших любезно-верных Амалат-беков. Из них вы познакомитесь с степенью их развития, с их миросозерцанием, с их видами на будущее. Конечно, не сами Амалат-беки тут авторствуют, а их доверенные грамотеи, но для меня уже тот факт знаменателен, что даже в этих жестоковыйных людях шевельнулась мысль, что если у них не будет хоть гаденькой литературы к услугам – они погибла. И вот вслед за этой мыслью является потребность в наемных грамотеях, которые должны привести в порядок смуту чувств и вожделений и в возможно непостыдном изложении сообщить их в поучение шлющемуся русскому люду.
В настоящее время грамотей выступил на первый план. Амалат-беки косноязычны и скудны разумом и грамотою. Они мыслят обрывками и чувствуют только одно: что надобно нечто прекратить и искоренить. Но что именно искоренить и как это сделать – этого они не знают. Вот тут и приходит к ним на выручку грамотей. Он тоже не знает, что нужно искоренить, но он умеет выводить буквы, он кой-что еще помнит из истории Кайданова и в довершение всего не боится типографских чернил. Этого совершенно достаточно, чтоб закрепить за ним роль руководителя и мудреца. В большей части случаев таким грамотеем является какой-нибудь честолюбивый земский лудильщик * , но встречаются между ними и выброшенные за борт сановники.
Повторяю: прочтите хотя одно из этих отреченных произведений замутившейся человеческой мысли – и вы будете сразу поражены малограмотностью, умственной загнанностью и какою-то необычайною неуклюжестью, младенчеством мыслей и образов. Периоды дерутся между собою, предыдущая фраза побивает последующую, союзы употреблены не в собственном значении: «но» поставлено вместо «и»; условные «так как», «если» не имеют соответствующих выводов; неологизмы на каждом шагу, но неологизмы бессмысленные, не к месту употребленные. При первом же взгляде на страницу делается очевидным, что ее написал человек, который взялся за перо, совершенно не сознавая, какие он будет выводить буквы и какие из этих букв составятся слова. В одной брошюре я встретил красную строку: «Смею ли присовокупить!» * – и только. Затем идет другая красная строка, и там уже оказывается, что грамотей нечто присовокупить имеет, и действительно присовокупляет, что ни Петр Великий, ни Александр II ничего путного не сделали, а вот он, выводящий каракули пастух, может указать, что следует сделать, чтоб было и мило, и путно, и на пользу Дракиным послужило.
Бог справедлив, тетенька. Он одинаково не терпит мятежей, как неблагонамеренных, так и благонамеренных, а для того, чтоб лишить мятежников всяких надежд на успех, прежде всего отнимает у них разум. А вместе с разумом понемногу исчезает и представление о правилах словосочинения. Без разума, без знаков препинания, без тысячи понятий о подлежащем, сказуемом и связке – что может предпринять даже самый беззастенчивый земский лудильщик? Он может выводить букву за буквой и гордиться тем, что из букв составляются слова. Это он и делает.








