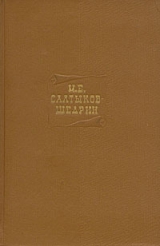
Текст книги "Том 14. За рубежом. Письма к тетеньке"
Автор книги: Михаил Салтыков-Щедрин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 54 страниц)
Письмо двенадцатое *
Милая тетенька.
Не дальше как вчера я был на рауте у тайного советника Грызунова * (кроме медалей, имеет знак отличия мужского ордена для ношения по установлению).
Грызунов – мой школьный товарищ и, по призванию, экономист. Еще на школьной скамье он постиг некоторые экономические истины и с помощью их объяснял смущавшие нас явления.
– Грызунов! – спросишь его, бывало, – отчего Куропатка (прозвище одного из воспитанников) продал вчера Карасю (прозвище другого товарища) свою булку за два листа бумаги, а сегодня Карась за такую же булку должен был заплатить Куропатке четыре листа?
– Оттого, – разрешал Грызунов без труда, – что вчера, кроме Куропатки, предлагал Карасю свою булку еще Котенок (третий товарищ); стало быть, предложение было большое, а спрос – малый. Нынче Котенок съел свою булку сам; вследствие этого предложение уменьшилось вдвое, и сообразно с этим вдвое же увеличилась и цена булки.
Или:
– Отчего, Грызунов, монета всегда чеканится круглая, между тем как пироги с черникой безразлично пекутся и круглые, и овальные, и четырехугольные?
– Оттого, – объяснял он, – что обыкновенно монету носят в кармане; стало быть, если б ее чеканили, например, четырехугольною, то, беспрерывно цепляясь углами за подкладку кармана, она продырила бы ее быстрее, нежели желательно. Пироги же кладутся не в карман, а в рот и, будучи мягки, доходят по назначению, ничего не продырив.
За быстроту, с которою давались эти ответы, Грызунову было дано прозвище восьмого мудреца * , а так как мы были тогда того мнения, что плохой тот школяр, который не надеется быть министром, то на долю Грызунова самым естественным образом выпадал портфель министра финансов. С тем мы и вышли из школы.
С тех пор прошли годы. Грызунов немедленно принялся оправдывать возлагаемые на него надежды. Сначала он сделался «нашим молодым и блестящим экономистом», потом «нашим известным экономистом» и, наконец, – «нашим маститым экономистом». Писал он изобильно и легко, писал обо всем, об чем взгрустнется. И об том, отчего мы бедны, и об том, отчего у нас во всем изобилие; и о том, что изобилие уменьшает цену на предметы, и о том, что хотя, вообще говоря, изобилие и уменьшает цену на предметы, но «в то же время, до известной степени, и увеличивает ее». Словом сказать, возьмет из кучи любой вопрос и без труда на него ответит. Природа даровала ему железную поясницу и чугунное при ней днище, и он с признательностью пользовался этим даром. Сядет, посидит, и сколько посидит, столько и напишет. Урвет что-нибудь у Бастиа, или у Рикардо, или даже у Кокорева * («нечто о глазомере в связи с смекалкою»), а скажет, что сам выдумал. И, написавши, сидит некоторое время дома и ждет, что его позовут: пожалуйте, Иван Александрыч, министерством управлять! * Ждал он таким образом целых двадцать пять лет, его не раз звали, но всегда дело оканчивалось тем, что его же спрашивали: ах, об чем бишь нужно было с вами поговорить? Значит, звать звали, а призвать не призвали. Ка̀к это случилось, он не понимает, да и я, признаться, не понимаю. Человек знает, отчего монета кругла (а может быть, и отчего кругла земля?), а никому до этого как будто дела нет. Не повезло ему – вот и все. Иногда он впадал в уныние от этой несправедливости, но вера, что никому в целой России не известны так близко тайны спроса и предложения (а это, тетенька, позамысловатее «Тайн мадридского двора») – спасала его. Несмотря на длинный ряд неудач и разочарований, всякий раз (и это в течение всего двадцатипятилетнего периода!), как в известных сферах возникало движение, он вновь начинал волноваться, надеяться и ждать. Несомненно, ждет и поднесь.
Это постоянное, странно-выжидательное состояние оказывает известное влияние и на его отношения к людям. Когда в воздухе носятся либеральные веяния, он льнет к либералам, а консерваторов называет изменниками. Когда на рынке в цене консерватизм, он прилепляется к консерваторам и называет изменниками либералов. Но это в нем не предательство, а только следствие слишком живучего желания пристроиться.
Я думаю, что Грызунов не жаден и охотно удовольствовался бы половинным содержанием, если б его призвали. Я даже думаю, что, в сущности, он и не честолюбив. Он просто знает свои достоинства и ценит – вот и все. Но так как и другие знают свои достоинства и ценят их, то он и затерялся в общей свалке.
В последнее время он как-то особенно всполошился. Видит, что пустого места много, а людей, знающих достоверно, отчего монета кругла, – нет. Притом же fugaces labuntur anni * [240]240
мчатся быстрые годы.
[Закрыть], ему уж шестой десяток в исходе, а он все еще ни при чем. Надо ловить. Поэтому он с утра до вечера мелькает, с утра до вечера всем и каждому предлагает вопросы по всем отраслям человеческого ведения и сам же на них отвечает. И всё вопросы труднейшие, так что только в «Задачнике» Малинина и Буренина и можно такие встретить. У разносчика был лоток с апельсинами, сто из них он продал, два сам съел, три (с пятнышками) бедным мальчикам роздал, а пять подарил околоточному – сколько всех апельсинов было? Другой такой же претендент на пост или задумается, прежде нежели ответит, или ответит уклончиво, что бабушка надвое сказала, а Грызунов – быстро, отчетливо, звонко: сто десять! Сверх того, чтобы удовлетворить сжигающей его жажде деятельности, он устроил у себя по субботам рауты и, кого ни встретит, всех приглашает: «Субботы не забудьте… это страм!!»
То есть не субботы «страм», а то, что требуются почти нечеловеческие усилия, чтобы устроить по субботам обмен мыслей. Но в хлопотах он не договаривает фразы и спешит хлопотать дальше. И всякому что-нибудь на ходу скажет. Одному – что ввиду общего врага все партии, и либералы и консерваторы, должны в субботу подать друг другу руки; другому – что теперь-то именно, то есть опять-таки в будущую субботу, и наступила пора сосчитаться и покончить с либералами, признав их сообщниками, попустителями и укрывателями превратных толкований; третьему: «слышали, батюшка, что консерваторы-то наши затеяли – ужас! а впрочем, в субботу поговорим!»
Каким образом весь этот разнокалиберный материал одновременно в нем умещается – этого я объяснить не могу. Но знаю, что, в сущности, он замечательно добр, так что сто̀ит только пять минут поговорить с ним, как он уже восклицает: вот мы и объяснились! Даже в том его убедить можно, что ничего нет удивительного, что его не призывают. Он выслушает, скажет: тем хуже для России! – и успокоится.
Таких Лжедимитриев нынче, милая тетенька, очень много. Слоняются, постылые тушинцы * , вторгаются в чужие квартиры, останавливают прохожих на улицах и хвастают, хвастают без конца. Один – табличку умножения знает; другой – утверждает, что Россия – шестая часть света, а третий без запинки разрешает задачу «летело стадо гусей». Все это – права̀ на признательность отечества; но когда наступит время для признания этих прав удовлетворительными, чтобы стоять у кормила – этого я сказать не могу. Может быть, и скоро.
Меня Грызунов долгое время любил; потом стал не любить и называть «красным»; потом опять полюбил. В каком положении находятся его чувства ко мне в настоящую минуту, я определить не могу, но когда мы встречаемся, то происходит нечто странное. Он смотрит на меня несомненно добрыми глазами, улыбается… и молчит. Я тоже молчу. Это значит, что мы понимаем друг друга. Но всякая наша встреча непременно кончается тем, что он скажет:
– А что же субботы… забыл?
А как-то на днях даже прибавил:
– Ведь надо же наконец! Надо, чтоб благомыслящие люди всех оттенков сговорились между собой! Потому что, в сущности, нас разделяют только недоразумения, и сто̀ит откровенно объясниться, чтобы разногласия упали сами собой. Так до субботы… да?
Вот я в прошлую субботу и отправился.
Когда я приехал, все уже собрались в столовой вокруг большого стола, за которым любезная хозяйка разливала чай. Однако ж хотя я и прежде замечал в обстановке и составе грызуновских раутов некоторые неожиданности, но теперь эти неожиданности уже прямо приняли характер каких-то ловушек, которых никаким образом предусмотреть нельзя.
Прежде всего, меня поразило то, что подле хозяйки дома сидела «Дама из Амстердама», необычайных размеров особа, которая днем дает представления в Пассаже, а по вечерам показывает себя в частных домах: возьмет чашку с чаем, поставит себе на грудь и, не проливши ни капли, выпьет. Грызунов отрекомендовал меня ей и шепнул мне на ухо, что она приглашена для «оживления общества». Затем, не успел я пожать руки гостеприимным хозяевам, как вдруг… слышу голос Ноздрева!!
– Любовь к отечеству, – вещает этот голос, – это такое святое чувство, которое могут понимать и возделывать только возвышенные сердца.
Всматриваюсь: действительно – «он»! Во фраке, в белом галстухе и так благороден, что если бы не сидел за столом, то можно было бы принять его за официанта. Изрекает обязательные афоризмы и даже сознает себя вправе изрекать таковые, потому что успех «Помой» растет не по дням, а по часам. Рядом с ним сидит и почтительно вздрагивает плечами бывший начальник штаба эфиопских войск, юрконький человечек, который хотя и побежден египетским полководцем Радамесом (из «Аиды»), но всем рассказывает, что «только наступившая ночь помогла Радамесу спастись в постыдном бегстве». Несколько поодаль, расположился Расплюев, который не сводит с Ноздрева глаз и, очевидно, завидует его спокойному величию.
Да и сам Грызунов почти не отходит от Ноздрева, так что я начинаю подозревать, уж не он ли скрывается под псевдонимом «Не верьте мне», подписанным под блестящими экономическими статьями, украшающими «Помои». По крайней мере, не успел я порядком осмотреться, как Грызунов отвел меня в сторону и шепнул на ухо:
– Ноздрев нынче – сила! да-с, батюшка, сила! И надо с этой силой считаться! Да-с, считаться-с.
Наконец, и я кой-как примостился между собеседниками и приготовился быть свидетелем прохождения раута. Разумеется, я не буду описывать все подробности раута, но думаю, что краткий рассказ будет для вас небезынтересен. Героем являлся Ноздрев, который все время, пока мы сидели за чаем, удерживал за собой первенствующее значение. Он говорил непрерывно и притом о самых разнообразных предметах. И о том, что «недуг залег глубоко», и о том, что редакция «Помой» твердо решилась держать в руках свое знамя, и о том, что прежде всего необходимо окунуться в волны народного духа и затем предпринять крещение огнем и мечом.
Высказавши это последнее предположение, он на минуту стыдливо умолк, но, видя, что Расплюев еще чего-то от него ждет, прибавил:
– А потом будем врачевать!
Этот вывод всех присутствующих утешил, убедивши, что Ноздрев обдумал свою программу основательно и, стало быть, положиться на него можно. Что касается до Грызунова, то он положительно млел от восхищения. Все время он шнырял около стола и вторил Ноздреву, восклицая:
– Еще бы! это именно моя мысль! Совершенно, совершенно справедливо!
И затем, подбегая ко мне, шептал:
– Да-с, батюшка, это – сила! Как там ни толкуй, что у Ноздрева одна бакенбарда жиже другой, а считаться с ним все-таки надо… да-с! *
Словом сказать, Ноздрев был истинным героем раута. Даже тогда, когда гости наконец оставили столовую и рассеялись по другим комнатам, – и тут компактная кучка постоянно окружала Ноздрева, который объяснял свои виды по всем отраслям политики, как внутренней, так и внешней. И заметьте, милая тетенька, что в числе слушателей, внимавших этому новому оракулу, было значительное число травленых администраторов, которые в свое время негодовали и приносили жалобы на вмешательство печати, а теперь, глядя на Ноздрева, приходили от нее в восхищение и вместе с редактором «Помой» требовали для слова самой широкой свободы.
– Уничтожьте цензуру, – ораторствовал Ноздрев, – и вы увидите, что дурные страсти, проникнувшие в нашу литературу, рассеются сами собою. Мы, благонамеренная печать, беремся за это дело и ручаемся за успех. Но само собой разумеется, что при этом необходимы соответствующие карательные законы, которые сделали бы наши усилия плодотворными…
А Грызунов, слушая эти речи, снова бегал и восклицал:
– Еще бы! Это именно и моя мысль! Именно это самое я всегда говорил!
И, обращаясь ко мне, прибавлял:
– Удивительно, как быстро растут люди в наше время! Ну, что такое был Ноздрев, когда Гоголь познакомил нас с ним, и посмотри, как он… вдруг вырос!!
Тем не менее Грызунов понял, что восхищаться целый вечер Ноздревым да Ноздревым – хоть кого утомит. Поэтому он решился устроить для гостей дивертисмент, который, впрочем, был им обдуман уже заранее.
Прежде всего к содействию была призвана «Дама из Амстердама», показывавшая себя, с успехом, при всех европейских дворах и прозванная, за свою тучность, Царь-пушкой. *
– Господа! – выкрикивал Грызунов, переходя из комнаты в комнату, – Анна Ивановна Зюйдерзее благосклонно изъявила согласие показать опыты «непосредственного самопитания». Не угодно ли в зал? Надеюсь, что вы ничего не имеете против этого? – добавил он, обращаясь к Ноздреву * .
Гости высыпали в зал. На середину комнаты вывели Анну Ивановну и на груди у нее утвердили блюдо с ростбифом в одиннадцать костей. Затем она начала кивать головой: кивала-кивала, и через пять минут не только мякоти, но и костей на блюде не осталось. Публика в волнении все больше и больше суживала круг и, наконец, вплотную обступила ее. Кто-то спросил, неужто она замужем, и, получив ответ, что замужем за слоном, находящимся в Зоологическом саду г-жи Рост, молвил: ого! Кто-то другой громко соображал, что̀ может стоить ее содержание, если она съедает, положим, хоть десять ростбифов в день? а третий, сверх того, напомнил: нет, вы сосчитайте, сколько ей аршин материи на платье нужно! А она между тем, ликующая и довольная, пыхтела и отдувалась. Но, казалось, все еще настоящим образом сыта не была, ибо с такою строгостью посмотрела на маленького сенатора из старого сената, который слишком неосторожно к ней подскочил, что бедняга струсил и поскорей юркнул в толпу.
Но тут, милая тетенька, случился скандал. У одного сенатора – тоже из старого сената – исчез из кармана носовой платок, и так как содержание старичку присвоено небольшое, то он стал жаловаться. Начал язвить, что хоть у него дома платков и много, но из этого еще не явствует, чтоб дозволительно было воровать; что платок есть собственность, которую потрясать не менее предосудительно, как и всякую другую, что он и прежде не раз закаивался ездить на вечера с фокусниками, а впредь уж, конечно, его на эту удочку не поймают; что, наконец, он в эту самую минуту чувствует потребность высморкаться и т. д. Произошло общее смятение. Грызунову следовало бы сейчас же удовлетворить сердитого старика новым платком, а он, вместо того, предпринял следствие: стал подходить к гостям, засматривать им в глаза, как бы спрашивая: не ты ли стибрил? Наконец, взор его остановился на Ноздреве и Расплюеве. Оба отделились от прочих гостей и оживленно между собой перешептывались, как будто делили добычу. Тогда все и для всех сразу сделалось ясным… Но хозяин, чтобы не потрясти ноздревского авторитета, кончил тем, с чего должен был бы начать, то есть велел подать потерпевшей стороне свой собственный платок. А так как при этом один из присутствующих пожертвовал еще старую пуговицу, то добрый старик был с лихвою вознагражден. Недоразумение прекратилось, и Грызунов, чтоб успокоить гостей, ходил между ними и объяснял:
– Что будете делать… это болезнь! И все-таки, повторяю: Ноздрев – сила!
Таким образом Ноздрев вышел из этого казуса с честью.
Когда волнение улеглось, Грызунов приступил к молодому поэту Мижуеву (племянник Ноздрева) * с просьбой прочесть его новое, нигде еще не напечатанное стихотворение. Поэт с минуту отпрашивался, но, после некоторых настояний, выступил на то самое место, где еще так недавно стояла «Дама из Амстердама», откинул кудри и твердым голосом произнес:
Под вечер осени ненастной *
Она в пустынных шла местах.
И тайный плод любви несчастной
Держала в трепетных руках…
Но тут опять произошел скандал, потому что едва успел поэт продекламировать сейчас приведенные стихи, как кто-то в толпе крикнул:
– Грабят!
А на возглас этот в другом углу другой голос взволнованно отозвался:
– Помилуйте! да тут, пожалуй, сапоги снимут!
Оказалось, однако ж, что это было смятение чисто библиографического свойства * . Между гостями каким-то образом затесался старый библиограф, который угадал, что стихотворение, выдаваемое Мижуевым за свое, принадлежит к числу лицейских опытов Пушкина и, будучи под живым впечатлением ноздревских статей о потрясении основ, поспешил об этом заявить. А так как библиограф еще в юности написал об этом стихотворении реферат, который постоянно носил с собою, то он тут же вынул его из кармана и прочитал. Рефератом этим было на незыблемых основаниях установлено: 1) что стихотворение «Под вечер осенью ненастной» несомненно принадлежит Пушкину; 2) что в первоначальной редакции первый стих читался так: «Под вечерок весны ненастной», но потом, уже по зачеркнутому, состоялась новая редакция; 3) что написано это стихотворение в неизвестном часу, неизвестного числа, неизвестного года, и даже неизвестно где, хотя новейшие библиографические исследования и дозволяют думать, что местом написания был лицей; 4) что в первый раз оно напечатано неизвестно когда и неизвестно где, но потом постоянно перепечатывалось; 5) что на подлинном листе, на котором стихотворение было написано ( засообщение этого сведения приносим нашу искреннейшую * благодарность покойному библиографу Геннади * ), сбоку красовался чернильный клякс, а внизу поэт собственноручно нарисовал пером девицу, у которой в руках ребенок и которая, по-видимому, уже беременна другим: и наконец 6) что нет занятия более полезного для здоровья, как библиография.
Когда все это было непререкаемым образом доказано и подтверждено, приступили с вопросом к Ноздреву (он привел Мижуева к Грызуновым), на каком основании он дозволил себе ввести в порядочный дом заведомого грабителя? А при этом намекнули и на пропавший платок. На что Ноздрев объяснил, что поступок Мижуева объясняется не воровством, а начитанностью; что нынешняя молодежь слишком много читает, и потому нет ничего удивительного, ежели по временам происходят совпадения. Что же касается до обвинения его лично в краже платка, то платок этот, действительно, у него в кармане, но каким путем он туда попал – этого он не ведает, потому что был в то время в беспамятстве. Впрочем, – прибавил он, – платок такой, что не сто̀ит об нем разговаривать. И в удостоверение вынул платок из кармана и показал; и все убедились, что действительно не стоило об таком платке говорить.
Таким образом, Ноздрев и во второй раз вышел из затруднения с честью.
Однако ж положение Грызунова было очень щекотливое. Еще один или два таких казуса – и репутация Ноздрева неизбежно должна пошатнуться. Издатель-редактор «Помой» находился в положении того вора, которого, несмотря на несомненные улики, присяжные оправдали и которому судья сказал: «Подсудимый! вы свободны: но знайте, что вы все-таки вор и что присяжные не всегда будут расположены оправдывать вас. Идите и старайтесь вперед не воровать». Поэтому, хотя в программе раута стояли «Рассказы из народного быта», но Грызунов, сообразивши, что литературе в его доме не везет (пожалуй, опять кто-нибудь закричит: караул!), решился пропустить этот номер. Не зная, чем наполнить конец вечера (было только половина двенадцатого, а ужина у Грызуновых не полагалось), он с тоской обводил глазами присутствующих, как бы вызывая охотников на состязание. Как вдруг его взор упал на «сведущего человека», и блестящая мысль мгновенно созрела в его голове.
– Мартын Иваныч! вас-то нам и надо! – воскликнул он в восхищении и, подводя нового корифея к Ноздреву, рекомендовал: – Мартын Иваныч Задека! * на все вопросы имеет приличные ответы! Скатайте из хлеба шарик, киньте наудачу, и на какой номер попадет – везде выйдет исполнение желаний.
– «Сведущий человек»? – благосклонно переспросил Ноздрев и, вынув из кармана табакерку, хотел было нюхнуть табачку, как один из близстоящих сенаторов, без церемоний взяв у него табакерку из рук, сказал:
– Прежде нежели присвоивать себе чужую табакерку…
Но Ноздрев не дал ему докончить и вновь вышел с честью
из затруднения, ответив:
– Что ж, если табакерка принадлежит вам, то возьмите ее!
Задека между тем объяснил присутствующим, что он, действительно, может отвечать на все вопросы, но преимущественно по питейной части.
– Верно… тово? – пошутил Ноздрев, щелкнув себя по галстуху.
– Было-таки, – скромно ответил Задека.
– И дозволите испытать ваши познания?
– Хоть сейчас.
Тогда произошло нечто изумительное. Во-первых, Ноздрев бросил в сведущего человека хлебным шариком и попал на № 24. Вышло: «Кто пьет вино с рассуждением, тот может потреблять оное не только без ущерба для собственного здоровья, но и с пользою для казны». Во-вторых, по инициативе Ноздрева же, Мартыну Задеке некрепко завязали глаза, потом налили двадцать рюмок разных сортов водок и поставили перед ним. По команде «пей!» – он выпивал одну рюмку за другой и по мере выпивания выкликал:
– Полынная! завода Штритера! оптовой склад там-то!
– Столовое очищенное вино! завода Зазыкина в Кашине! Оптовой склад в Москве!
– Зорная! завода Дюшарио и т. д.
И ни разу не ошибся, а зорной даже попросил повторить.
Но этим не удовольствовались. Чтоб окончательно убедиться в правах Задеки на звание «сведущего человека», налили в стакан понемногу (но не поровну) каждый из двадцати водок и заставили его выпить эту смесь. Выпивши, он обязывался определить, сколько в предложенной смеси находится процентов каждого сорта водки. И определил.
Тогда между присутствующими поднялся настоящий вой. Рукоплескали, стучали ногами, обнимали друг друга, поздравляли с «обновлением», кричали, что Россия не погибнет, а кто-то даже запел: «Коль славен»… * Один Ноздрев был как будто смущен: очевидно, он не ожидал, что явится новый Ян Усмович, который переймет у него славу…
Я же, признаюсь, стоял в стороне и думал, как бы хорошо было, если б в эту минуту Грызунов возгласил: господа! не угодно ли закусить?
Но этого не случилось. Напротив, лампы стали меркнуть, меркнуть и вдруг потухли. Гости в смятении ринулись в переднюю, придерживая руками карманы.
Я знаю, вы скажете, что я впадаю в карикатуру. Ах, тетенька, да оглянитесь же кругом! Лжедимитриев, что ли, нет? Ноздревых мало? Задек?
А сверх того, что ж такое, если и карикатура? Карикатура так карикатура – большая беда! Не все же стоять, уставившись лбом в стену; надо когда-нибудь и улыбнуться. Есть в человеческом сердце эта потребность улыбки, есть. Даже измученный и ошеломленный человек – и тот ощущает ее.
Улыбнитесь, голубушка!
P. S. Конечно, вы уж знаете, что бабенька Варвара Петровна скончалась. Сегодня утром происходили ее похороны, на которых присутствовал и я.
Хоронили пышно, как подобает болярыне, которая с Аракчеевым манимаску танцевала.
Из дома гроб везли под балдахином, на траурной колеснице, влекомой цугом в шесть лошадей. Впереди шло попарно шесть протопопов, столько же дьяконов и два хора певчих. За гробом, впереди всех, следовал Стрекоза, совсем расстроенный; по бокам у него неизвестно откуда вынырнули Удав и Дыба, которые, как теперь оказалось, были произведены Аракчеевым из кантонистов в первый классный чин и вследствие этого очень уважали покойную бабеньку, но при жизни к ней не ходили, потому что она, по привычке, продолжала называть их кантонистами. Несколько поодаль, шли родственники с дядей Григорием Семенычем во главе. Тут была и Индюшка с своими индеятами, и оба надворных советника, и бесчисленное множество кадетов, и известный вам отставной фельдъегерь Петр Поселенцев. Последний неутешно плакал. Представьте себе: свою маленькую новгородскую усадьбу бабенька завещала продать и проценты с капитала употреблять на чествование памяти Аракчеева в день его. рождения, а Петруше отказала всего тысячу рублей. Но видеть фельдъегерские слезы – не дай бог никому.
Кроме упомянутых лиц, был на похоронах еще «сведущий человек», потому что нынче ни крестин, ни свадеб, ни похорон (на похороны их поставляют сами гробовщики) без них справлять не дозволяется. А вверху, над шедшей за гробом процессией, невидимо реял «командированный чин» * , наблюдавший за направлением умов.
Хотели было погребсти бабеньку в Грузине, но сообразили, что из этого может выйти революция, и потому вынуждены были отказаться от этого предположения. Окончательным местом успокоения было избрано кладбище при Новодевичьем монастыре. Место уединенное, тихое, и могила – в уголку. Хорошо ей там будет, покойно, хотя, конечно, не так удобно, как в квартире, в Офицерской, где все было под руками: и Литовский рынок, и Литовский за̀мок, и живорыбный садок, и Демидов сад.
– Маменька, маменька! ничего вам больше не потребуется! – уныло выл Поселенцев, в первый раз осмеливаясь публично назвать бабеньку маменькой.
Отпели обедню, вынесли гроб, поставили его с краю зияющего четырехугольника и, после литии, опустили в могилу. И не прошло десяти минут, как могила была окончательно заделана, и перед нашими глазами уже возвышался невысокий холм, на одной из оконечностей которого плотник проворно водружал временный деревянный крест. Стрекоза, покачиваясь, словно в забытьи, беспрерывно кивал всем корпусом, касаясь рукой земли; Дыба и Удав что-то говорили о «пределе», о том, что земная жизнь есть только вступление, а настоящая жизнь начнется – там;это же подтвердил и один из дьяконов, сказав, что как ни мудри, а мимоне проскочишь. Из родственников, молодые с любопытством следили за работой землекопов, каменщиков и плотника, старшие же думали: кто же, однако, за бабенькину квартиру остальные три года, до окончания контрактного срока, платить будет? Петр Поселенцев, выплакав все слезы, обратился к могиле и, к великому огорчению присутствующих, воскликнул:
– Тысячу рублей… на всю жизнь… вот так удружила!!
По окончании похорон, дядя Григорий Семеныч пригласил как духовенство, так и прочих ассистентов в ближайшую кухмистерскую на поминальный обед.
Закуска прошла довольно вяло. Стрекоза продолжал качаться из стороны в сторону, бормоча себе под нос: «вот оно… заключение! ну, и что ж! ну, и извольте!» Очевидно, он разговаривал с бабенькой, которая приглашала его туда, а ему «туда» совсем не хотелось, хотя, по обстоятельствам, и предстояло поспешать. Удав и Дыба начали было рассказ о том, какие в грузинских прудах караси водились – вот этакие! – но, убедившись, что карасями современного человека даже на похоронах не проберешь, смолкли. «Индюшка» рассматривала на свет балык и спрашивала у хозяина кухмистерской, где и почем он его покупал: кадеты и прочая молодежь толпились около закусочного стола и молча гремели вилками; дядя Григорий Семеныч глазами торопил официантов, чтоб подавали скорее. Что же касается до Поселенцева, то он разом, одну за другой, выпил шесть рюмок рижского бальзама и в один момент до того ополоумел, что его вынуждены были увести. Собственно об бабеньке сказал несколько слов из приличия (а может быть, и потому, что этого требовал церемониал), старший отец протопоп, а дьякона̀̀ при этом пропели вечную память, и затем имя ее точно в воду кануло.
За обедом, однако ж, дело пошло живее. Завязалась беседа, в основание которой, как и следовало ожидать, легла внутренняя политика.
Да, милая тетенька, даже в виду только-что остывшего праха, эта язва преследует нас! До того преследует, что, не будь ее, я не знаю даже, что̀ бы мы делали и об чем бы думали! Вероятно, сидели бы друг против друга и молча стучали бы зубами…
Первый толчок дал один из батюшек, сказав, что «ныне настали времена покаянные», на что̀ другой батюшка отозвался, что давно очнуться пора, потому что «все революции, и древние и новые, оттого происходили, что правительства на вольные мысли сквозь пальцы смотрели».
– Сперва одна мысль благополучно пройдет, – соболезновал батюшка, – потом другая, а за ней, смотришь, сто, тысяча… миллион!
Этот же тезис, но гораздо полнее, развил и надворный советник Сенечка, но тут же, впрочем, успокоил присутствующих, сказав, что хотя до сих пор так было, но впредь уж не будет.
– Было у нас этих опытов! довольно было! – воскликнул он, – были и «веянья»! были и целые либеральные вакханалии! и даже диктатура сердца была! Только теперь уж больше не будет! Атта̀нде-с * . С «веяниями»-то придется повременить… да-с!
– Только повременить, а не то, быть может, и совсем оставить? – полюбопытствовал третий батюшка.
– Ну, там оставить или повременить – это видно будет. А только что ежели господа либералы еще продолжают питать надежды, то они глубоко ошибутся в расчетах!
Сенечка высказал это так уверенно, что дьякона̀ слушали-слушали, да и ободрились.
– А мы было приуныли! – отозвался старший дьякон за себя и за прочих дьяконов. – Видим действия несодеянная, слышим словеса неизглаголанная; думаем: доколе, господи! Ан, стало быть, и с концом поздравить можно?
Начались рассказы из современного народного быта, причем рассказчиками являлись, по преимуществу, духовные. «Еду я, намеднись, по конке», «Иду я, намеднись, по Гороховой», «Стоим мы, намеднись, с отцом Петром на паперти» и т. д. И в конце непременно кляуза. Словом сказать, так оживился наш поминальный кружок, что даже причетники, которым был сервирован стол (попроще) в соседней комнате, беспрестанно выбегали оттуда в наш зал с величайшею охотой свидетельствовать. Однако ж Сенечка не решился отбирать показания в кухмистерской; но очень ловко намекнул, что ежедневно, от такого-то до такого-то часа, он бывает у себя в камере.
Шла, впрочем, речь и об «отрадных» явлениях, и в том числе, конечно, о Ноздреве.
– Какой был гнилой сосуд! – дивился четвертый батюшка, – а вот упал на него луч и какие вдруг кристальные струи из этакого, с позволения сказать, вместилища потекли!
Дядя Григорий Семеныч сидел и корчился. Неоднократно он порывался переменить разговор, но это положительно не удавалось, потому что все головы были законопачены охранительным хламом, да и у него самого мыслительный источник словно иссяк. Наконец он махнул рукой, шепнув мне:
– Пошла в ход управа благочиния! Нет в мыслях благородства, да и все тут! Хоть бы досидеть как-нибудь!
Среди оживлений проснувшейся ябеды совсем забыли о «сведущем человеке», который притулился между кадетами и, по-видимому, настолько превратно проводил время, что даже забыл, что ему, рано или поздно, придется отвечать.








