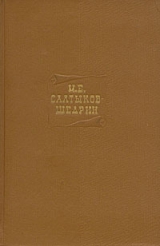
Текст книги "Том 14. За рубежом. Письма к тетеньке"
Автор книги: Михаил Салтыков-Щедрин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 42 (всего у книги 54 страниц)
Драматизм личной судьбы, жизнь в захолустье далекой провинции ослабили для Салтыкова остроту непосредственного переживания трагического исхода 1848 г. Он не испытал того идеологического шока от катастрофы революции, который перенес находившийся в эпицентре событии Герцен. Восторженная вера в революционную Францию не могла не потерпеть крушения и у Салтыкова. Но ни страшные «июньские дни», когда буржуазия, руками Кавеньяка, с неслыханной жестокостью подавила восстание парижского пролетариата, ни «позор 2-го декабря», когда «Бонапарт, с шайкой бандитов, сначала растоптал, а потом насквозь просмердил Францию», ни зверства «одичалых консерваторов-версальцев» в дни Коммуны, ни наступившие затем «скверные годы» – годы торжества победителей над теми, кто штурмовал парижское небо в 1871 г., – не вытеснили из памяти писателя лучезарного образа «страны чудес», «страны начинаний», «страны упований» его юности. Представление о Франции, как о «светоче, лившем свет coram hominibus» – всему человечеству, – на всю жизнь сохранилось в благодарной памяти Салтыкова, хотя он и понимал, со всей ужасающей его ясностью, что «светоча» уже нет и что теперь на том месте, где он горел, «сидят ожиревшие менялы и курлыкают». Тем не менее воспоминание о «светоче», скрыто или явно, присутствует во всех размышлениях Салтыкова о Франции, оно стало arrière-pensée писателя в думах о ней. И эта патетическая arrière-pensée пробивается наружу даже в наиболее беспощадных оценках французской «сытой и безыдейной республики». Она придает сатирическим обличениям особенные драматизм и глубину и не позволяет социальному критицизму Салтыкова доходить до граней отчаяния, как это, отчасти, случилось с Герценом в его книге «С того берега».
Но светлые тоны, столь контрастные темным краскам в описании Берлина и французских буржуа, господствуют в «За рубежом» не только в воспоминаниях о революционной и социалистической Франции 1848 г. Они присутствуют и в зарисовках внешнего облика Парижа, каким его узнал Салтыков. Эти зарисовки имеют всю цену первоклассных автобиографических свидетельств, хотя они подчинены идейно-художественным задачам произведения и органически входят в его изобразительную ткань.
«Западник» Салтыков не любил бывать «за границей», то есть в Западной Европе, и впервые поехал туда, и то по настоянию врачей, когда ему исполнилось почти что пятьдесят лет. Для него, как для новгородского богатыря Вясилия Буслаева, это чаще всего было «гулянье неохотное» по «стране святых чудес» [284]284
Слова А. С. Хомякова о Западной Европе (из стихотворения «Мечта»). См.: Орест Миллер, Русские писатели после Гоголя, ч. II, СПб. 1886, стр. 190, 195.
[Закрыть]. Он скучал там и чуть ли не с первого дня начинал вести отсчет времени, оставшегося до назначенного срока возвращения на родину, в Петербург, к своему журналу, к своему письменному столу. Но исторические заслуги Запада он – один из великих русских наследников европейского Просвещения – разумеется, ценил. «Священные камни Европы» существовали и для него. Но кое-что он любил в чужих землях не только «идеологически», но и самой непосредственной живой любовью. Прежде всего и больше всего это относилось к Парижу, а в нем – к жизни улиц и бульваров, к всегда динамичной и «раскованной» жизни парижской толпы, что так контрастировало не только «унылому» Берлину, но и департаментски-чиновничьему предельно-субординированному Петербургу. Парижу и его толпе Салтыков сложил в «За рубежом» хвалу, исполненную радостного восхищения, – один из многих русских гимнов великому городу, совершенно, однако, необычный для жестко-суровых тональностей сатирика.
«Солнце веселое, воздух веселый, магазины, рестораны, сады, даже улицы и площади – все веселое», – передает писатель свои впечатления от французской столицы, повторяя слово «веселый» и производные от него десятки раз. «Самый угрюмый, самый больной человек, – заключает Салтыков, обобщая в этом резюме собственный опыт 1875–1876 гг., – и тот непременно отыщет доброе расположение духа и какое-то сердечное благоволение, как только очутится на улицах Парижа, а в особенности на его истинно сказочных бульварах».
Революционное прошлое Франции и «веселый», «свободно двигающийся» Париж, в котором «вот-вот сейчас что-то начнется», как кажется приезжему иностранцу, – два ярких источника света на темном полотне буржуазной Франции, созданном кистью русского писателя. Обозначен на нем, впрочем, еще один источник света, хотя лучи его едва мерцают – пробуждающаяся активность французского пролетариата. Симпатии Салтыкова на стороне этой «силы будущего», заявляющей о своей готовности свергнуть «владычество буржуазии». Но писатель неясно представляет себе пути и методы революционного рабочего движения. И он недостаточно знаком с ним, о чем заявляет с присущей ему прямотой. В поле его зрения находится, главным образом, «мирное», «экономическое» движение рабочего класса, широко освещавшееся не только в социалистической, но и в буржуазной печати. Салтыков отмечает, например, что «забастовки рабочих хотя и нередки, но непродолжительны и всегда кончаются к обоюдному удовольствию». В этом, как и в ряде других замечаний об «обоюдном удовольствии», с которым разрешаются классовые конфликты между рабочими и буржуазией, Салтыков правильно подметил тот исторический факт, что после поражения Парижской коммуны рабочее движение во Франции первое время возрождалось не столько на революционной основе, сколько на почве различных мелкобуржуазных идей – бланкизма, прудонизма, поссибилизма. Усиление революционных настроений в среде французского пролетариата наблюдалось до середины 80-х годов в сравнительно небольшой части рабочих и было поэтому менее заметно для наблюдения. Вследствие этих причин оценки в «За рубежом» рабочего движения того исторического момента сочувственны, но отмечены печатью скептицизма.
«И еще говорят, – заканчивает Салтыков главнейшую из «французских» глав «За рубежом», IV, – что в последнее время в Париже уже начинается движение, имеющее положить конец владычеству буржуазии. Действительно, рабочие кварталы, с осуществлением амнистии, как будто оживились, но размеры движения еще так ничтожны, что ни цели его, ни темперамент, ни шансы на успех – ничто не выяснилось. Покуда имеются в виду только страшные слова, которые, впрочем, не производят особенного впечатления, потому что за ними не слышится той жизненности и страстности, которые одни могут дать начало действительному движению».
Таковы главные черты буржуазного мира Запада, увиденного и изображенного Салтыковым в начале того исторического периода, когда революционность буржуазной демократии уже исчерпала себя (в Европе), а революционность социалистического пролетариата еще не вышла из состояния кризиса, вызванного поражением Парижской коммуны.
* * *
В этом мире праздно скитаются или, напротив того, деятельно хлопочут, скучают или развлекаются, плетут интриги или тоскуют по родине путешествующие русские. Все они «несут с собой» свою страну, хотя и весьма разную для каждого, все влекут груз сложившихся взглядов и устоявшихся привычек, собственных забот и интересов.
С первых же мгновений пребывания за рубежом они оказываются в сфере двух резко не совпадающих реальностей: европейских впечатлений и вызываемых ими, по ассоциации, отечественных воспоминаний. «Буйные хлеба» на обиженном природою прусском взморье – это впечатления. Картины того, как «выпахались поля» и «присмирели хлеба» на чембарских благословенных пажитях, где глубина чернозема достигает двух аршин, – это воспоминания. Весело глядящие дома немецких «бауэров», с выбеленными стенами и черепичной крышей, – впечатления; мужичьи почерневшие срубы, с всклокоченной соломенной крышей, – воспоминания. « …Везде изобилие, а у нас – «не белы снеги», – обобщает Салтыков калейдоскоп возникающих у русского путешественника сопоставлений «чужого» и «своего», – везде резон, а у нас – фюить! Везде люди настоящие слова говорят, а мы и поднесь на езоповских притчах сидим; везде люди заправскою жизнью живут, а у нас приспособляются».
…Возникает тема отсталости России – экономической, социально-политической, граждански-правовой, возникают и раздумья о грядущих судьбах страны. Это одна из двух главных тем произведения, и разрабатывается она в «полифоническом» сочетании с развитием другой главной темы – критики буржуазного Запада. Такая «многоголосная» форма позволяет писателю сопоставлять и сочетать в определенном единстве как обе эти контрастирующие темы, так и множество относящихся к ним отдельных «голосов» и материалов.
Критика Салтыковым отечественной отсталости исполнена историзма. Вместе с тем она основана на современности и предпринята ради будущего. «Всегда эта страна, – пишет Салтыков, – представляла собой грудь, о которую разбивались удары истории. Вынесла она и удельную поножовщину, и татарщину, и московские идеалы государственности, и петербургское просветительское озорство и закрепощение. Все выстрадала и за всем тем осталась загадочною, не выработав самостоятельных форм общежития». Слова эти свидетельствуют прежде всего о глубоком историческом осмыслении Салтыковым причин вековой отсталости России от старых стран Запада [285]285
Исторически-просветительский подход к вопросу об отсталости России по сравнению с развитыми странами Европы сложился у Салтыкова давно. Еще в 1861 г. он восклицал в очерке «Наши глуповские дела»: «Жизнь веков! Ты, которая была столь обильна дарами для умновцев < …> чем была ты для Глупова?» (т. 3, стр. 495).
[Закрыть]. Вместе с тем в них содержится одно из многих заявлений писателя-демократа и утопического социалиста о том, что ни одна из «форм общежития», возникавших до сих пор на русской национально-государственной почве, не отвечала коренным интересам трудовых масс. Не отвечали этим интересам, в понимании Салтыкова, и те «формы общежития», которые хотя и не существовали (по крайней мере, в полном своем виде) в исторической действительности, но были «выработаны» русской мыслью и являлись, таким образом, идеологическими реальностями.
Салтыков враждебно относился к славянофильскому мифу «святой Руси», как и ко всем другим «почвенническим» и националистическим доктринам. В идеализируемых ими «исконно русских» патриархальных началах он видел феодально-крепостническую основу. С другой стороны, он не верил в общинный социализм народников, в так называемый «русский социализм». Оба этих противостоящих друг другу направления русской общественной мысли представлялись ему утопиями: первое – реакционно-шовинистической; второе – революционно-романтической. И с тем и с другим направлением Салтыков давно уже вел полемику. Спорит он с ними и на страницах «За рубежом», в частности, с народнической апологией общины и с призывом к «смирению», понимаемому в качестве высшей «народной правды», провозглашенным в «пушкинской речи» Достоевского.
Вместе с тем никто из русских «западников» не обладал такой полнотой внутренней свободы по отношению к Европе и ее общественно-политическим формам и институтам («призракам»), как Салтыков. Он не только был непричастен ни к одному из видов западнического доктринаризма в России, вроде, например, англомании Каткова в конце 50-х годов. Его аналитическому уму был совершенно чужд «сплошной» взгляд на Европу как на нечто целостное и однородное, заслуживающее безоговорочного поклонения или такого же отрицания. Несовершенства общественного устройства в странах Запада он видел так же отчетливо, как и преимущества достигнутых там более высоких «форм общежития». И, быть может, единственную черту, которую в своем просветительско-этическом пафосе Салтыков склонен был приписывать всейзападноевропейской жизни, хотя все же с существенными оговорками, – это чувство гражданственности(«социабельности», по слову Герцена), столь долго и сильно подавлявшееся в России крепостническим строем и охранявшим его самодержавием.
«Я был бы неправ, – замечает Салтыков по поводу своей критики прусских порядков, – если бы скрыл, что на стороне Эйдткунена есть одно важное преимущество, а именно общее признание, что человеку свойственно человеческое. Допустим, что признание это еще робкое и неполное и что господин Гехт, конечно, употребит все от него зависящее, чтоб не допустить его чрезмерного распространения, но несомненно, что просвет уже существует и что кнехтам от этого хоть капельку да веселее». В этом признании Салтыков усматривал « начало всего».
Была, впрочем, и другая черта, которую Салтыков еще недавно приписывал всемуЗападу, – неуклонность поступательного исторического движения. Признавая в «Господах ташкентцах», что политические и общественные формы, выработанные Западной Европой, далеко не совершенны, Салтыков вместе с тем заявлял: «Но здесь важна не та или другая степень несовершенства, а то, что Европа не примирилась с этим несовершенством, не покончила с процессом создания и не сложила рук, в чаянии, что счастие само свалится когда-нибудь с неба».
Слова эти были написаны до событий Парижской коммуны, определивших перелом в социально-исторической «биографии» буржуазной Европы. Как уже сказано, Салтыков сразу заметил этот перелом и угадал в новом явлении полускрытые еще тенденции предстоящей утраты буржуазным обществом поступательного движения. К буржуазной демократии Салтыков подходил, как к исторической, то есть преходящей, категории. Правда, спустя четыре года после поражения Коммуны, находясь во Франции и подвергая ее «государственность» сокрушительной критике, Салтыков все же не терял еще полностью веры в «заправскую Европу». Он писал тогда П. В. Анненкову: «И все-таки не отчаиваешься: отсюда, а не от инуду правда будет» [286]286
Письмо от 20 ноября/2 декабря 1875 г.
[Закрыть].
Но пять лет существования Французской республики «с сытыми буржуа во главе, в тылу и во флангах», а также германской воинствующе-националистической империи, рассеяли эти надежды. В «За рубежом» Салтыков создает исполненный глубочайшего социального критицизма образ буржуазной Европы, которая «покончила с процессом создания», утратила «движение» и входит в зону духовной неподвижности. «Француз-буржуа, – пишет Салтыков, – хотя и не дошел еще до столбняка, но уже настолько отяжелел, что всякое лишнее движение, в смысле борьбы, начинает ему казаться не только обременительным, но и неуместным. Традиция, в силу которой главная привлекательность жизни по преимуществу сосредоточивается на борьбе и отыскивании новых горизонтов, с каждым днем все больше и больше теряет кредит».
Еще с большей уверенностью констатирует Салтыков отсутствие «движения» (в смысле «отыскивания новых горизонтов») в прусско-юнкерской Германии. «В Берлине, – пишет он, – даже самые камни вопиют: завтра должно быть то же самое, что было вчера!»
Устремляться «в погоню за идеалами» в такуюЕвропу, в Европу, «повторяющую зады», подобно тому как стремился в предреволюционный Париж 1847 г. Герцен, русской радикальной демократии было уже незачем. Это не значит, однако, что Салтыков, выступающий в «За рубежом» с такой едкой непримиримой критикой торжествующего европейского буржуа, встал на путь романтического отрицания капиталистически развитой Европы.
Порядок, существующий «под Инстербургом», – утверждает писатель, – выше «порядка в Монрепо». Но, формулируя такой вывод, Салтыков делает две существенных оговорки. Во-первых, он не считает «прусские порядки совершенными и прусского человека счастливейшим из смертных». «Я очень хорошо понимаю, – заявляет писатель, – что среди этих отлично возделанных полей речь идет совсем не о распределении богатств,а исключительно о накопленииих [287]287
Эти выражения заимствованы из политико-экономической литературы утопических социалистов Первое означает социалистическую систему организации общества, второе – буржуазную, капиталистическую.
[Закрыть], что эти поля, луга и выбеленные жилища принадлежат таким же толстосумам-буржуа, каким в городах принадлежат дома и лавки, и что за каждым из этих толстосумов стоят десятки кнехтов, в пользу которых выпадает очень ограниченная часть этого красивого довольства». Во-вторых, Салтыков утверждает, что, несмотря на все отмеченные им различия внешних форм и способов ведения хозяйства, «политико-экономические основания», которые практикуются под Инстербургом, «совершенно равносильны тем, которые практикуются и под Петергофом».
Другими словами, Салтыков отчетливо видит социальное расслоение не только в русской, но и в немецкой деревне и тем самым признает единство принципав их социально-экономической структуре. России, формулирует Салтыков (не впервые) свои итоговые выводы, суждено пройти теми же путями, что и странам Запада, и у нее уже существуют и действуют своя буржуазия и свой «пролетариат».
Вывод этот являлся одним из главнейших тезисов, вокруг которого шла борьба в том большом споре эпохи о путях и формах развития страны, который велся тогда всеми направлениями русской общественной мысли и находил отражение в литературе.
В связи со сказанным необходимо, однако, сделать одно замечание. В русской публицистике эпохи 70-х-начала 80-х годов слово «пролетариат» еще редко применялось в его научном значении, установленном Марксом, – класс наемных рабочих в капиталистическом обществе. Гораздо чаще оно означало вообще лиц, не имеющих собственности, ближайшим же образом лишенных земельной собственности крестьян и мещан. Таково в основном значение слова «пролетариат» и в том знаменитом месте из главы I «За рубежом», столь часто цитируемом без учета изложенного обстоятельства, где, споря с народниками, Салтыков пишет: «И еще говорят: в России не может быть пролетариата, ибо у нас каждый бедняк есть член общины и наделен участком земли. Но говорящие таким образом, прежде всего, забывают, что существует громадная масса мещан, которая исстари не имеет иных средств существования, кроме личного труда, и что с упразднением крепостного права к мещанам присоединилась еще целая масса бывших дворовых людей, которые еще менее обеспечены, нежели мещане …» Очевидно, что здесь имеется в виду еще не пролетариат как класс в научном смысле слова, а та социальная среда, из которой рекрутировались его кадры в России, в период утверждения в ней промышленного капитализма.
Но необходимое уточнение не колеблет очевидного и давно констатированного факта: Салтыков полемизирует здесь с народническими теоретиками, с их верой в возможность, непосредственного перехода – минуя капитализм и «язву пролетариатства» – к социалистическому строю через крестьянскую общину. Народническим взглядам на общину Салтыков противопоставляет свои реалистические наблюдения и выводы, относящиеся к современной форме этого исторического института русской народной жизни. Салтыков спрашивает: «Что такое современная русская община и кого она наипаче обеспечивает, общинников или Колупаевых?» И отвечает со всей определенностью, что современная община обеспечивает прежде всего именно интересы «мироедов», Колупаевых и Разуваевых, а также фискальные интересы государства, являясь в руках властей дешевым и удобным средством для сбора налогов по принципу круговой поруки.
Критика в «За рубежом» народнической идеализации общины, как экономической ячейки народоправия и справедливого социального строя, полемика с учением народнических теоретиков об «особых» «русских» условиях, будто бы позволяющих стране избежать капитализма и «язв пролетариатства», весьма близко подходили к высказываниям молодого Ленина того периода, когда ему приходилось вести непрерывные бои с народниками. Однако Ленин выступал против народников уже с позиции научногосоциализма – мировоззрения, общественной опорой которого был пролетариат. У Салтыкова не было и не могло еще быть этой опоры для философско-исторического оптимизма. Рабочего класса и его исторической миссии он еще не видит, по крайней мере, в полную меру ясности. Отсюда не только сильные (трезвость, реализм), но и слабые (скептицизм) стороны в полемике Салтыкова. Ленин писал о народниках: «Вера в особый уклад, в общинный строй русской жизни:отсюда – вера в возможность крестьянской социалистической революции, – вот что одушевляло их, поднимало десятки и сотни людей на геройскую борьбу с правительством» [288]288
В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 1, стр. 271.
[Закрыть]. Салтыков не верил ни в социалистическую природу русской общины, ни в возможность поднять современное ему крестьянство на победоносную борьбу с самодержавием. Отсюда скептицизм Салтыкова, затронувший многие страницы и в «За рубежом».
Кроме полемики с народниками, другой остро-проблемной особенностью русского материала «За рубежом» является вопрос о революции (крестьянской, т. е. буржуазно-демократической по своему объективному смыслу). Вопрос этот стоял на череду того исторического момента в жизни России, которым рождена книга и в ракурсе которого ее следует воспринимать. Это был короткий, но крайне динамичный период нового и резкого обострения общественно-политической борьбы, нового подъема «волны революционного прибоя» [289]289
Там же, т. 5, стр. 45.
[Закрыть], когда в России сложилась вторая после эпохи крестьянской реформы, революционная ситуация.
Возможность революционного разрешения кризиса самодержавия на рубеже 70-80-х годов признавалась (с весьма разным, конечно, отношением к такой перспективе) представителями всех политических лагерей, общественных направлений и групп – от наносивших террористические удары деятелей «Народной воли» до царя и его министров [290]290
12 июня 1879 г. военный министр Д. А. Милютин записал в своем дневнике: «По возвращении из Крыма я нашел в Петербурге странное настроение; даже в высших правительственных сферах толкуют о необходимости радикальных реформ, произносится даже слово «конституция». Никто не верует в прочность существующего порядка вещей». – «Дневник Д. А. Милютина». Ред. и примеч. П. А. Зайончковского, т. 3, стр. 148.
[Закрыть]. Большие и радостные надежды на русскую революцию питали социалистические демократы Запада, в том числе К. Маркс и Ф. Энгельс.
Ожидание назревающей в России революции, настроение политического подъема русской демократии, чувствуется во многих местах первых глав «За рубежом» [291]291
В одном из отзывов печати на «За рубежом» читаем: « …в настоящую минуту у нас говорят и пишут о политических чаяниях гораздо больше, чем когда-либо. Политическое чаяние, – à l’ordre du jour. Вот хотя бы Щедрин; наш талантливый и неподражаемый сатирик, – уж чего больше, кажется, скептик, а и он принялся беседовать о политических чаяниях, хотя и в своеобразной форме, не исключающей скептицизм» («Журнальные заметки». – «Новороссийский телеграф», Одесса, 1881, 24 февраля, № 1827, стр. 1–2).
[Закрыть], но определеннее всего в знаменитой пьесе-диалоге «Мальчик в штанах и мальчик без штанов». Включенный в главу I книги, этот диалог служит своего рода ключом к пониманию идейной сути всего произведения, его историко-философской мысли, которая здесь как бы сильно и сжато «резюмирована». «Диалог», как, впрочем, и вообще первые главы «За рубежом», создававшиеся в условиях некоторого смягчения цензурной практики в условиях кризиса режима, характеризуется известной свободой от эзоповской манеры. Салтыков пишет здесь проще, яснее, без особых затемнений смысла сложными иносказаниями и трудными метафорами.
Немецкий «мальчик в штанах» и русский «мальчик без штанов» ведут между собой совсем не детский разговор. В нем обсуждаются вопросы, относящиеся к философии истории – о социально-экономическом развитии Запада и России и об их будущих судьбах. Образ «мальчика в штанах» олицетворяет положение людей труда, народа, в первую очередь крестьянства в мире развитого западноевропейского капитализма, представленного фигурой «господина Гехта» (Hecht по-немецки – щука). Образ «мальчика без штанов» персонифицирует русское крестьянство, существующее в условиях социально-экономической и гражданско-правовой отсталости и всех видов бедности, в условиях «недостаточного развития капитализма» (Ленин). Российский «азиатский» капитализм представлен фигурой одного из салтыковских «чумазых» – «господином Колупаевым».
Русский мальчик, симпатии и любовь к которому автора видны и сквозь покров сатиры, обличает немецкого в том, что он «за грош черту душу продал», что родители его заключили с «господином Гехтом» «контракт». Немецкий мальчик, в свою очередь, полагает, что русский мальчик поступил гораздо неразумнее, так как отдал Колупаеву свою «душу» «совсем задаром». Но «мальчик без штанов» в этом-то и видит свое большое, преимущество: «Задаром-то я отдал – стало быть, и опять могу назад взять …» – заключает он разговор с «мальчиком в штанах», несколько загадочно, но оптимистически заверяя своего собеседника в другом месте: «Погоди, немец, будет и на нашей улице праздник!»
«Как хотите, а это очень и очень интересная разница!» – заключает Салтыков. И она действительно «очень интересна» и важна.
Салтыков устанавливает здесь чрезвычайно существенное общее различие в положении крестьянства в странах Западной Европы и России. Корень различия – в ином историческом положении по отношению к национальной буржуазной революции. Для крестьянских масс Запада революция, освободившая их от гнета феодальной эксплуатации, уже позади. Они живут в сложившемся капиталистическом обществе, где законы буржуазной борьбы за существование царствуют безраздельно. Для русского крестьянства, хотя и освободившегося от наиболее суровых форм личной зависимости от помещиков, мир еще не стал до конца буржуазным, вследствие множества сохраненных реформами 60-х годов крепостнических пережитков, включая и такой «пережиток», как самодержавие. Развитие русского капитализма может пойти, применяя определение Ленина, по «прусскому» или по «американскому» пути [292]292
В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 15, стр. 340.
[Закрыть].
В Европе взаимоотношения мелких крестьянских земледельцев с «гросс-бауэрами» – «господином Гехтом» определяются «правилами», «контрактом». Это мир развитых капиталистических отношений. Но русский «мальчик без штанов» предпочитает этому царству буржуазной «законности» произвол и хищничество «господина Колупаева» – молодой и некультурной отечественной буржуазии.
Почему предпочитает? Потому что в его патриархально-крестьянском представлении всякий «контракт» связывает, лишает свободы [293]293
Взгляд русского мальчика, изложенный Салтыковым, был близок взглядам великого выразителя «мужичьих интересов» Толстого. «Если русский народ, – записал он в Дневнике 3 июля 1906 г., – нецивилизованные варвары, то у нас есть будущность. Западные же народы – цивилизованные варвары, и им уже нечего ждать» (Л. Н. Толстой, Полное собр. соч., т. 55, стр. 233). И еще – в записи слов Толстого, сделанной Д. П. Маковицким: «Это одна из тех вещей – мечта, которую не напишу: как там, на Западе, люди – рабы своих же законов, меньше свободны, чем в России …» (Д. Маковицкий, «У Толстого». Запись в дневнике от 15 ноября 1907 г. – Рукопись, Государственный музей Л. Н. Толстого в Москве).
[Закрыть]. Он же не только не желает закабаляться к Колупаеву, но и надеется в скором времени совсем и сразу избавиться от него.
Другими словами, Салтыков, признававший неизбежность буржуазного развития для России, допускает здесь возможность революционного типа этого развития, или «американского типа», а не «прусского».
Вложенные в уста «мальчика без штанов» слова: «Надоел он нам, го-спо-дин Ко-лу-па-ев!» и «с Колупаевым мы сочтемся …Это верно!» – исполнены ожиданием предстоящих социальных потрясений, революционных перемен. Об этом же еще яснее идет речь в том месте следующей главы II, где писатель говорит, имея в виду русского человека, склонного восхищаться Европой и «интересной жизнью» в ней: «Пусть примет он на веру слова «мальчика без штанов»: «у нас дома занятнее, и с доверием возвратится в дом свой, чтобы занять соответствующее место в представлении той загадочной драмы, о которой нельзя даже сказать, началась она или нет».
Пожалуй, никогда и нигде Салтыков, с недоверием относившийся к практическим возможностям современного ему революционного движения, целям которого объективно не только сочувствовал, но и служил своим пером, не заявлял о вероятности революции с такой определенностью, как в первых главах «За рубежом», хотя ноты скептицизма звучат и здесь (хотя бы в определении ожидаемой революции как «загадочной драмы»).
Но ближайшие месяцы русской жизни подтвердили обоснованность не надежд, а сомнений Салтыкова. «Праздник» на «улице» русского мальчика не состоялся и на этот раз. Натиск демократических сил в конце 70-х годов на устои самодержавной власти вновь, как и в начале 60-х годов, был отбит. Героическая «Народная воля» исчерпала себя актом 1 марта 1881 г. Вместе с тем истощилась и революционная ситуация в целом. В стране все еще не было в наличии организованных социальных сил, достаточных для того, чтобы подняться и провести революцию. После убийства Александра II, справившееся с первоначальной паникой и колебаниями правительство перешло в контрнаступление. Последние две главы «За рубежом» писались в политической обстановке, резко отличной от обстановки общественного подъема и оптимизма, в которой создавались первые главы книги.
Предвидя наступление новой и жесточайшей реакции, Салтыков создает один из наиболее мрачных и жестоких своих шедевров «Разговор свиньи с правдой». Образ «Торжествующей свиньи», порешившей «сожрать» «правду», стал в творчестве писателя и во всей русской литературе одним из сильнейших воплощений всякой политической и общественной реакции, в какое бы время и на какой бы национальной почве она ни свирепствовала.
Диалог двух мальчиков и диалог «свиньи» с «правдой» являются двумя кульминациями в «За рубежом». В них отразились «апогей» и «перигей» общественных настроений, в которых создавалось произведение. Новая политическая ситуация заставила Салтыкова возвратиться в конце книги к «мальчику без штанов», оптимистически представленному в главе I, и по-иному взглянуть на его будущее.
Крестьянский «мальчишка-постреленок», щеголявший по деревенскому обиходу «без штанов», превращается в финале повествования в отлично одетого молодого малого, работающего «артельщиком» [294]294
Согласно словоупотреблению эпохи, «артельщиками» называли носильщиков на станциях железных дорог и на пароходных пристанях. Доходы артельщиков зависели главным образом от чаевых. Во многих статьях о «За рубежом» слово «артельщик» безоговорочно понимается в значении «железнодорожного пролетария». Отсюда делаются далеко идущие, но неосновательные выводы.
[Закрыть]. Происшедшая метаморфоза вызывает «автора» на следующий диалог с бывшим «мальчиком без штанов»:
«– От Разуваева [295]295
Цитируемый диалог продолжает беседу двух «мальчиков» из главы I. Однако в ней идет речь не о Разуваеве, а о социально однозначном Колупаеве.
[Закрыть]штаны получили? – спросил я …
– От него …
– По контракту? – спрашиваю.
– Не иначе, что так.
– Крепче?
– Для господина Разуваева крепче, а для нас и по контракту все одно, что без контракта.
– Значит, даже надежнее, нежели у «мальчика в штанах»?
На этот вопрос ответа не последовало».
«Автор» с горьким недоумением вспоминает, что сделка, закончившаяся получением «штанов», состоялась вскоре после того, как русский «мальчик» «хвастался» перед немецким, что он хоть и без штанов, да зато Разуваеву души не продал, «а ты, немец, контрактом господину Гехту обязался, душу ему заложил …».
Как следует понимать эти иносказания? С какими мыслями о будущем заканчивал Салтыков одну из наиболее острых и проблемных своих книг, начатую в условиях демократического подъема и революционной ситуации, а завершенную в условиях их поражения?
Как и финалы некоторых других салтыковских произведений, «Истории одного города», «Современной идиллии», «заключение» книги «За рубежом», хотя и лишено полной определенности, исполнено «мрачных дум» и чувства тревоги.
«Контракт», заключенный Колупаевым с выросшим в меру зрелости «мальчиком без штанов», не может означать ничего другого, как признание факта укрепившегося и в России, вслед за Европой, буржуазного порядка вещей. Возобновляя после вятской ссылки литературную работу, Салтыков так излагал свои тогдашние мысли о жизни русского народа: «Будет ли он развиваться самобытно и своеобразно или подчинится законам развития, общим всем народам, для нас это вопрос темный, хотя сознаемся, что последнее предположение кажется нам более основательным». Время, действительность давно уже укрепили Салтыкова в обоснованности последнего предположения. Но хотя, в реалистическом понимании писателя, капиталистический путь развития был неотвратимой исторической закономерностью, воспринимался он им трагически,как своего рода «крестный путь» России, в первую очередь русского крестьянства, отданного промышленной революцией на «поток» и «разорение».
Ясен и смысл молчаниябывшего «мальчика без штанов» в ответ на недоуменный вопрос о судьбе его недавнего, столь решительно заявленного намерения свести счеты с Колупаевым. Оно свидетельствует о крахе, в изменившейся политической обстановке, имевшихся недавно надежд на радикальные перемены в стране. Вместе с тем откат волны революционного прибоя обнажил и нечто такое, что раньше было полускрыто и сознавалось с меньшей отчетливостью. Порядок буржуазных отношений, складывающихся в стране, отягощенной множеством крепостнических пережитков, с населением, в массе своей находившимся на чудовищно низком уровне экономического достатка и культурного развития, сулил людям труда в России гораздо большую зависимость от капиталистической эксплуатации и большие страдания, чем это знала современность Запада [296]296
Со своих просветительских позиций Салтыков придавал, в частности, большое – отрицательное – значение общей «некультурности» российского капитализма. «Русский чумазый, – говорит писатель в «Мелочах жизни», – перенял от западного своего собрата его алчность и жалкую страсть к внешним отличиям, но не усвоил себе ни его подготовки, ни его трудолюбия».
[Закрыть]. По-видимому, именно в таком смысле следует понимать признание бывшего «мальчика без штанов», что его подчиненность Разуваеву, независимо от наличия или отсутствия «контракта» с ним, будет, пожалуй, «крепче», «надежнее», чем у его западноевропейского коллеги – материально обеспеченного, социально более зрелого и политически грамотного «мальчика в штанах».








